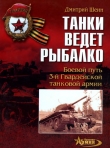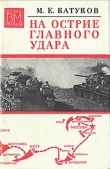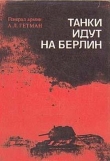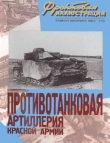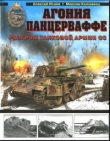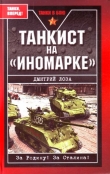Текст книги "Стальная гвардия"
Автор книги: Павел Ротмистров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Это сообщение было встречено горячими аплодисментами и троекратным "ура".
Последовали тосты за нашу партию, советский народ и его героическую Красную Армию.
Выступивший представитель местной власти заверил, что трудящиеся Котельниково, все жители Котельниковского района навсегда сохранят чувство глубокой благодарности к своим освободителям.
Сейчас одна из улиц города названа улицей Танкистов, другая – именем моего племянника П. Л. Ротмистрова, павшего в боях под Котельниково.
Мне хотелось бы сказать несколько теплых слов об этом офицере, пользовавшемся у нас большим и заслуженным авторитетом. На фронте Петр Леонидович находился с первых дней войны. В битве за Москву занимал скромную должность начальника 5-й ремонтно-восстановительной базы, а в январе 1942 года был назначен помощником командира 3-й гвардейской танковой бригады по технической части. За полтора года войны под его руководством было отремонтировано свыше 750 танков и до 450 автомашин. Это был мастер высокой квалификации. Он, например, добился того, что после ремонта моторов наших танков они работали по 500 и более часов вместо нормативных 150.
Вместе с тем П. Л. Ротмистров не раз проявлял бесстрашие и мужество, лично эвакуируя подбитые танки с поля боя, нередко под огнем артиллерии и минометов или бомбежкой авиации противника.
Настоящие танкисты любят и почти одухотворяют свою боевую машину. Видел я и их неподдельную радость при возвращении в строй танка, "вылеченного" заботами П. Л. Ротмистрова, труженика и бойца.
* * *
1 января 1943 года директивой Ставки Верховного Главнокомандования Сталинградский фронт был переименован в Южный. Перед ним была поставлена исключительно важная задача – ударами на Новочеркасск, Ростов, Сальск, Тихорецк отрезать немецко-фашистским войскам пути отхода с Северного Кавказа и во взаимодействии с Черноморской группой войск Закавказского фронта окружить и разгромить кавказскую группировку противника.
Судя по глубине ударов, решающую роль должны были сыграть подвижные соединения, а они на нашем фронте к началу наступления имели большой некомплект боевой техники. Уже в первый день после создания Южного фронта его командование обратилось в Ставку с просьбой выделить для имеющихся у него двух механизированных и одного танкового корпусов 300-350 танков. Но был получен ответ, что в ближайшее время эта просьба может быть удовлетворена только наполовину. Тем не менее, даже не получив этой обещанной половины боевых машин, войска фронта начали операцию.
Наш 3-й гвардейский Котельниковский танковый корпус после трехдневного отдыха и ремонта поврежденных танков получил новую боевую задачу форсированным маршем выйти в район станиц Семикаракорская, Константиновская, захватить здесь переправу через Дон и обеспечить наступление 2-й гвардейской армии на Новочеркасск, Ростов.
4 января 1943 года войска корпуса в составе 3-й гвардейской тяжелой, 18-й гвардейской (бывшей 62-й), 19-й гвардейской (бывшей 87-й) танковых бригад и 2-й гвардейской (бывшей 7-й) мотострелковой бригады выступили из Котельниково по заранее разработанным маршрутам.
Настроение у гвардейцев было приподнятое, боевое. На митингах, состоявшихся в связи с присвоением корпусу и бригадам гвардейского звания, танкисты и мотострелки перед лицом своих товарищей, перед своим Боевым Знаменем, поклялись Родине, партии, что не посрамят боевой славы Советской гвардии, будут верны своему воинскому долгу и гвардейскому званию до последнего дыхания.
Не омрачала их высокого боевого духа и неблагоприятная погода – лютый холод и снежная пурга. Хорошо еще, что снежный покров был неглубоким. Это позволяло танкам двигаться на предельных скоростях. Громя мелкие группы противника, главным образом отставшие от уходивших за реку Маныч вражеских войск тыловые подразделения, корпус все дальше продвигался на запад, накоротке задерживаясь лишь в полуразрушенных или дотла сожженных хуторах для дозаправки машин и приема личным составом горячей пищи.
Впереди продвигалась 3-я гвардейская танковая бригада. Я рад был, что ее по-прежнему вел И. А. Вовченко – теперь уже не полковник, а гвардии генерал-майор танковых войск. Ранение, полученное им в боях за Котельниково, было серьезным, но крепкий организм переборол недуг.
Кстати, и другие командиры бригад, большинство командиров батальонов и рот тоже были повышены в воинских званиях и удостоены правительственных наград. Мне было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта танковых войск. Президиум Верховного Совета СССР также наградил меня орденом Суворова II степени за номером 2. Этот орден за номером 1 получил генерал В. М. Баданов, а третий был вручен тоже танкисту – генералу П. П. Полубоярову. Все мы восприняли награждение нас этим высоким полководческим орденом как признание выдающихся заслуг танковых войск в контрнаступлении под Сталинградом и на Среднем Дону.
...К четырнадцати часам 5 января передовой разведывательный отряд 3-й гвардейской танковой бригады вступил в станицу Семикаракорская и в районе Ново-Золотовского захватил небольшой плацдарм на южном берегу Дона. На следующий день главные силы корпуса завязали бой за крупный районный центр станицу Константиновская. Пока он шел, боевая разведка под командованием гвардии капитана Н. Перлика проникла в станицу Богаевская. Комбриг И. А. Вовченко, передав Семикаракорскую подошедшей мотострелковой бригаде, выдвинул свои танки на рубеж Богаевская, хутора Верхне-Соленый и Нижне-Соленый и начал подготовку к захвату переправы через реку Маныч у хутора Веселый.
Главным силам корпуса к этому времени удалось разгромить противника в Константиновский, форсировать Дон и развить наступление на станицу Манычская.
Сопротивление гитлеровцев с каждым днем нарастало, повысилась активность вражеской авиации, нами было установлено прибытие в Батайск крупных танковых сил и выдвижение их к Манычу.
Немецко-фашистское командование, конечно, хорошо сознавало, какую угрозу таит в себе продвижение советских войск в ростовском направлении, и принимало экстренные меры по усилению этого направления, особенно в нижнем течении Дона и Маныча.
Уже в первых числах января сюда началась переброска с Северного Кавказа частей 1-й немецкой танковой армии. И как только наш корпус форсировал Манычский канал, немедленно последовали яростные контратаки танков и мотопехоты противника, особенно на рубеже станица Манычская, хутор Резников. Для отражения натиска гитлеровцев пришлось ввести в бой основные силы корпуса. Разгорелись упорные и очень тяжелые для нас бои.
Положение усугублялось тем, что наступил острый кризис в снабжении войск боеприпасами и особенно горючим. Армейские базы находились от нас очень далеко, на расстоянии 350-400 километров, а фронтовые – еще дальше. Они остались на тех же местах, где были, когда существовал еще Сталинградский фронт, и могли использовать для подвоза войскам всего необходимого единственную, и то сильно разрушенную противником, железную дорогу Сталинград – Тихорецк, от которой наш корпус тоже был на большом удалении.
Начальник штаба корпуса полковник В. Н. Баскаков по моему указанию то и дело докладывал штабу 2-й гвардейской армии о нашем бедственном положении со снабжением. Но толку от этого не было.
Наконец на мой КП приехали командующий фронтом генерал-полковник А. И. Еременко, член Военного совета фронта Н. С. Хрущев и командующий 2-й гвардейской армией генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский.
Я доложил им, что сопротивление противника возрастает, а корпус находится на голодном пайке по всем видам снабжения.
А. И. Еременко, крайне расстроенный, опираясь на трость (у него разболелись старые раны), взволнованно ходил по комнате и раздраженно говорил:
– У меня нет ничего, а задачу следует выполнять! Надо взять Ростов – там у немцев всего полно.
– Ну и как же мы будем...
– Слушай, – перебил меня А. И. Еременко. – Ты возглавишь механизированную группу. Я передаю в твое подчинение второй и пятый гвардейские механизированные корпуса. Объединяйте свои танки, сливайте горючее из подбитых и вышедших из строя машин. Делайте все, что хотите, но овладейте Батайском и Ростовом. Больше того, я подброшу тебе аэросанные батальоны. Они нагонят немцам страху...
Я впервые услышал об аэросанных батальонах и в недоумении спросил:
– А что это такое?
– Фанерные ящики с пропеллером на лыжах, – иронически усмехнулся Р. Я. Малиновский.
Потом, когда мне довелось увидеть эту диковинку, я не мог не поразиться нелепости затеи ее создателей. В аэросанях был установлен пулемет и сидело несколько автоматчиков. Предполагалось, что применение этих машин при боевых действиях в зимних условиях даст большой эффект, особенно в моральном отношении.
Но на поверку оказалось, что аэросани не годятся не только как боевые машины, но даже и как средство передвижения, особенно на Дону, где мороз зимой нередко чередуется со слякотью и даже дождем. Аэросани часто терпели аварии, а главное – были легкой добычей вражеской авиации.
Командование фронта и армий уехало, а на следующий день поступил приказ о подчинении мне 2-го и 5-го гвардейских механизированных корпусов, которые вместе с 3-м гвардейским танковым корпусом временно объединялись в механизированную группу. Но оказалось, что механизированные корпуса имели на ходу мизерное количество танков и тоже испытывали острую нужду в боеприпасах и горючем.
После обмена мнениями с командирами корпусов генералами К. В. Свиридовым и Б. М. Скворцовым я принял решение создать, насколько это будет возможно, сильный авангард, вернее, передовой отряд мехгруппы и сосредоточить его за 3-й гвардейской танковой бригадой. Эта бригада в течение 24-25 января отражала атаки противника силою от 40 до 50 танков и двух полков мотопехоты. За два дня ожесточенных боев она уничтожила 20 немецких танков, 17 автомашин с пехотой, 2 бронемашины, 2 шестиствольных миномета, до 850 солдат и офицеров. Наши зенитчики сбили 3 вражеских самолета.
Успех бригады генерала И. А. Вовченко позволил ночью ввести в сражение передовой отряд с задачей стремительным броском перерезать железную дорогу Тихорецк – Ростов и овладеть Батайском.
Вскоре отряду в составе 8 танков Т-34, Т-70, 5 бронемашин, 9 бронетранспортеров и 200 автоматчиков, возглавляемому командиром 19-й гвардейской танковой бригады гвардии полковником А. В. Егоровым, удалось, двигаясь по маршруту Малая Западенка, Красный, Койсуг, перерезать железную дорогу, уничтожить под Батайском 10 самолетов, 2 орудия, тяжелый миномет и атаковать город.
Однако Батайск оказался сильно укрепленным. Противник открыл по отряду мощный противотанковый огонь, подбил 5 наших танков Т-34 и 2 Т-70, а затем крупными силами перешел в контратаку. Отбиваясь от наседавшего противника, Егоров вынужден был занять круговую оборону в районе совхоза имени В. И. Ленина и поселка имени ОГПУ.
Предпринятое в этот же день наступление главных сил 2-го и 5-го гвардейских механизированных корпусов в направления станицы Ольгинская тоже не увенчалось успехом. К вечеру они вели бои с противником на рубеже Манычская, Самодуровка, Красный Лес.
В течение двух дней отряд полковника Егорова вел тяжелые бои в окружении, израсходовав почти все снаряды. В связи с тем что кончалось и горючее, я приказал Егорову ночью пробиваться на север, организовав навстречу ему удар 3-й гвардейской танковой бригады. Маневр был проведен удачно, и остатки группы Егорова соединились с главными силами корпуса.
26 января мною было направлено командующему 2-й , гвардейской армией донесение, в котором я докладывал, что части механизированной группы 24, 25 и 26 января вели упорные бои с превосходящими силами противника, подошедшими с юга, в составе 120-150 танков, 3-4 полков мотопехоты при очень активной поддержке авиации и артиллерии, что в этих боях мы понесли большие потери как в личном составе, так и в материальной части и артиллерии. Сообщалось, что противник, опасаясь захвата силами механизированной группы Батайска, на участке Манычская, Красный подвел крупные части из основных сил кавказской армии с задачей отбросить войска механизированной группы, подошедшие уже р Ольгинской, за реку Маныч. В заключение делался вывод, что части механизированной группы в результате сложившейся обстановки и тяжелых потерь сейчас самостоятельных действий вести не могут.
* * *
Командующий 2-й гвардейской армией Р. Я. Малиновский, видимо, сумел убедить командующего фронтом, что при таком положении мехгруппа действительно наступать не в состоянии. На следующий день мне было приказано отвести ее на северный берег Маныча и занять жесткую оборону.
Конечно, мы сознавали исключительное стратегическое значение Ростова, являвшегося воротами на Северный Кавказ, и были огорчены, что не смогли прорваться к этому городу, перехватить пути отхода кавказской группировки фашистов. Но вместе с тем если объективно оценить обстановку, учесть наличие крупных сил и средств противника в этом районе, истощение своих войск, то у нас не оставалось никаких сомнений, что дальнейшее наступление не только бесплодно, но и чревато тяжелыми последствиями. Следовало пополнить войска личным составом и материальной частью, подтянуть далеко отставшие тылы, подвезти боеприпасы, горючее и продовольствие, а затем уже развивать наступление, начатое под Сталинградом и на Среднем Дону.
В первых числах февраля, когда мы занимались этой работой, восстанавливая боевую мощь корпуса, поступило волнующее сообщение о капитуляции сталинградской группировки противника. Все были вне себя от радости, которую многие бойцы и командиры выражали такой пальбой из автоматов и пистолетов, что мне в целях экономии патронов пришлось срочно отдать строгое распоряжение о прекращении самовольной стрельбы.
Вскоре стали известны и результаты операции войск Донского фронта по разгрому противника в районе Сталинграда. Они уже не раз приводились в нашей военно-исторической и мемуарной литературе.
Разгромив гитлеровские войска между Волгой и Доном, Советские Вооруженные Силы основательно надломили гигантскую фашистскую военную машину, полностью и окончательно взяли в свои руки стратегическую инициативу, перешли в наступление на огромном фронте от Ленинграда до Новороссийска и внесли решающий вклад в достижение коренного перелома не только в Великой Отечественной, но и во всей второй мировой войне.
"Для Германии, – пишет в своей книге "Поход на Сталинград" бывший гитлеровский генерал Г. Дёрр, – битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в ее истории, для России – ее величайшей победой"{32}.
Да, это так, что впоследствии признавали даже самые реакционные военные историки Запада.
Глава четвертая.
Танки против танков
Боевой опыт в контрнаступлении Красной Армии под Сталинградом и на Среднем Дону убедительно доказал, что советские танковые войска могут добиваться решающих успехов, когда они при поддержке мощной противотанковой артиллерии и авиации действуют массированно на направлениях главных ударов.
К тому времени наша танковая промышленность уже набрала высокие темпы выпуска бронетанковой техники. Это позволило продолжать формирование новых отдельных танковых и механизированных корпусов, а также объединять их в танковые армии.
В середине февраля 1943 года, когда 3-й гвардейский Котельниковский танковый корпус приводил себя в порядок после тяжелых боев под Батайском и Ростовом, меня вызвали к командующему войсками Южного фронта генерал-полковнику Р. Я. Малиновскому, сменившему на этом посту генерал-полковника А. И. Еременко.
– Вы, Павел Алексеевич, – сказал Родион Яковлевич, – как говорится, танкист до мозга костей, притом убежденный сторонник массированного применения танков. В Ставке Верховного Главнокомандования и на военных советах фронтов обсуждается вопрос о формировании танковых армий. Москва интересуется мнением командиров танковых корпусов, в частности вашими взглядами на то, какой должна быть танковая армия.
– Кстати, мне только что звонил из Генштаба генерал Боков, – вмешался в разговор член Военного совета фронта Н. С. Хрущев. – Он ждет вас и при необходимости организует встречу с товарищем Сталиным.
– Что ж, я готов доложить свое мнение Верховному Главнокомандующему, заверил я.
– Вот и хорошо, Павел Алексеевич, – улыбнувшись, сказал Р. Я. Малиновский. – Отправляйтесь в Москву.
Командующий фронтом приказал мне возложить временное командование корпусом на генерала А. И. Вовченко и по прибытии в Москву до встречи с Ф. Е. Боковым переговорить с командующим бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии Я. Н. Федоренко.
На следующий день я самолетом прибыл в столицу. Москва встретила шумным оживлением, сигналами большого потока автомашин и перезвоном трамваев. Было заметно, что большинство москвичей в хорошем, бодром настроении. Их, как и весь наш народ, радовали крупные победы советских войск. И улицы выглядели более просветленными: громоздившиеся на них в 1942 году различные оборонительные сооружения были убраны. Правда, в окнах домов виднелись приспущенные черные полотнища – по ночам еще соблюдалась светомаскировка.
После беседы со мной генерал Я. Н. Федоренко сказал, чтобы я ехал в Генштаб, к Ф. Е. Бокову.
Федор Ефимович принял меня душевно, подробно информировал о существе дела, по которому я вызван с фронта.
– Вопрос, о реорганизации созданных еще в прошлом году танковых армий смешанного состава, – говорил он, – уже давно назрел. Опыт показал, что управлять армией, имеющей в своем составе танковые, пехотные и кавалерийские соединения с различной степенью подвижности и маневренности, весьма сложно, особенно в наступлении. Вам, Павел Алексеевич, как теоретику и практику, видимо, это хорошо известно.
– Положим, Федор Ефимович, теоретиком в полном смысле этого слова я себя не считаю. А практика со всей очевидностью установила, что для развития успеха на большую глубину в крупных наступательных операциях войска фронта или фронтов должны иметь высокоподвижные, обладающие большой ударной силой и огневой мощью танковые соединения и объединения. Только они могут решать задачи такого рода, обеспечить массирование танков на важнейших направлениях и в решающий момент.
– Яков Николаевич Федоренко сообщил мне, что вы просите организовать вам встречу с товарищем Сталиным, Это так? – спросил Ф. Е. Боков.
– Вообще-то с такой просьбой к генералу Федоренко я не обращался, а говорил ему лишь о готовности доложить Верховному свое мнение по обсуждаемому в Ставке вопросу...
Тут на столе у Федора Ефимовича зазвонил телефон.
– Слушает Боков, – поднял трубку генерал. – Здравствуйте, товарищ Сталин! Сию минуту... – Он торопливо раскрыл папку, доложил Верховному последнюю сводку с фронтов, затем, ответив на несколько вопросов Сталина, скосил взгляд на меня и сказал: – Прибыл с Южного фронта генерал Ротмистров. Прошу, товарищ Сталин, чтобы вы его приняли.
Лицо Бокова расплылось в широкой улыбке. Видимо, Сталин сказал что-то шутливое.
– Слушаюсь! – погасив улыбку, коротко ответил генерал и положил трубку. Боков встал и, кивнув на телефонный аппарат, весело сказал: – Хорошее настроение у Верховного... Велел вас приглашать. Примет сразу же после моего доклада о положении на фронтах...
Он тут же позвонил секретарю И. В. Сталина А. Н. Поскребышеву и заказал для меня пропуск.
Вечером мы прибыли в Кремль.
В приемной Верховного находился только Поскребышев. Поздоровавшись, он, обращаясь к Бокову, сказал, что И. В. Сталин беседует с группой конструкторов и просит немного подождать.
Вскоре высокая дверь раскрылась, и из кабинета Сталина начали выходить конструкторы, перебрасываясь короткими фразами и угощая друг друга папиросами.
Пригласили Ф. Е. Бокова, а я остался в приемной наедине с Поскребышевым, который, казалось, не замечал меня, сосредоточенно разбирая документы и отвечая на телефонные звонки.
Присев по его приглашению на стул, я обдумывал, как более коротко и четко доложить Верховному свое мнение, зная, что он не любит пространных рассуждений.
И вот наконец Поскребышев предложил мне зайти в кабинет Верховного Главнокомандующего. За длинным столом сидели члены Политбюро ЦК ВКП(б), Ставки и правительства. Почему-то в первое мгновение мой взгляд скользнул по лицу В. М. Молотова, поправлявшего пенсне. Сталин, стоявший в глубине кабинета с неизменной трубкой в слегка согнутой руке, медленно двинулся мне навстречу. Я остановился и по-уставному доложил о прибытии по его приказанию.
– Я вам не приказывал, я вас приглашал, товарищ Ротмистров, – подал мне руку Сталин. – Рассказывайте, как громили Манштейна.
Меня это несколько смутило: ведь Верховному наверняка в подробностях было известно о боях с войсками противника, рвавшимися на выручку группировке Паулюса, окруженной под Сталинградом. Но коли он спрашивает, я начал рассказывать, анализируя эти бои, тактику действий 3-го гвардейского танкового корпуса в наступлении на Рычковский и Котельниково.
Сталин бесшумно прохаживался вдоль стола, изредка задавая мне короткие вопросы. Внимательно слушали меня и все присутствующие. Мне даже подумалось, что Верховный предложил рассказать про бои с Манштейном скорее всего именно для них.
Как-то незаметно Сталин перевел разговор на танковые армии.
– Наши танковые войска, – сказал он, – научились успешно громить противника, наносить ему сокрушительные и глубокие удары. Однако почему вы считаете нецелесообразным иметь в танковой армии и пехотные соединения?
Верховный остановился и прищуренным взглядом пристально посмотрел мне в глаза. Я понял, что кто-то сообщил ему мое мнение.
– При наступлении стрелковые дивизии отстают от танковых корпусов. При этом нарушается взаимодействие между танковыми и стрелковыми частями, затрудняется управление ушедшими вперед танками и отставшей пехотой.
– И все же, – возразил Сталин, – как показали в общем-то смелые и решительные действия танкового корпуса генерала Баданова в районе Тацинской, танкистам без пехотинцев трудно удерживать объекты, захваченные в оперативной глубине.
– Да, – согласился я. – Пехота нужна, но моторизованная. Именно поэтому я считаю, что в основной состав танковой армии помимо танковых корпусов должны входить не стрелковые, а мотострелковые части.
– Вы предлагаете пехоту заменить механизированными частями, а командующий танковой армией Романенко доволен стрелковыми дивизиями и просит добавить ему еще одну-две такие дивизии. Так кто же из вас прав? – спросил молчавший до этого В. М. Молотов.
– Я доложил свое мнение, – ответил я. – Считаю, что танковая армия должна быть танковой не по названию, а по составу. Наилучшим ее организационным построением было бы такое: два танковых и один механизированный корпус, а также несколько полков противотанковой артиллерии. Кроме того, следует обеспечить подвижность штабов и надежную радиосвязь между ними, частями и соединениями...
И. В. Сталин внимательно слушал меня, одобрительно кивал и, улыбаясь, посматривал на В. М. Молотова, который вновь перебил меня вопросом:
– Выходит, вы не признаете противотанковые ружья, если, по существу, хотите их заменить противотанковой артиллерией. Но они ведь успешно используются против танков и огневых точек. Разве не так?
– Дело в том, товарищ Молотов, что противотанковые ружья были и остаются эффективным средством борьбы с танками противника в оборонительных операциях, когда огонь ведется из окопов с расстояния не более трехсот метров. А в маневренных условиях они не выдерживают единоборства с пушечным огнем вражеских танков, открываемым на дистанции пятьсот метров и больше. Поэтому и желательно иметь в танковых и механизированных корпусах хотя бы по одной противотанковой бригаде.
Обсуждение вопроса продолжалось около двух часов. И. В. Сталина заинтересовали и высказанные мною взгляды на применение танковых армий в наступательных операциях. Они сводились к тому, что танковые армии следует использовать как средство командующего фронтом или даже Ставки Верховного Главнокомандования для нанесения массированных ударов прежде всего по танковым группировкам противника на главных направлениях без указания им полос наступления, которые лишь сковывают маневр танков.
Чувствовалось, что Сталин хорошо понимает значение массированного применения танковых войск и не одного меня заслушивал по этому вопросу.
– Придет время, – сказал он, как бы вслух размышляя, – когда наша промышленность сможет дать Красной Армии значительное количество бронетанковой, авиационной и другой боевой техники. Мы скоро обрушим на врага мощные танковые и авиационные удары, будем беспощадно гнать и громить немецко-фашистских захватчиков. – Сталин заглянул в лежавший на столе блокнот и снова двинулся по кабинету, продолжая рассуждать: – Уже сейчас у нас имеется возможность для формирования новых танковых армий. Вы могли бы возглавить одну из них, товарищ Ротмистров?
– Как прикажете, – быстро поднялся я со стула.
– Вот это солдатский ответ, – сказал Верховный и, снова пристально посмотрев на меня, добавил: – Думаю, потянете. Опыта и знаний у вас хватит.
У присутствовавших, вероятно, были дела, требовавшие срочных решений Сталина, и, считая, что наш разговор затянулся, они начали проявлять заметное нетерпение. Сталин уловил это и попрощался.
Через день я был вызван в Генштаб. Там уже находился командующий бронетанковыми и механизированными войсками генерал-полковник Я. Н. Федоренко. Генерал Боков сообщил, что при его очередном докладе И. В. Сталину Верховный полностью одобрил высказанные мною предложения и подписал директиву о формировании 5-й гвардейской танковой армии, поручив Генштабу совместно с управлением Я. Н. Федоренко тщательно разработать проект структуры новых танковых армий.
Одновременно был подписан приказ о назначении командования 5-й гвардейской танковой армии. Командармом назначался я, моим первым заместителем генерал-майор И. А. Плиев, вторым – генерал-майор К. Г. Труфанов, членом Военного совета-генерал-майор танковых войск П. Г. Гришин и начальником штаба армии – полковник В. Н. Баскаков.
– А ты опять улизнул от меня, – лукаво посмеиваясь, сказал Я. Н. Федоренко. – Честно говоря, упрашивал я товарища Сталина назначить тебя моим заместителем. Но он ответил как отрезал: "Канцеляристов и так в Москве развелось много!"
Радовало, что моими заместителями были назначены опытные генералы, служившие в коннице – родоначальнице и носительнице маневра, хорошо знавшие тактику подвижных родов войск.
К Иссе Александровичу Плиеву я проникся искренним уважением еще в ходе боев под Сталинградом. Это был командир твердого характера, смелый и решительный. К сожалению, наша совместная служба оказалась непродолжительной. Еще до начала боевых действий 5-й гвардейской танковой армии его назначили на должность заместителя командующего Степным округом (в последующем преобразованным в Степной фронт) по кавалерии.
Генералов К. Г. Труфанова и П. Г. Гришина я лично не знал, но их биографические данные, с которыми меня ознакомили, говорили сами за себя.
Кузьма Григорьевич Труфанов – член большевистской партии с 1924 года, активный участник гражданской войны, за подвиги в боях против белогвардейцев и контрреволюционных банд был награжден двумя орденами Красного Знамени. В действующую армию он прибыл с должности начальника Ташкентского кавалерийского училища.
Петр Григорьевич Гришин вступил в члены ВКП(б) в 1930 году, показал незаурядные способности на политработе, участвуя в боях с первых дней войны, до назначения членом Военного совета 5-й гвардейской танковой армии занимал должность заместителя командира 6-го танкового корпуса по политчасти.
Лучше всех я знал полковника, а с 7 июня генерал-майора танковых войск Владимира Николаевича Баскакова – бывшего начальника штаба 3-го гвардейского танкового корпуса, образованного офицера, хорошо знавшего штабную работу и обладавшего завидным упорством в труде.
Вскоре мы приступили к решению многочисленных организационных вопросов, разработке плана боевой и политической подготовки личного состава соединений и армейских частей, приему эшелонов с пополнением, техникой, боеприпасами и различными военными грузами.
Первоначально в состав армии включались 3-й гвардейский Котельниковский и 29-й танковые корпуса, 5-й гвардейский Зимовниковский механизированный корпус, 6-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК, 1-й отдельный гвардейский мотоциклетный, 678-й гаубичный артиллерийский, 76-й гвардейский минометный, 994-й отдельный авиационный, 108-й и 689-й истребительно-противотанковый артиллерийские полки, 4-й отдельный полк связи и 377-й отдельный инженерный батальон{33}. 3-й гвардейский Котельниковский танковый корпус генерал-майора танковых войск И. А. Вовченко срочно убыл под Харьков, и в основном составе армии остались пока что два корпуса – 29-й танковый и 5-й гвардейский Зимовниковский механизированный.
Нужно сказать, что они по численности, боевому опыту и боевым возможностям имели свои отличия. 5-й гвардейский механизированный корпус генерал-майора танковых войск Бориса Михайловича Скворцова (начальник штаба генерал-майор танковых войск Иван Васильевич Шабаров) проявил себя в Сталинградской битве, особенно под Зимовниками, Цимлянской, в междуречье Волги и Дона. Но после тяжелых боев в районе Ростова в корпусе недоставало 2000 солдат и офицеров и 204 танка. Надо было в короткие сроки восстановить боевую мощь соединения и обучить новое пополнение на опыте минувших сражений, в совершенно иных условиях боевой деятельности.
29-й танковый корпус формировался из отдельных танковых бригад, ранее действовавших в качестве соединений непосредственной поддержки пехоты. Командиру корпуса генерал-майору танковых войск Федору Георгиевичу Аникушкину и его штабу во главе с полковником Евгением Ивановичем Фоминых надлежало свести бригады в единый боевой организм, способный смело и решительнодействовать в оперативной глубине, а самое главное – наносить массированные танковые удары по танковым группировкам противника во встречных сражениях и наступательных операциях. Для решения таких задач необходимо было не только изменить тактические приемы применения танков в бою, но и психологически подготовить личный состав бригад к новым формам боя.
27 апреля 1943 года в командование 29-м танковым корпусом вступил генерал-майор танковых войск Иван Федорович Кириченко, очень опытный танковый командир, возглавлявший в Московской битве 9-ю танковую бригаду. Под его энергичным руководством началась упорная и напряженная работа по сколачиванию танковых экипажей, взводов, рот и батальонов. Личный состав стремился максимально использовать имевшееся время для изучения накопленного боевого опыта, приказов и наставлений по боевому использованию родов войск, прежде всего танков, в различных видах боя, с учетом условий ведения маневренной войны. Совершенствовали также свое огневое мастерство орудийные и минометные расчеты, стрелки и пулеметчики, готовились к боям связисты, саперы, воины всех специальностей.