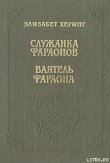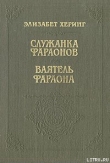Текст книги "Искушение богини"
Автор книги: Паулина Гейдж
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц)
– Хатшепсут, – сказал он наконец. От неожиданности она вздрогнула.
– Я намерен преподать тебе урок, который, я надеюсь, ты никогда не забудешь, а если забудешь, то горько пожалеешь об этом.
Он умолк, ожидая подобающего ответа, но, хотя рот девочки открылся, она не смогла выдавить ни звука, и он продолжал:
– Ежедневно и ежечасно тысячи людей знают, где я нахожусь и что делаю. Я говорю – они повинуются. Я умолкаю – они трепещут. Мое имя на устах у всех, начиная с ничтожнейшего из храмовых служек и заканчивая моими высокородными советниками, дворец непрерывно полнится слухами, предположениями, размышлениями о том, каким будет мой следующий шаг и каковы плоды моих раздумий. Заговоры, контрзаговоры, подозрения, мелкие интриги окружают меня изо дня в день. Но я фараон, и только мое слово приносит смерть или жизнь. Потому что у меня есть то, до чего им никогда не добраться, в этом и заключена власть.
Пальцем, на котором сверкнуло драгоценное кольцо, он коснулся своего лба:
– Мои мысли. Мысли, Хатшепсут.. Ни одно слово, сколько-нибудь весомое, не срывается с моих уст, пока я не обдумаю его, ибо я знаю, что люди по всей стране будут повторять его многократно. Это и есть урок, который я хочу тебе преподать. Никогда, слышишь, никогда больше не поверяй своих мыслей и страхов, особенно необоснованных, ни мне, ни кому другому, пока не убедишься, что тебя окружают друзья. А их, поверь, у фараона с каждым днем все меньше и меньше. На вершине власти он может доверять лишь самому себе. Понимаешь ли ты, что в этот самый миг слова, сказанные тобой сегодня днем, шепотом повторяют на кухнях, в конюшнях, в храмовых кельях? Неферу-хебит несчастна. Царевна не хочет выходить за молодого Тутмоса. Означает ли это, что Великий избрал сына своим наследником? И так дальше, без конца. Сегодня ты сильно провинилась, дочь. Ты знаешь это? – Он склонился к ней. – То время, когда подобная оплошность может дорого тебе стоить, быстро приближается. Ибо я еще не избрал Тутмоса своим преемником. Нет, и это решение дается мне нелегко. Жрецы сильны, они каждый день торопят меня с ответом. Я старею, и моих советников это тревожит. Они теряют покой. Но я еще не дал окончательного ответа. И знаешь почему, малышка?
Дар речи наконец вернулся к Хатшепсут.
– Н-нет, отец.
Тутмос откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, сделав глубокий вдох. Когда его веки вновь поднялись, он уставился на дочь тяжелым пристальным взглядом.
– Ты не похожа на свою мать, улыбчивую, покорную Ахмес, хоть я и люблю ее, – сказал он. – Ты не застенчива и бледна, как твоя сестра Неферу, и не ленива и изнежена, как твой царственный брат. В тебе я чувствую беспримесную силу твоего деда, Аменхотепа, и хватку его супруги, Аахотеп. Ты помнишь свою бабку, Хатшепсут?
– Нет, отец, но я иногда вижу Юфа, который бродит и разговаривает сам с собой. Он похож на старую сушеную сливу. Дети смеются над ним.
– Давным-давно жрец твоей бабки был великим и могущественным человеком. Смотри же, относись к нему с уважением.
– Я его уважаю. Он мне нравится. Он угощает меня сладостями и рассказывает про стародавние времена.
– Слушай его!
– Я слушаю! Я люблю рассказ о том, как бог Секененра, мой предок, повел наш народ на битву против злых гиксосов и отдал свою жизнь на поле боя. Это так интересно!
Звонкий детский голосок зазвенел еще пронзительнее:
– Какой он, наверное, был благородный!
– Благородный и очень храбрый. Ты очень на него похожа, дорогая, и в один прекрасный день ты станешь такой же, как и он, люди будут стекаться к тебе, привлеченные твоей силой. Но тебе еще многому надо учиться.
«Из нее выйдет прекрасный правитель, – сказал фараон себе. – Но выйдет ли столь же замечательный учитель из меня?»
– Но, отец, – сказала Хатшепсут робко, – я ведь всего лишь девочка.
– «Всего лишь»? – Его голос едва не сорвался на крик. – «Всего лишь»? Это всего лишь слово, вот что это такое. Не обращай на него внимания, Хатшепсут. Расти, цвети, но помни мой урок. Не позволяй своему языку бежать впереди мыслей. И не думай, – закончил он, вставая и улыбаясь, – будто я не замечаю поведения Неферу, хотя твоей матери хотелось бы верить, что это так. С Неферу я разберусь, когда придет время. Она покорится моей воле, как и все остальные. Нозме!
Кормилица вошла и встала у порога, опустив глаза в пол.
– Положи ее спать, да смотри за ней как следует. А ты, мой веселый огонек, поразмысли на досуге над словами великого бога Имхотепа: «Да не будет язык твой подобен флагу, развевающемуся на ветру всякой сплетни».
– Я запомню это, отец.
– Уж постарайся. – Он наклонился и поцеловал ее в щеку. – Доброй ночи.
– Доброй ночи.
Она сложила ладони вместе и поклонилась.
– И спасибо тебе.
– А?
– За то, что ты не накричал на меня, хотя я иногда бываю сущим наказанием.
Фараон рассмеялся.
– Я рад, что ты слушаешь своих учителей, – сказал он. Потом погладил дочь по голове. Она побежала к Нозме, и двери беззвучно закрылись за обеими.
Глава 2
Четырнадцать ночей спустя после того, как Хатшепсут легла спать, выруганная отцом и с тяжелой от алкоголя головой, некий молодой человек сидел на краю убогой соломенной кровати, не в силах уснуть. Шел месяц Пакхон, воздух был густ и вязок от жары. Река начала вздуваться, ее течение ускорилось. Обычно спокойная серебристая вода краснела с каждым днем, было слышно, как она с громким журчанием течет по своему руслу. Этот звук, подобно колыбельной, должен был убаюкать юношу, но вместо того раздражал и отвлекал его, когда он пытался заснуть. Наконец юноша скатился на земляной пол и уселся, нахохлившись, голодный и потный, в изножье кровати. Спину ломило, колени тоже. Последнюю неделю он только и делал, что скреб полы в домах полужрецов «– людей, ответственных за подготовку погребальной церемонии, и это его злило. Не для того он пришел три года назад в Фивы, неся в куске мешковины свои драгоценные сандалии и единственную хорошую повязку. Он был взволнован, нетерпелив, грезил о том, как быстро завоюет высокое положение среди жрецов, пока наконец сам фараон не заметит его, и тогда он в одночасье превратится… В кого? Он провел рукой по своей бритой голове и вздохнул в темноте. В великого строителя. В человека, способного воплощать мечты царей в камне. Ха! Последние три года он провел в роли ученика жреца-вииба, нижайшего из нижайших, только и зная, что мыть, мести да бегать на посылках от одного хозяина к другому в луксорский храм. Видения богатства и признания медленно растаяли, оставив лишь горечь да неудовлетворенное честолюбие, которое не давало спать по ночам, тесня присущий ему от природы веселый нрав.
«Все равно не сдамся, – яростно клялся он пустым, невидимым в темноте стенам. – Не может быть, чтобы это было все, что мне назначено».
Он вспомнил учителя из маленькой школы дома, в деревне, где его отец кое-как сводил концы с концами, обрабатывая несколько акров земли.
– У тебя быстрый ум, – говорил учитель, – ты сразу схватываешь самую суть. Пусть твой отец определит тебя в какую-нибудь школу при храме. Ты создан для карьеры, Сенмут.
А ведь ему было только одиннадцать лет.
Отец оставил тогда ферму и пошел вместе с ним в Фивы, где один из братьев его матери служил полужрецом. Несколько дней им пришлось ждать, их посылали то в одно место, то в другое, новые сандалии стащил прямо из-под его носа ухмыляющийся, грязный уличный оборванец, но вот наконец они получили аудиенцию у надзирателя за жрецами-виибами. Сенмут плохо помнил тот разговор. Он устал, ему было страшно и хотелось только одного – вернуться домой и забыть всю эту затею. Но его отец, что-то негромко говоря, подтолкнул его вперед и протянул надзирателю свиток, в котором были записаны его, Сенмута, успехи в школе. Великий человек, одетый в ослепительной белизны лен и благоухавший, как сама богиня Хатор, презрительно хмыкнул и принял скучающий вид, но все же распорядился отвести Сенмуту келью и выдать подобающую жрецу одежду. Мальчику жаль было расставаться с отцом. Весь в слезах, он обнял его и поблагодарил за заботу. Старик улыбнулся:
– Когда ты станешь большим человеком, может быть, даже визирем, купи для нас с матерью приличную могилу, чтобы боги нас не забыли.
Он шутил, но в голосе его звучала печаль. Ему не верилось, что его сын добьется чего-то большего, нежели должность прислужника при храме. В лучшем случае он станет мастером таинств, но не более того. Никаких иллюзий относительно холодного и опасного мира, в котором предстояло отныне жить Сенмуту, отец не питал. Расцеловав мальчика в обе щеки и наказав ему поступать по-доброму со всеми, он вернулся домой, к своим посевам, не зная, какому богу молиться о благополучии сына. Покровительством одного Сенмут вряд ли обойдется.
– Ах, Фивы, – простонал юноша, растирая саднящие колени, – в каком же я был восторге, когда впервые увидел твои золотые башни, подмигивающие мне с горизонта, с того берега могучей реки! Помню, как проснулся в то последнее утро, когда Ра вспышкой красно-розового сияния пролился с вершин холмов в пустыню. Поднимаясь с земли, я видел сполохи света то здесь, то там между пальмами и гранатовыми деревьями. Я спросил тогда у отца: «Во имя неба, что это такое?» – «Это Амон-Ра целует златоверхие башни своего города», – ответил он. От изумления и восторга я утратил дар речи. Я все еще люблю тебя, хотя не стал ни на шаг ближе к твоим тайнам, чем в то далекое утро, но я больше тебя не боюсь, – вздохнул Сенмут.
С тех пор все его дни проходили, – как и следовало ожидать, в тяжком труде: утром в храмовой школе, где он занимался любимым делом, днем за черной работой, которая становилась ему тем более ненавистна, чем строже за нее спрашивали.
Иной раз он жалел, что отказался учиться на писца, как предлагал ему с самого начала жрец, который был его учителем, – ведь писцу никогда не приходится заниматься черной работой, стоя на локтях и коленях. Писцов освобождают от всякого физического труда, они только и знают, что ходят по пятам за хозяином, записывая все, что он прикажет, или сидят на базарах, дожидаясь, когда кто-нибудь наймет их написать письмо. Однако в самой глубине своего существа Сенмут знал, что стать писцом – значит зачахнуть и умереть, ибо тогда ему придется отказаться от живущей внутри него силы, которая заставляет его жаждать лучшей, более достойной судьбы. «Но какой?» – устало спросил он себя, поднимаясь с соломы и нащупывая в потемках плащ. Уж конечно не надзирателя за жрецами, филарха, который проводит свои дни в лихорадочной беготне по храму, следя за тем, чтобы все делалось как положено и в срок.
«Когда я впервые увидел этот город с его горделивыми башнями и величественными колоннами, мощеными улицами и бесчисленными статуями, то думал, что знаю. Тогда я бродил по нему долгими вечерами, заходил в таверны и пивные, спускался в доки; следил за рыбаками, которые, поливая свои верткие папирусные лодчонки отборной бранью, направляли их к берегу, чтобы найти лучшее место для причала; наблюдал за ремесленниками, которые работали прямо на берегу, не отходя далеко от своих лодок; видел, как загоняют на помост рабов для продажи и несут в роскошных носилках богачей. Я смотрел на все это со стороны, вечно чужой. Теперь я больше не смотрю. Четырнадцать лет у меня позади, и, может статься, пять раз по столько же впереди. А я уже в тюрьме».
Он запахнулся в плащ, вышел босой из кельи и бесшумно зашагал мимо таких же комнатенок, двумя рядами протянувшихся вдоль длинного коридора. Светила луна, расплескивая холодное сияние между колоннами, так что он хорошо видел, куда ступает. У дверей филарха он остановился взглянуть на водяные часы. До рассвета еще пять часов. Улыбнувшись, когда храп молодого начальника донесся до него из-за дверей, Сенмут миновал остаток коридора и тенью скользнул во двор. Тяжелая громада храма надвинулась слева, хотя на самом деле до него надо было пройти еще целый квартал жреческих келий и плантацию сикоморов. Юноша поспешно повернул в другую сторону, зная, что даже в этот час близ храма можно с кем-нибудь встретиться. Ему нужны были кухни и какая-то еда. Ворчливый протест желудка гнал его вперед. Миновав последнюю комнату, Сенмут свернул за угол, прочь из священных пределов. Несколько минут размеренной ходьбы – и он уже находился у другой группы строений. Бесшумно проскользнул он между темных конических силуэтов зернохранилищ и нырнул в низенькую дверку, которая предваряла кухни. За ней оказался узкий коридор, по которому изо дня в день ходили нагруженные зерном рабы. Тьма была кромешная. На ощупь юноша сделал еще несколько шагов и вдруг очутился в большой, хорошо проветриваемой комнате со множеством высоких оконных проемов, сквозь которые внутрь лился свет луны. Прямо перед ним в стене зияла черная дыра – начало пути, по которому повара с пищей для бога попадали прямо в храм. Повсюду чувствовался легкий запах жира. Юноша двигался осторожно, ведь повара и прислуга спали неподалеку. Слева от него стояли два высоких каменных кувшина, один с водой, другой с пивом, специально поставленные здесь, чтобы их содержимое остужалось на сквозняке. Он подхватил кувшин поменьше, стоявший между ними, и замешкался на миг, не зная, на что решиться; разбушевавшаяся жажда подсказала ему выбрать воду. Он потихоньку сдвинул деревянную крышку с одной из цистерн, зачерпнул, жадно и быстро выпил, поставил на место кувшин, так что тот даже не звякнул. Потом двинулся вдоль столов, снимая крышки и поднимая полотенца, и почти сразу же обнаружил пару жареных утиных ног и половину плоской ячменной лепешки. Подумал, что вряд ли кто-нибудь хватится этих крох в том гигантском количестве еды, которую распределяли между служителями бога каждое утро. Оглянувшись напоследок, чтобы удостовериться, что оставляет все как было, он сунул еду в складки плаща и тем же коридором тихонько вышел на воздух. Постоял с минуту, раздумывая, стоит ли возвращаться с едой к себе в келью, но зная, что там сейчас жарко и темно, как в печке, решил пойти в храмовый сад, где стражники, вышагивающие ночь напролет по тропинкам, ведущим к священному озеру, едва ли заметят его среди деревьев. Зная, как часто они там проходят, когда» сменяется караул, и какие маршруты предпочитают, юноша затаился в тени колонны и переждал, пока первые двое, оживленно болтая, прошли мимо. Когда их спины поглотила ночь, он бесшумно пересек аллею и нырнул в долгожданную тень пальмовой рощи.
Перебегая от дерева к дереву, Сенмут нюхал воздух. Деревенский мальчишка до мозга костей, он чуял близящуюся перемену погоды, и ему не нравилось то, о чем сообщали его ощущения. У самой земли воздух был так душен и вязок, что дыхание давалось почти осознанным усилием; идти можно было только как сквозь воду. Зато над черными, трепещущими пальмовыми ветвями царило беспокойство, легкая пелена облаков частично скрыла звезды. Он знал, что это означает. Не часто случалось, чтобы хамсин продвигался так глубоко на юг, но юноша был уверен, что инстинкты его не обманывают. Не пройдет и нескольких часов, как горячий разрушительный ветер начнет ворошить песчаную поверхность пустыни. И пока он сам себя не выдует, людям останется лишь запереть двери, закрыть ставни и ждать. А потом? У него вырвался стон. Еще больше черной работы: надо будет выметать песок из каждой щелочки каждого храмового здания, в которое занесет его ветер.
Выбрав мощное дерево с пузатым стволом, Сенмут сел и прижался спиной к тому боку, который был обращен в противоположную от тропы сторону. Вдалеке дрожала тонкая серебристая полоска света, отражение луны в водах озера Амона, но ни храма, ни башен вздымающихся позади него строений из укрытия видно не было. На какое-то время юноша попал в мир тишины, нарушаемой лишь шелестом листьев, которые, казалось, дружески приветствовали друг друга во мраке, и их шуршание успокоило его. Вынув из складок плаща утиную ногу, Сенмут радостно впился в нее зубами и стал есть, наслаждаясь каждым проглоченным куском, ведь он работал, точно раб, и был всегда голоден.
Несколько минут спустя он отшвырнул в сторону дочиста обглоданные косточки и принялся за хлеб, который оказался немного черствым, но от этого не менее вкусным. Едва юноша подобрал последние крошки, упавшие на его плащ, и уже собрался им же вытереть рот, как вдруг чутье, обострившееся за те долгие ночи, что он пас коз на кишащих хищниками холмах, близ которых стояла ферма его отца, заставило его насторожиться. Он сел прямо, его сердце бешено колотилось. Сперва он ничего не услышал. Но, уже почти успокоившись, он уловил тихие шаги по траве и приглушенный шепот. Легко и бесшумно он вскочил на ноги, вжался всем телом в шершавую кору дерева и плотно запахнулся в плащ. Голоса приближались, все так же перешептываясь. Он глубже забился в тень, сливаясь с деревом и ночью, пока его учащенное дыхание не выровнялось, уподобившись тишине вокруг. Именно так подкарауливал он больших кошек, которые приходили за козлятами. Быстрота реакции его и спасла, ибо всего через несколько секунд двое в плащах с капюшонами остановились прямо под его деревом, в нескольких шагах от того места, где стоял он. Хотя он не смел и шевельнуться, чтобы посмотреть, кто это такие, было понятно, что пришедшие не стражники. Не было слышно лязганья железа о железо; кроме того, стражники не стали бы хорониться и разговаривать шепотом. Эти же двое подкрались так незаметно, что едва об него не споткнулись. Он зажмурился изо всех сил и обратился с краткой молитвой к Хонсу. Хоть бы они поскорее ушли, пока его дрожащие от напряжения мышцы не подвели его и не заставили пошевелиться. Дышал он по-прежнему неглубоко и тихо, усилием воли заставляя легкие работать медленно. Те двое, бесформенные во мраке ночи, стояли друг к другу лицом, до него доносились обрывки их разговора.
– Рано или поздно Единый огласит свою волю. Какой у него выбор? Он не вызовет Ваджмоса или Аменмоса. Не сможет. Они солдаты. Они слишком давно не бывали в столице и ничего не знают об искусстве правления. Кроме того, их кровь. Право молодого Тутмоса вернее, чем их.
– Но он всего лишь мягкотелый, избалованный, безмозглый щенок.
– И все же я повторяю: выбор падет на него. Других нет. То, что нравом он пошел в свою благородную мать, не просто несчастье – это катастрофа. Долгие годы фараон, да живет он вечно, правит тяжелой рукой, подчинив себе многие народы. Не мы одни пострадаем, когда двойной венец возляжет на голову Тутмоса.
– Ты богохульствуешь!
– Я говорю правду. Будь у нас достойная соправительница, что-то еще можно было бы спасти, но кто может узаконить право Тутмоса на престол? Ее высочество Неферу все на свете отдала бы, лишь бы уйти от ответственности, которую налагает положение супруги фараона. Спокойная жизнь – вот все, чего она желает. Великий рычит и фыркает, как загнанная в угол кошка, а сделать ничего не может.
– Но мы же не можем отравить царского сына! К тому же единственного, оставшегося в живых! Великий не успокоится, пока наши собственные мозги не брызнут на пол Амона!
– Тише! Разве я говорил что-нибудь подобное? Прежде всего мы должны оставаться реалистами. И все же есть способ выиграть то, что нам нужно, – время.
– Ее высочество царевна Неферу?
– Вот именно. Пройдет еще несколько лет, прежде чем маленькая царевна превратится в женщину, но уже сегодня она обещает стать всем тем, что только может пожелать видеть в своей супруге фараон. Покуда она растет, сердце фараона будет спокойно.
– А если сам фараон отправится к богу?
Наступила пауза, и Сенмут, почти парализованный от ужаса, затаил дыхание.
– Тогда мы сможем помогать молодому Единому и его супруге, которым еще многому придется научиться.
Сенмут за деревом чуть не упал в обморок. Пища, которую он с таким удовольствием проглотил лишь несколько минут тому назад, камнем лежала у него в желудке. В голове мутилось, но он сжал зубы и ударился раз-другой щекой о шершавый ствол, морщась от боли. Смысл услышанного еще не вполне дошел до него, но он уяснил достаточно, чтобы понимать: ослабей он сейчас хоть на мгновение или выдай себя неосторожным движением – и расстанется с жизнью. Поэтому он еще плотнее завернулся плащ, хотя спина была мокра от пота.
– Так, значит, мы договорились?
– Договорились. Не стану напоминать, что от вас потребуется величайшая осмотрительность.
– Разумеется. Когда все произойдет?
– Очень скоро. Я уверен, что фараон вот-вот объявит, кто будет его преемником. Предоставьте все мне. Когда я позову, мои приказания должны быть исполнены без промедления, но до тех пор ничего не предпринимайте.
– А если нас раскроют?
Другой человек тихо засмеялся, и Сенмут навострил уши. Ему показалось, что он слышал этот звук раньше. В следующую секунду, когда человек заговорил, на этот раз немного громче, юноша окончательно убедился в этом, но кому принадлежит голос, он так и не смог вспомнить. Парящий в ночном воздухе звук казался нереальным, как голос безликого духа. Юноша лихорадочно рылся в памяти, пытаясь одеть его плотью.
– Ты думаешь, Единому никогда не приходила в голову мысль о такой возможности? Разве ты не знаешь, что в глубине души он жаждет, чтобы так случилось, но свершить это ему не хватает решимости? Не бойся. Нас ждет успех.
Следующие слова донеслись уже с некоторого расстояния, и Сенмут с несказанным облегчением осознал, что они уходят. Тишина снова окружила его, и он, шумно выдохнув, соскользнул на землю. Его глаза были по-прежнему закрыты, он лежал, растворившись в потоке благодарности, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой.
– Благодарю тебя, благодарю тебя многократно, могучий Хонсу, – сказал он вслух. Потом встал и побежал, но не туда, откуда пришел, а в обход, мимо священного озера, вокруг всего храма, в собственную келью. Он никого не хотел видеть. На бегу он твердил про себя слова, услышанные раньше, растущее беспокойство придавало резвости его ногам. К тому времени, когда он достиг коридора, куда выходили кельи жрецов-виибов, ему стало понятнее, о чем шептались те двое. Вместо того чтобы войти в свою келью, он пробежал мимо, остановился, тяжело дыша, у двери комнаты филарха и тихонько постучал. Взглянул на водяные часы. Он был потрясен, увидев, что прошло целых три часа. Луна зашла, разбросав серые предутренние тени по черно-белому каменному полу. Внутри кто-то зашевелился.
– Кто там?
– Это я, господин. Мне нужно с вами поговорить.
– Ну, входи.
Сенмут толкнул дверь и шагнул внутрь. Филарх, молодой человек с покатым лбом и маленьким тонкогубым ртом, сидел на своем ложе и зажигал лампу. Пламя желто вспыхнуло и выровнялось. Сенмут подошел ближе и поклонился, с тревогой осознавая, что у него расцарапана щека и весь он мокр от пота.
– Ну? В чем дело?
Филарх почесал толстым коротким пальцем глаз, сонно глядя на Сенмута. В ту же секунду; едва Сенмут набрал в легкие побольше воздуха для ответа, две независимых вспышки озарения молниями пронеслись через его сознание и стены завертелись вокруг него. Он взмахнул рукой, чтобы не упасть, все его нутро содрогнулось. Человек на постели нетерпеливо набросился на него:
– Говори. Говори же! Ты что, болен?
С уверенностью, не имевшей ничего общего с мыслью, а поднимавшейся прямо из тех сумеречных глубин его «я», которые сегодня уже помогли ему выжить, Сенмут осознал, что не должен ничего говорить ни этому человеку, своему господину, ни одной живой душе в храме о том, что слышал. И в ту же секунду с ужасным, отупляющим страхом понял почему. Ибо теперь он вспомнил, какое у того низкого, хрипловатого голоса тело – толстое, дряблое – и морщинистое, коварное лицо. То был не кто иной, как верховный жрец Амона, могущественный Менена собственной персоной. Внезапно мозги Сенмута заработали с удвоенной силой, и он сумел гладко, без малейшей запинки, которая выдала бы, какой хаос беспорядочно кувыркающихся мыслей царит в его голове, произнести:
– Господин, прошу вашего прощения, но у меня лихорадка, живот болит… вот здесь… – он приложил руку к желудку, – и я не могу спать.
– Это все жара, – проворчал филарх. – Возвращайся к себе. Скоро, наверное, рассветет, если к утру не поправишься, пришлю к тебе лекаря. Можешь не ходить на работу сегодня.
Сенмут поклонился и забормотал слова благодарности. Филарх вовсе не был злым человеком, просто у него было много забот, и он вечно суетился по пустякам. Кроме того, у него тоже частенько болел живот, не давая уснуть.
Повинуясь порыву, Сенмут снова повернулся к нему:
– Господин, если кому-то нужно попасть на аудиенцию к фараону, как бы это можно было устроить?
– Чего это ты вдруг? – спросил филарх подозрительно. – Что ты хочешь сказать Единому?
Сенмут напустил на себя изумленный вид.
– Я? Мне бы и в голову не пришло даже мечтать о столь великой чести; я знаю, что только могущественнейшие люди страны имеют право говорить с ним. Но однажды я видел издалека, как он царственно шествовал мимо, вот мне и захотелось узнать, просто так.
– Ну, так уйми свое любопытство. Неудивительно, что у тебя лихорадка, когда ты ночи напролет ломаешь голову над такими вещами. Ни мне, ни тебе нечего и надеяться на то, чтобы поговорить с ним. Это невозможно. А теперь уходи, утром придешь, если не полегчает.
Сенмут снова безмолвно поклонился и вышел, закрыв за собой дверь. По пути к своей келье он осознал, что страшно устал не только телом, но и душой и рискует упасть на пол, не добравшись до постели. Войдя в келейку, он со вздохом закрыл дверь и бросился на матрас.
«Даже окажись я каким-нибудь чудом в его присутствии, что бы я мог ему сказать? Да и как бы он отнесся к моим словам, даже если бы меня не выволокли из дворца, по рукам и ногам закованным в цепи? Разве я не слышал собственными ушами, как верховный жрец сказал, что в глубине души фараон желает, чтобы это произошло? Оправдано ли такое деяние безопасностью Египта?
Лежа с закрытыми глазами и уже почти отдавшись во власть сна, Сенмут вспоминал высокую, грациозную царевну, которая регулярно приходила со своими прислужницами в храм. Ее, как и ее отца, он видел издалека. Она не была красавицей, но благодаря нежности облика казалась доступнее и проще, чем ее высокомерные провожатые. Внезапно пробудившаяся вина спугнула сон и заставила его открыть глаза.
«Пожертвовать всем? Бежать во дворец?» Он повернулся на другой бок. «Нет, буду реалистом и сохраню себе жизнь, в точности как верховный жрец», – угрюмо сказал себе он.
Ему до смерти хотелось с кем-нибудь поделиться. Он вспомнил лучшего друга, Бению Гуррийца, подмастерье храмового инженера. Но темноволосый курчавый Бения с его сияющей белозубой улыбкой и обворожительными манерами отправился со своим хозяином далеко на юг, в Асуан, где на испепеляющей жаре помогал надзирать за работой в каменоломнях. К тому же для него не было в жизни ничего святого или серьезного, так что он легко мог проболтаться.
Сенмут натянул плащ на плечи и уснул, но его сны были путаными и постыдными. Он проснулся в поту и обнаружил, что ветер и в самом деле поднялся. В крохотное окошко под потолком его каморки залетал песок, частички серой пыли висели в зловонном воздухе. Сколько он спал, сказать было невозможно. Он встал и выглянул в коридор, но там все было тихо, двери других каморок были раскрыты настежь, и он понял, что его собратья-виибы уже приступили к своим обязанностям. Во рту у него было противно, на зубах скрипел песок, и он умирал от желания помыться. Юноша добрел до конца квартала и кликнул раба. Вернулся в комнату и опустился на единственный стул, который у него был, – неудобное сооружение из пучков связанных вместе стеблей папируса. Голова болела, и Сенмут невольно подумал, не был ли эпизод в саду плодом лихорадки, которая и впрямь овладела его сознанием. В конце концов, до него, как и до всякого, кто живет бок о бок с властью, доходят сотни слухов, а о фараоне сплетничают все, кому не лень, с утра до ночи. Однако Сенмут был наделен трезвым, расчетливым умом, в котором, несмотря на впечатлительность, досужие размышления никогда не смешивались с реалиями жизни. Кроме того, Сенмут обладал способностью к беспощадно-объективному наблюдению, своего рода отрешенностью чувств, которая позволяла ему замечать и запоминать поступки людей и реакцию на них окружающих. Ему просто не верилось, что происшествие, оставившее столь отчетливый, болезненный и яркий след в его памяти, могло быть плодом бредовых видений перегревшейся головы.
Прибежал его раб, и Сенмут приказал принести ему таз с горячей водой и чистое белье. Спросил у мальчика, который час.
– Третий час после восхода солнца, господин.
– Так я и думал. Жрецы уже поели?
– Да. Они уже разошлись по делам. Филарх велел мне привести к вам лекаря, если потребуется. Сходить?
– Нет. Не думаю, что он мне понадобится. Сходи лучше на кухню, принеси мне каких-нибудь фруктов. Потом приберешься здесь. Меня освободили от работы сегодня, так что я думаю пойти к реке.
– Лучше оставайтесь дома, господин. Хамсин начался.
– Да, я знаю.
Мальчик ушел и вернулся, пошатываясь под тяжестью таза с водой, от которой поднимался пар. Поставил посудину на подставку и вышел.
Не прошло и минуты, как он вернулся с тарелкой фруктов и чистой одеждой. Сенмут поблагодарил его, тот кивнул и ушел.
С довольным вздохом Сенмут погрузил голову и руки в теплую воду, тщательно умылся, прислушиваясь к судорожным всхлипываниям ветра, то и дело забрасывавшего в комнату горсти песка, который облепил мокрое тело юноши, не успел тот вытереться. Сенмут обернул чистую льняную ткань вокруг бедер, распределил спереди складки так, чтобы они свисали до земли, и сколол их бронзовой булавкой. На руку повыше локтя надел бронзовый обруч, на котором было написано, кто он такой.
«А каким я чувствовал себя могущественным, – мрачно подумал он, протягивая руку за фруктом, – когда впервые надел этот браслет. Откуда мне было знать, что он станет символом моей неволи».
Он не понимал других виибов, которые, казалось, были вполне довольны службой и относились к ней всерьез, даже самые старшие из них, хотя никакое повышение им точно не грозило. «Почему, – подумал он с яростью, сплевывая семечки на пол, – храм не может просто купить побольше рабов?» Но он знал, что есть места, куда рабам входить нельзя, священные места, вот потому-то жрецам храма и приходилось делать черную работу, до которой снизойдет не всякий раб.
Сенмут, в отличие от своих друзей, не был истово верующим. Его отец был благочестив, мать ежедневно молилась местному деревенскому божеству, но сын внутренне отстранялся от наивности родителей и смотрел на них, снисходительно улыбаясь. Он и в храм пришел со вполне определенной целью, и целью этой было образование. Если для достижения этой драгоценной цели он должен читать молитвы, четырежды в день совершать омовения и брить голову – что ж, так тому и быть. Он знал, что его судьба зависит от него и ни от кого больше. Именно потому он и был так глубоко несчастен. Он верил в себя, а его замуровали в темном узком каменном коридоре, выйти из которого можно было, лишь оказавшись у кого-то на побегушках да натирая полы, и он оказался беспомощен. Он был счастлив только в классе, изучая колоссальные достижения предков, которые были больше, чем просто людьми. Он жаждал собственными глазами увидеть каменные красоты, которые, казалось, манили его в ночи, прося о чем-то, что он, конечно, смог бы им дать, только вот ему никогда не предоставят такой возможности.