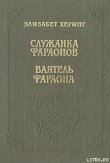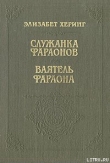Текст книги "Искушение богини"
Автор книги: Паулина Гейдж
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
– Нет, он так не скажет. Он спросит: «Где сын мой, Тутмос, кровь крови моей? Я не вижу его, ни в трудах, ни в забавах». И тогда он накажет.
– Ваше величество, – сказал Нехези, пошире расставив ноги и поднимая на нее глаза, – вы не правы.
– Нехези, – ответила ему она, с упреком глядя на него, – я никогда, никогда не бываю не права.
Остаток пути они прошли в молчании, но не прошло и недели, как Тутмос и его друзья Нахт, Менхеперрасонб и Яму-Не-джех оказались младшими офицерами в дивизии Сета. Мальчик так обрадовался муштре, словно родился солдатом.
Неферура тоже подрастала. Ей исполнилось двенадцать, она была тонкой, бледной, чрезмерно хрупкой копией своей яркой жизнелюбивой матери; девочка хорошо училась, но все свободное время проводила в мечтах, бесшумно переходя из одной комнаты дворца в другую с кошкой, щенком или букетом цветов в руках. Ее детский локон давно уже обрезали, но она так и осталась ребенком, в котором невинность странным образом соединялась с ледяным высокомерием, делая ее загадкой. Скрытная и чувствительная, всю силу Немного потока своей любви она направляла на царственную мать и смуглого вельможу, который был ее опекуном. Но все чаще и чаще Неферура приходила на плац, где стояла под зонтиком, укрывавшим ее от пыли и солнца, наблюдала, как молодой Тутмос стреляет из лука и бросает копье, слушала его смех, когда он разговаривал с друзьями, видела, как перекатываются под смуглой кожей тугие мускулы его юного тела.
Неферура старалась как можно реже видеться с сестрой. В свои шесть лет Мериет-Хатшепсут была строптивым, требовательным, крикливым и грубым ребенком. Однажды она ворвалась к матери в комнату и, красная от ревности и злости, обвинила ее в том, что Неферуру она любит больше, чем ее. Хатшепсут не стала ее разубеждать, но выпорола так, что девочка легла спать с горящими от побоев ягодицами и полной головой темных горьких мыслей об отмщении.
Глава 22
Хатшепсут достигла вершины своей великолепной зрелости и, кажется, так и застыла на ней, сияя здоровьем, энергией и красотой. Можно было подумать, 'что внутри своей божественной сущности она и впрямь бессмертна, мужчины тянулись к ней, как и раньше, привлеченные мощью и тайной самого бога Амона. Зачастую слуги узнавали о ее приближении раньше, чем появлялись знаменосцы. Сама атмосфера вокруг едва уловимо менялась, словно от нее исходило и летело вперед дуновение всесилия; а может, это просто ветер приносил запах ее духов, неизменной мирры. Все чаще и чаще она вызывала в подданных суеверный страх, и поток паломников, стремившихся в ее святилище, с каждым месяцем возрастал.
Но внутри ее терзало беспокойство. Лежа на своем ложе душными летними ночами, Хатшепсут думала о Сенмуте, чье присутствие постоянно напоминало ей о том, что есть мужчина, готовый удовлетворить все потребности ее царственного тела, стоит ей сказать лишь одно слово. Годами она отказывала себе в этом, сначала ее удерживало положение соправительницы при Тутмосе, потом – осознание своего положения фараона, единственного в своем роде, обреченного на одиночество. Но скоро вдовство ей наскучило, а бессонные ночи и лихорадочные сны сказали, что настала пора оказать последний, решающий знак доверия мужчине, которого она любила превыше всех остальных.
Однажды жарким вечером, когда пурпурные стяги ладьи Ра скрылись, сжигая все на своем пути, за горизонтом, Хатшепсут приказала умастить себя ароматными маслами и одеть в платье из тончайшего льна. Потом она послала за ним. Ради этого вечера женщина отложила свой шлем. После коронации она снова отрастила волосы, хотя и не такие длинные, как раньше, ведь ей как фараону нельзя было появляться с непокрытой головой. Локоны спускались вдоль ее щек, обрамляя лицо, которое подведенные черной краской глаза и красный рот делали поразительно женственным. Она надела простой белый с серебром головной убор с лентами, спускавшимися ей на плечи. Приказала принести фруктов, вина и лучшие алебастровые лампы, такие тонкие, что сквозь них был виден узор на крыльях бабочки, которая порхала по комнате. Она отпустила Нофрет и рабынь, чтобы он застал ее одну и без украшений, как в самый первый раз, и стала ждать, встав возле вентиляционной трубы, чтобы ее овевал дующий с севера ветерок.
Стражник доложил о Сенмуте, и она кивком приказала впустить его. Когда серебряные двери бесшумно закрылись и он поклонился и зашагал к ней, искорка удивления мелькнула в его глазах и так же быстро погасла. На нем не было ничего, кроме простой белой набедренной повязки. Голова была непокрыта, ноги босы – они с Та-кха'ет как раз собирались пойти купаться. На его груди блеснули масло и пот, когда он снова поклонился ей. Ни одна из тех мыслей, что метались у него в мозгу, не отразилась в лице, но он сразу заметил изменения в ее облике: прозрачные, струящиеся складки плаща, чудные сияющие волосы, прекрасные глаза, прикрытые в ленивой, соблазнительной истоме. Сколько раз ему хотелось дотронуться до нее, сидя совсем рядом в аудиенц-зале, чувствуя ее тепло и вдыхая аромат ее духов на пирах, видя, как напрягаются ее руки и ноги, когда она бросает копье на охоте. И раз за разом он прогонял эти богохульные мысли, как учил его Хапусенеб, так что с годами лицо его приобрело скрытное и даже немного жестокое выражение, взгляд стал пронзительным, манеры – заносчивыми и нерасполагающими для всякого, кто не знал могущественного Эрпаха близко.
Хатшепсут увидела, как приподнялись его брови, когда она улыбнулась и протянула ему руку.
– Давно уже мы не обедали вдвоем и не говорили ни о чем, кроме дел, – заметила она, пока он целовал ее ладонь. – Проходи, Сенмут, садись. Расскажи, как поживает Та-кха'ет?
Он позволил ей подвести себя к низкому столику и одним изящным движением опустился на подушки. Пока она устраивалась рядом, он поискал глазами рабыню, которая должна была прислуживать.
– Та-кха'ет поживает хорошо, – ответил он. – Когда ваше величество не испытывает нужды во мне, мы живем очень тихо, и, по-моему, ее это немного раздражает. Она большая любительница развлечений.
Хатшепсут сама начала ухаживать за ним, наливать вино, предлагать фиги в меду и вымоченную в вине дыню.
– Вот как? Тогда тебе следует нанять для нее музыкантов или обеспечить ей другие удовольствия.
– Я так и сделал, но у нее непостоянный нрав. Она говорит, что ни один музыкант не может развлечь ее так, как я!
Они улыбнулись друг другу, и странная официальность этой встречи начала понемногу испаряться.
– И она права, разумеется! – сказала Хатшепсут, поднимая свой бокал и глядя на него поверх его края. – Я ведь говорила тебе раньше – надо было жениться на ней и сделать из нее княгиню. Вот чего она хочет.
– Да, знаю, – ответил он.
– Так почему же не женишься? Я дам за ней хорошее приданое. Я же знаю, какие вы, князья, бедные!
– Мне кажется, – беспечно заметил он, – что у нас уже был похожий разговор. Разве память царя так ослабела, что он забыл?
– Возможно, – просто сказала она, – ведь с того раза прошли годы, великий князь, а мужчины изменчивы в своих привязанностях.
– Некоторые – да, – так же беспечно ответил он, – но только не я.
– Может быть, тебе не трудно будет еще раз повторить мне, почему Та-кха'ет до сих пор остается рабыней?
Он поставил свой золотой кубок и некоторое время сидел, неотрывно глядя на нее. Комната наполнилась тишиной ожидания. Она чуть слышно вздохнула, пошевелилась на подушках, ленточки ее головного убора то и дело взлетали и опускались от горячих дуновений ветерка.
Наконец он посмотрел ей в лицо.
– Нет, мне не трудно. Но, ваше величество, теперь вы царь. И по-моему, теперь ваша очередь говорить первой, а не моя, ибо, хотя я больше не боюсь насмешек, я все же опасаюсь, что мои слова могут не коснуться слуха, притупившегося теми годами, о которых вы говорили.
– Ах, Сенмут, – тихо сказала она ему, – зачем мы жонглируем словами, точно пытаемся отдалить что-то другое? Разве ты не знаешь, что всю жизнь для меня существовал лишь один мужчина, которому была отдана моя любовь и которого буду любить до самой смерти?
И она порывисто схватила его за руки, подняла их к своему лицу и уткнулась в его ладони, целуя их.
Он склонился над ней.
– Теперь моя очередь слушать, – сказал он. – Говори же, Хатшепсу, говори!
Она застонала, уронила его руки себе на колени и, точно слепая, потянулась к его лицу.
– Я люблю тебя, Сенмут, люблю. Я жажду принадлежать тебе. Мое тело рвется к тебе; моя душа тоскует без тебя. Вот я унизилась перед тобой, готовая принять твою любовь, твой гнев или твое безразличие. Я готова. Обними же меня!
Ее пальцы затрепетали на его веках, щеках, и она заплакала.
Он рванулся вперед и стиснул ее в объятиях, яростно прижимая ее тело к своему, шепча слова любви, которые прорвались сквозь барьер его так долго сохраняемой почтительности.
– Хатшепсу! Возлюбленная моя, сестра моя.
Он взял ее подбородок в свои ладони, и она прижалась к нему, словно утопающая. Когда они поцеловались, губы обоих дрожали от болезненной нежности, и он почувствовал, как ее слезы катятся меж его пальцев.
– Ты уверена? – спросил он ее нежно. – Это ведь не так уж и мало для фараона.
Она торопливо закивала.
– Я уже давно уверена, – тихо ответила она, целуя его шею, подбородок, глаза. – Давай любить друг друга, покуда можем, мой дорогой брат, ибо нет ничего печальнее, чем видеть, как любовь съеживается и умирает от недостатка солнечного света.
И она медленно опустилась на колени, а его руки касались ее, как это бывало в его снах, исследуя каждый уголок ее прекрасного сильного тела, следуя всем его безупречным изгибам. Он привлек Хатшепсут к себе и рассмеялся так громко, что его смех спугнул дремлющие по углам тени и эхом зазвучал под крышей, и она засмеялась вместе с ним. Они поднялись и прильнули друг к другу, его руки сплелись вокруг ее талии, ее – обвили его шею, и они поцеловались снова, их голодные рты жадно впились друг в друга, готовые впитать всю радость, которой они так долго были лишены.
Он опустил ее на подушки, лаская податливую бархатистую плоть и чувствуя себя до боли счастливым, забыв о ее божественности, ее царственности, обо всем, кроме того, что перед ним его истинная жена, подруга его дней, читающая его мысли, та, которая ждет его и хочет быть вечно с ним одним. Он вошел в нее медленно, сдерживая себя, не сводя глаз с ее лица, наблюдая, как ее прекрасные черты расслабляются в экстазе. Потом они лежали рядом, горячий ветер обвевал их мокрые тела, ее голова на его плече, как на подушке, его руки сомкнулись вокруг нее. Они, улыбаясь, думали о грядущих днях и ночах, наполненных новым светом.
– Понять не могу, чего я так долго ждала, – сказала она. Сенмут рассмеялся, усталый и довольный.
– Время было неподходящее, ваше величество, – ответил он. Она постучала его по груди острым ногтем.
– Прошу тебя, Сенмут, любимый, когда мы одни, не называй меня ни величеством, ни даже Хатшепсу. Зови меня Хатшепсут, в твоих объятиях я не первый среди могущественных и почитаемых благородных людей царства, а всего лишь первая среди благородных женщин.
Он усмехнулся.
– Единственная из женщин, – сказал он. – Ты всегда была единственной.
– А как же Та-кха'ет?
Он повернул голову, но так и не смог разглядеть, что за выражение лица прятала она за спутанными волосами.
– Та-кха'ет как мягкая желтая луна урожая, к которой я прихожу спокойно, – сказал он. – А ты как огненное испепеляющее солнце летнего полдня. Разве я могу вернуться в объятия Та-кха'ет с такими ожогами?
– Но ведь ты не отошлешь ее от себя?
Счастливая, Хатшепсут хотела, чтобы и Та-кха'ет тоже была довольна.
– Нет, это было бы жестоко. Но я не женюсь на ней, никогда. Это тоже было бы жестоко.
Ей хотелось спать, теплая лень сковала ее члены.
– Значит, ты никогда не женишься, – пробормотала она. – Я согласна делить тебя с рабыней, но горе той женщине, которую ты назовешь своей женой!
– Ты моя жена, любимая, – сказал он, крепче сжимая ей в своих объятиях. – Никто и никогда не разлучит нас, только! смерть.
На заре Хапусенеб и другие жрецы пришли, как они делали каждое утро, пропеть хвалебный гимн перед серебряной дверью. Но двое внутри не слышали их: они спали.
Хотя никто не сказал ни слова, вскоре все во дворце знали, что могущественный Эрпаха стал возлюбленным царя. Та-кха'ет смирилась с новым положением вещей немедленно, без жалоб. Но теперь она реже видела своего повелителя, и это причиняло ей боль. По-своему она любила Сенмута, а его тело всегда доставляло ей наслаждение. Он был все так же добр к ней, проводил с ней время после полудня, когда они болтали о всяких пустяках, но ничто не могло изменить того факта, что он больше не посылал за ней по ночам, и ей было немного одиноко. Если бы она могла родить ему ребенка, то чувствовала бы себя увереннее; но она была бесплодна, а это укор любому мужчине. Он говорил ей, что это не имеет значения, что он всегда будет уважать ее и считать своим другом, но она не могла понять, как мужчина может прожить без сыновей. И все же долго грустить было не в ее натуре, и скоро она нашла себе множество других занятий: вела дом, отдавала распоряжения слугам, нанимала и увольняла ему работников. Правда, она понимала, что по-прежнему не будет уже никогда, и ей было жаль.
Днем, когда у них было полно обязанностей и забот, ни Сенмут, ни Хатшепсут не обращались друг к другу иначе, чем так, как того требовал протокол аудиенц-зала или кабинета. Говорили они только о делах и политике. Никто не мог бы показать пальцем и сказать: «Вот, вот в чем разница». И все же разница была, и никто не чувствовал ее сильнее, чем Хапусенеб. Задолго до того, как эта новость стала известна каждому поваренку на кухнях, безошибочное чутье подсказало ему, что отношения царя с ее главным управляющим изменились. Он ждал этого и все же не мог не охладеть к Сенмуту, и тот сразу ощутил это. Однажды утром он подошел к Хапу-сенебу в храме. Верховный жрец как раз завершил омовение и отправлялся завтракать, когда Сенмут вышел из-за колонны и преградил ему путь. Хапусенеб поклонился, его глаза ничего не выражали. Он сделал движение, чтобы пойти дальше, но Сенмут протянул мускулистую руку, и тот был вынужден задержаться. Его служки ждали рядом; он сделал им знак идти и повернулся к Сенмуту. Сенмут не стал играть словами.
– Чем я обидел тебя, Хапусенеб, что ты скрываешь от меня свое лицо? Такая невежливость не в твоем духе. А я-то думал, что, раз мы так долго работаем бок о бок, таким глупостям между нами уже не место.
Хапусенеб заглянул в злые черные глаза под темными прямыми бровями и коротко поклонился.
– Твои слова верны, Сенмут, но я не стану просить прощения, – спокойно сказал он. – Я и впрямь невежлив, и, должен признаться, меня самого это удивляет, поскольку я всегда гордился собственным беспристрастием и тем, что я выше обычных глупых предрассудков и служу только Египту и богу.
– Так оно и было, и я уважал тебя за мудрость. Но теперь я обнаружил, что теряю друга, которого завоевал медленно, с таким трудом; и я не готов к тому, чтобы наши с тобой пути, Хапусенеб, разошлись по неведомой мне причине. Ты должен хотя бы объяснить, в чем дело.
– Я ничего тебе не должен! – Впервые в жизни Сенмут увидел, как обычно спокойный взгляд серых глаз изменился и стал жестким. – Неужели я должен обнажить перед тобой свое сердце, чтобы доказать, что я ничего тебе не должен? Оставь меня в покое!
– При чем тут твое сердце? – рявкнул в ответ Сенмут. Хапусенеб криво улыбнулся.
– Если ты и вправду не знаешь, то я приношу свои извинения и признаю, что я был несправедлив к тебе, Сенмут. Но больше я ничего не могу сказать. Ты и я по-прежнему остаемся друзьями и союзниками, но ты должен дать мне время восстановить уважение к самому себе.
Он снова криво улыбнулся и зашагал прочь, его мантия развевалась, когда он прошел между колоннами и вышел в дверь.
Сенмут, злой и озадаченный, смотрел ему вслед. В ту ночь, когда они с Хатшепсут лежали рядом, он рассказал ей об этом происшествии.
Она долго молчала.
– У Хапусенеба есть одна тайна, – сказала она наконец, – но говорить об этом нельзя, это только между ним и мной. Хотя я и люблю тебя, Сенмут, но его доверие предавать не буду.
– Его секрет никогда не вставал между нами раньше, и меня это тревожит. Как я могу продолжать работать с ним бок о бок? Он взял меня под крыло, когда я был еще подмастерьем Инени, и доверял мне еще прежде, чем убедился в глубине моей преданности тебе. Почему же вдруг такая перемена?
– Он очень проницателен, мой Хапусенеб, и его помощь в том, что касается оценки человеческих характеров, для меня незаменима. Но не забывай, Сенмут, что мы с ним выросли вместе, делясь всем, и я знаю его гораздо дольше, чем тебя. Больше я ничего не скажу.
Тут Сенмут заподозрил правду и воскликнул:
– Но ведь я же не знал! Я даже не догадывался! Почему же он со мной не поделился?
– Потому что он гордый человек. Не бойся, все будет как и было. Он честен и справедлив и вовсе не хочет, чтобы ты стал его врагом, но он мучается. Ему нужно время, чтобы снова взять верх над самим собой, как это всегда бывало в прошлом. Я тоже люблю его, Сенмут, как моего самого старого и близкого друга, и когда ему больно, то больно и мне.
Больше они не разговаривали, а тихо лежали всю ночь, вглядываясь в темноту, как и Хапусенеб в ту же ночь, и каждый думал о своем.
Приближался праздник ее мириадов лет, и Хатшепсут с тревогой вглядывалась в проходящие дни, не зная, как отметить это событие, такое особенное потому, что в течение ее царствования оно уже не повторится. Ей вспомнился отцовский юбилей и бурное ликование, которое охватило тогда и дворец, и город. Помня, с одной стороны, о подрастающем Тутмосе, а с другой – о многочисленных свершениях своего царствования, она решила отпраздновать это событие пораньше. Ей казалось, что, приблизив установленный обычаем срок, она еще раз напомнит людям о том, какие преимущества принесло с собой ее правление, и заодно укрепит свою власть. Нельзя сказать, что Хатшепсут нуждалась в подобном подкреплении, просто имя молодого царевича всплывало слишком часто для того, чтобы она чувствована себя спокойно. Его искусное обращение с луком, меткость в метании копья, демонстративная ловкость в управлении колесницей – все только об этом и говорили, а ее это совсем не устраивало. Она то и дело задавала себе вопрос: может быть, зря она не послушалась Нехези? Пыталась представить дворец без него: как она правила бы, не встречая ни в ком сопротивления, а Неферуру объявила бы наследницей, и все было бы просто замечательно. Но радость, которую Хатшепсут испытывала, представляя себе такую картину, неизменно увядала, и она видела себя одну перед судом Амона, немую и виновную. Так что в конце концов она отвергла саму мысль об отравлении Тутмоса. Отрава беспощадна. Это орудие слабых, но она не такова. Еще нет. И с Тутмосом она разберется по-своему.
Давая смотр войскам, она наблюдала, как коренастый, нетерпеливый юнец настегивает своих лошадей, проносясь мимо нее со всем войском. В свои четырнадцать лет он стал очень заносчив, расхаживал с важным видом по дворцу со своими дружками, требуя повиновения от всех и каждого. Он беспокоил ее. Замечая пылкие взгляды, которые тайком бросала на него Неферура, она решила, что скоро обсудит со своими министрами перспективу возможной помолвки и тем самым пресечет малейшие поползновения к мятежу, которые, возможно, бродят в голове Тутмоса. Помолвка – верный способ много пообещать и ничего не дать. А пока до него дойдет, что она предназначает трон для Неферуры, а не для него, будет уже поздно. Неферура унаследует созданный ею сильный кабинет, и тогда Тутмос, как бы он ни дулся и ни кипятился, ничего не сможет поделать.
Но мириады лет и годовщина появления приближались, а она все еще не нашла подходящего способа отпраздновать это событие. Идея осенила ее во время молитвы, когда она сидела на балконе своей спальни, разговаривая с богом. Она немедленно оторвалась от созерцания верхушек деревьев, вошла в спальню и послала за Сенмутом.
Когда он явился, она сразу перешла к делу.
– Ты отправляешься в Асуан, сейчас, – сказала Хатшепсут. – Возьмешь с собой Бению или кто там тебе еще понадобится. Добудете в тамошних каменоломнях два обелиска и привезете их в город к моему празднику.
– Но, ваше величество, – запротестовал он, – осталось всего семь месяцев! За такой срок этого не сделать!
– Сделать, и сделаешь это ты. Отправляйся немедленно. И еще: вели рабочим снести кровлю из кедра, которую построил в доме Амона мой отец. Ты говорил мне на днях, что, дерево прогнило, вот и пусть его уберут. Я поставлю там свои обелиски. Если какую-то часть кровли можно еще спасти, то затем я восстановлю ее вокруг них.
– Вы поставили передо мной огромную задачу, – спокойно заметил он, – и если ее возможно исполнить, то я это сделаю, но на этот раз я ничего не обещаю.
– Ты все сделаешь, – сказала она. – Я приостановила все работы в Карнаке, так что можешь взять оттуда столько людей, сколько пожелаешь. В твое отсутствие Хапусенеб присмотрит за работами на крыше, если ты прикажешь. Сенмут, я многого требовала от тебя и в прошлом, но эта просьба самая большая. Ты выполнишь ее для меня?
Он склонился к ее улыбающемуся лицу:
– Как всегда, для вас я готов выполнить невыполнимое, ваше величество.
– Хорошо. Тогда не о чем больше разговаривать. Сенмут, Бения и несколько сот рабочих вместе с ними отбыли еще до конца недели. Многое из того, что значилось в списках, спешно составленных Сенмутом, пришлось оставить, но все это можно было выслать им вслед. Они с Бенией стояли на носу, гребцы налегали на весла, с берега поднимались благовонные дымы, и флотилия вышла на середину реки и начала подниматься вверх по течению. Хатшепсут смотрела им вслед, пока они не скрылись из виду, а Сенмут не сводил с нее глаз до тех пор, пока и она и ее пестро разодетые придворные не исчезли за поворотом реки.
Через два дня они высадились на берег. Хотя было уже поздно, за полдень, Сенмут никому не позволил отдыхать. Он велел рабочим ставить палатки в любой тени, какую они только смогут отыскать, предупредив, что городские ворота для них закрыты. Пока разгружали припасы, они с Бенией мерили шагами каменоломню, едва держась на ногах от испепеляющей жары.
– Клянусь Амоном! – побожился Бения. – Мы все перемрем в этом пекле! Что ж, полагаю, мне самое время позвать своих подмастерьев и начать вымеривать камни. Два обелиска. Скорее уж два палача. Будь проклят тот день, когда я познакомился с тобой, о мучитель людей!
– Выбирай осмотрительно, да слишком длинные не бери, – предупредил его Сенмут. – У нас мало времени. Люди могут работать в две смены, а после заката я велю зажигать лампы.
Бения застонал, вытирая ладонью лоб.
– Стало быть, ты берешься за свою работу, а я – за свою! Слава богам, могила моя уже готова.
«А моя нет, да и сам я еще не готов к тому, чтобы в нее лечь», – подумал Сенмут, глядя вслед размашисто шагавшему Бенин. Потом обернулся к лодкам и крикнул разгружавшим их людям, чтобы поторапливались.
Внимательным взглядом и ловкими руками хорошего лекаря Бения обследовал каждый уголок мрачных утесов и наконец выбрал подходящую жилу. Его подмастерья нарисовали на камнях два длинных вытянутых силуэта. Сенмут тут же приказал выдать рабочим массивные каменные молоты, и те принялись долбить породу, поднимая целые тучи белой пыли, которая выбеливала кожу и вызывала кашель. Сенмут работал вместе с ними, с мрачным усердием поднимая и опуская молот, и его пот смешивался с потом крестьян. День за днем Бения вышагивал рядом с рабочими, крича и ругаясь на чем свет стоит, но ни разу длинный и тонкий, как змея, кнут в его смуглой руке не опустился на их мускулистые, блестящие от пота спины.
Через месяц в скале начали проступать контуры двух обелисков, но они еще крепко держались за породу. Сенмут дал всем сутки отдыха. Он отослал на Север гонцов с известием о том, как продвигаются дела, и официальными поздравлениями. Пока его люди отсыпались и отмывались, он провел несколько часов, обшаривая две длинные упрямые глыбы в поисках хотя бы намека на скол или трещину.
Скоро рабочие, измотанные и подавленные, вернулись к работе. Почти незаметно начала подниматься река, а вместе с ней увеличивалась влажность. Воздух наполнился жалящими насекомыми. Сенмут освободил шестерых рабочих от молотов и дал им в руки метелки. Они ходили вокруг своих товарищей и отгоняли от них мошку, а те продолжали работать.
Три месяца спустя на смену молотам пришли резцы. Дело пошло медленнее, ведь работать теперь приходилось гораздо осторожнее. Бения оставил свою божбу и заглядывал через плечо каждому рабочему, советуя и предостерегая. Он умолял Сенмута прекратить ночные смены, потому что лампы не давали достаточно света. Он боялся, как бы камни не треснули, но Сенмут только упрямо мотал головой. Если они будут отдыхать по ночам, работу вовремя не закончить. Бения отошел, бормоча что-то себе под нос, и все продолжалось, как раньше.
Наконец настала пора освободить первый камень. Каменщики ждали на берегу, готовые сколоть последние шероховатости и отполировать его слегка скошенные бока. Сенмут, сердце которого бешено колотилось, приказал накинуть веревки на вершину и девятифутовое основание монолита. Бения собственноручно проверил каждый узел и натяжение веревок. Убедившись, что все в порядке, он отскочил в сторону и бросил взгляд на бревенчатый настил, по которому должен был скатиться камень. Инженер поднял руку, его цепкий взгляд не отрывался от куска гранита, который медленно, точно нехотя, пополз вниз.
– Стой! – крикнул он. – Верхушку потяните, еще, не так быстро, а то он соскользнет! Все разом!
Сенмут, который, примостившись на краю утеса, беспокойно наблюдал за всем происходящим внизу, увидел, как каменный колосс с грохотом лег на бревна.
И тут же раздался яростный вопль. Сенмут оставил свой наблюдательный пункт и бросился на крик. Бения вопил и проклинал все и вся, размахивая кулаками; потрясенные рабочие побросали веревки. Задыхаясь, Сенмут посмотрел вниз. В основании обелиска зияла огромная рваная трещина, прямо у него на глазах кусок камня отделился от колонны и упал к его ногам. Ошеломленный, он наклонился и подобрал его.
Бения молчал, его трясло от разочарования.
– О бог мой, бог мой, – прошептал он. – Это моя вина. Сенмут положил руку ему на плечо, готовый принять решение.
– Это не так. Камень любит тебя, Бения, и готов подчиниться твоей воле. Все дело в том, что мы долго работали по ночам, при плохом свете. Возможно, в темноте и был нанесен неверный удар.
Он расправил плечи и отшвырнул обломок.
– Начинаем сначала! – крикнул он. – Сегодня! Сейчас! Бения, прекрати богохульствовать и отправляйся в каменоломни. Вон там попробуй. – И он показал пальцем. – Найди другую подходящую жилу, и мы снова возьмемся за молоты. Назад, за работу! Царь хочет на свой праздник два обелиска, и она получит два обелиска, даже если мы все умрем под этим солнцем!
Рабочие отвернулись от него, угрюмо насупившись, но они слишком уважали Сенмута за то, что он работал бок о бок с ними, чтобы возражать. Когда он схватил первый попавшийся молот и зашагал к скале, которая раскалилась так, что не дотронуться, они последовали за ним. Бения, все еще расстроенный, отдал свой кнут подмастерью, а сам залез на небольшой песчаный холмик, но скоро присоединился к Сенмуту: вид князя Египта, раздевшегося догола и трудившегося рядом с феллахами, вернул ему хорошее настроение.
Они кончили на четыре дня раньше срока. Когда два могучих шпиля заняли свое место на плоту, уложенные основание к основанию, Сенмут приказал подать всем вина и сам на радостях выпил с Бенией. Они чокнулись за свое здоровье и за своих людей. На реке инженеры в своих лодках опасливо кружили рядом с плотами, внимательно наблюдая, чтобы камни как-нибудь не соскользнули в реку. Не все дожили до этого дня. Троих убила жара, их сердца не выдержали. Еще шестерых задавило камнем, который соскользнул, когда они вместе со своими товарищами выгребали из-под него песок. Сенмут приказал похоронить их с почестями, но, едва дело было сделано, тут же, довольный, отвернулся от могил, забыв о людях, которые, как и он когда-то, были простыми крестьянами на службе у фараона. По его мнению, то, что они сделали, было чудом, которое стало возможным благодаря его стараниям и умению.
Потребовались тридцать две хорошие лодки, чтобы дотащить плоты с монолитами до Фив по реке, и это несмотря на то, что Амон послал им в помощь хорошее наводнение, и вода уже клокотала в теснинах берегов, разливаясь кое-где за их пределы. Сенмут из своей маленькой каюты, приподнятой над плотом, с тревогой наблюдал, как отдали концы и лодки тяжело и медленно выгребли на середину реки и, подхваченные течением, поплыли.
Они плыли день и ночь, не останавливаясь на отдых, нервы были натянуты до предела. Даже Бения часами молчал, не сводя глаз с двух каменных глыб, низко сидевших в воде, а его пальцы так крепко стискивали борт лодки, что белели костяшки. Задолго до того, как они увидели Фивы, мелкие суденышки, рыбачьи лодки, ладьи знати стали отваливать от берегов и следовать за ними, так что они плыли в окружении любопытных, сгоравших от нетерпения. Хатшепсут увидела их рано утром: черный прилив на речной груди. Она собрала солдат у водяных ступеней храма, и они толпились у нее за спиной. Под деревьями храмового сада яблоку было негде упасть, горожане толпились повсюду; в тот день все получили выходной, чтобы посмотреть, как каменных гигантов будут втаскивать во внешний двор. Когда плоты подошли почти вплотную к ступеням и опасно накренились, едва матросы с веревками в руках попрыгали в воду и побрели к суше, Хатшепсут сама кинулась помогать. Облаченный в леопардовую шкуру Хапусенеб затянул у нее за спиной молитву. Сенмут оставил крохотную высокую кабинку и начал прокладывать себе путь на сушу. По его приказу взбаламученные прибрежные воды наполнились солдатами, которые попрыгали со ступеней, чтобы втащить камни на приготовленные для них деревянные катки. Дюйм за дюймом обелиски приближались к первому пилону, окруженные возбужденными, гомонящими людьми. Сенмут шел рядом с Хатшепсут и, прищурившись, наблюдал за каждым с трудом дававшимся шагом. Там, где когда-то была крыша из кедра, теперь в храм лился поток солнечных лучей, освещая две груды песка, на которые предстояло втащить обелиски. Их поднимут на веревках, основанием вперед, а потом опустят с другой стороны точно в квадратные дыры с пилообразными зазубринами, уже зиявшие в мостовой внутреннего двора. Сенмут ускорил шаг, Пуамра, молодой архитектор, пошел за ним. Вместе они проверили каждый оставшийся фут пути. Тем временем камни с громоподобным скрежетом уже тянули по плитам внешнего двора. Сенмут и Пуамра отошли в сторону, Хатшепсут встала рядом с ними. В молчании они наблюдали, как могучие каменные стрелы накренились и поползли вверх, а рабы, точно муравьи, полезли на кучи песка, чтобы направлять движение.