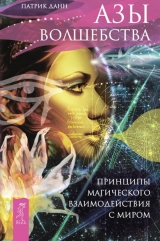
Текст книги "Азы волшебства. Принципы магического взаимодействия с миром"
Автор книги: Патрик Данн
Жанр:
Эзотерика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Характерные особенности заклинания
Серьезная литературоведческая работа, посвященная общим характеристикам заклинаний, до сих пор не проводилась. Между тем можно утверждать, что заклинания разных культур обладают рядом сходных черт. Это объясняется либо древностью данной литературной формы, либо идущей по пути конвергенции[61]61
Конвергенция – путь развития культур (и языков) по принципу схождения, когда ареалы зародившихся в разных местах культур со временем расширяются и пересекаются, в результате чего у разных народов возникают сходные культурные (и языковые) явления. – Примеч. ред.
[Закрыть] эволюцией в тех культурах, где заклинания появлялись, либо тем фактом, что они составляются, используются и передаются исходя из утилитарных соображений. Другими словами, заклинания работают и, поскольку это так, передаются из поколения в поколение в относительно неизменной форме, причем даже в культурах, не имеющих письменности. Более того, поскольку заклинания работают в соответствии с реальными принципами, между ними существуют фундаментальные литературные сходства. Это касается даже очень отличающихся друг от друга культур – например, индийских индуистов, англосаксов VIII века и шотландских кельтов. Индуистская Атхарваведа, англосаксонские метрические заклинания и шотландская Carmina Gadelica («Гэльские песни») – все это собрания заклинаний и заговоров. Некоторые из них, в частности Атхарваведа, возможно, восходят к индоевропейской культуре, существовавшей десять тысяч лет назад. Несмотря на временные и культурные различия, эти заклинания обладают общими структурными особенностями, в числе которых – инвокация внешних сил, использование сложного языка метафор, повторения и ритма.
С литературоведческой точки зрения, инвокация состоит из апострофы[62]62
Апострофа – риторическая фигура, стилистический прием, представляющий собой обращение к отсутствующему лицу как к присутствующему или к неодушевленному предмету как одушевленному. – Примеч. ред.
[Закрыть] или прямого обращения к божеству, ангелу или другому духовному существу. Инвокация может быть сформулирована с использованием формы третьего лица (когда существо называют «он» или «она») или второго («ты»). Иногда встречаются инвокации и от первого лица, когда маг идентифицирует себя с данным конкретным божеством. Знаменитый ритуал Нерожденного – хороший тому пример. В этом ритуале маг обращается к Нерожденному во втором лице: «Ты Тот, кто сотворил влажное и сухое, ты Тот, кто питает все живое». Затем он обращается к Нерожденному в третьем лице: «Это Он, Тот, кто создал голос Своим заветом, Господь всего сущего, король, правитель и помощник». И наконец, маг идентифицирует себя с Нерожденным: «Я – это Он! Нерожденный Дух! Всевидящий, сильный и бессмертный огонь!» Цель всей этой инвокации – подчинить всех духов[63]63
Godwin, David. Light in Extension: Greek Magic from Homer to Modern Times. St. Paul, MN: Llewellyn, 1992, 79–81.
[Закрыть]. В Атхарваведе мы находим заклинание «для земного и небесного успеха», которое начинается с удивительно сдержанной инвокации – в ней просто утверждается как факт, что боги поддержат просящего: «Этому человеку Васу, Индра, Пушан, Варуна, Митра и Агни[64]64
Интересно, что это очень древние индийские боги, поклонение которым было распространено тысячи лет назад. – Примеч. авт.
[Закрыть] даруют блага». Однако вскоре после этого жрец обращается к богам напрямую с перформативным высказыванием: «Свет, о боги, да снизойдет на него»[65]65
Атхарваведа, I, 9. Молитва о земном и небесном успехе. Архив сакральных текстов в Интернете: http://www.sacred-texts.com/hin/av/av140.htm.
[Закрыть].
В «Гэльских песнях» также используются инвокации, причем удивительно похожие по типу. В них, как и в Атхарваведе, предпочитают не обращаться к высшему божеству, апеллируя к ангелам, святым, Марии и Иисусу. Однако без инвокации высшего божества все же не обходится, хотя в большинстве случаев в ней взывают также к святым и другим религиозным персонажам. Например, в заклинании, где испрашивается благословение на океанское путешествие, говорится:
Mary, Bride, Michael,
Paul, Peter, Gabriel, John of love,
Pour ye down from above the dew
That would make our faith to grow…[66]66
Carmichael, Alexander. Carmina Gadelica. Edinburgh, UK: Floris, 1992, 120.
Мария, Бригит, Михаил, Павел,
Петр, Гавриил, Иоанн наш возлюбленный,
Оросите нас своей небесной чистотой,
И наша вера возрастет… – Примеч. пер.
[Закрыть]
Для «Песен» очень характерно установление заклинателем метафорической и псевдоисторической связи между перформативным магическим актом, который он сам в данный момент осуществляет, и архетипическим перформативным магическим актом, совершенным каким-то важным персонажем, обычно Марией. Например, благословение пастве гласит, что это «благословение, данное Марией своей пастве»[67]67
Carmichael, Alexander. Carmina Gadelica, 339.
[Закрыть]. Эти утверждения звучат непосредственно в самих заклинаниях, а не как предисловие или примечания к ним. Слова «благословение дано Марией своей пастве» – не заголовок фрагмента, это часть самого заклинания. Поскольку Марии нужно дать свое благословение пастве, стало быть, она должна процитировать себя в мифологическом прошлом. Автор данного заклинания «разделяет» историческую и мифологическую Марию таким образом, что в результате историческая Мария может цитировать Марию мифологическую. Говорящий, который идентифицирует себя с мифологическим прошлым, по сути, произносит: «То, что я говорю сейчас, этот важный персонаж сказал в мифологическом прошлом».
Обращение к мифологическому прошлому – особенность того, что Хастон Смит называет «первичной религией». В своих рассуждения о «времени грез» австралийских аборигенов он поясняет, что оно населено вневременными персонажами, которые положили начало всем парадигматическим действиям повседневной жизни: охоте, приготовлению пищи, путешествиям и т. д. Религия для аборигенов заключается в идентификации себя с этими архетипическими фигурами, поэтому, когда человек охотится, он становится Первым Охотником. Смит пишет: «Мы привыкли говорить, что, когда арунта[68]68
Арунта – племя австралийских аборигенов. – Примеч. пер.
[Закрыть] идут на охоту, они повторяют подвиги первого архетипического охотника, но данная формулировка слишком резко разграничивает человека и архетип. Лучше было бы сказать, что они входят в форму своего архетипа настолько полно, что каждый из них становится Первым Охотником, между ними не остается никаких различий. То же самое происходит и в других видах деятельности – от плетения корзин до секса»[69]69
Smith, Huston. The World’s Religions: Our Great Wisdom Traditions. San Francisco: Harper Collins, 1991 [1958], 367.
[Закрыть]. И хотя кельтские заклинатели-христиане не являются приверженцами того, что Смит называет «первичной религией», тем не менее они разделяют представление о том, что где-то в нашем мифологическом прошлом существует архетип, который можно воспроизвести посредством инвокации.
Обращение к архетипическому персонажу – это тип инвокации, но есть много заклинаний, которые также отсылают нас к архетипическим отношениям, однако квалифицировать их мы можем только как метафорические. Прежде чем анализировать магические метафоры, встречающиеся в заклинаниях, стоит коротко рассказать о литературных, не магических метафорах – насколько вообще любое художественное высказывание может считаться не магическим. Магические метафоры, такие как в староанглийских заклинаниях и «Гэльских песнях», несколько отличаются от литературных, а те и другие отличаются от всеобъемлющих метафор, которые иногда направляют наши мысли, как будет показано в главе 9.
Литературную метафору можно разделить на две части: цель и источник. Цель – это предмет, по отношению к которому мы применяем некую характеристику источника. Например, «он – лев» – это метафора, где «он» – цель, «лев» – источник, а мы экстраполируем какое-то качество льва и применяем его к цели. В этом случае данным качеством может быть свирепость или храбрость. В большинстве своем литературные метафоры поливалентны, но довольно прозрачны. Мы можем выявить ряд черт, применимых к цели, но при этом отбросить другие. Высказывание «Билл – просто лев в зале заседаний», вероятно, означает, что он агрессивен, энергичен и смел. Скорее всего, это не значит, что Билл в зале заседаний ест антилоп, бегает на четырех лапах и громко рычит. То, что мы знаем о Билле (он человек и наверняка цивилизованный), и наши знания о львах (это хищные животные) дают нам как сходства, так и различия. «Узкая (строгая)» метафора – это такая метафора, в которой просматривается лишь единственная связь между целью и источником: «Дженнифер – компьютерный волшебник». С другой стороны, в «широкой» метафоре содержится много точек соприкосновения: «Ее голос – симфония». Это может означать, что голос приятен или что он полон эмоций, или пр. Конечно, узость или широта метафор не абсолютны: одни метафоры очень широки, другие – очень узки. Некоторые широки до такой степени, что почти невозможно выявить связь между целью и источником: «Эта книга – настоящий зубр библиотеки». Данная метафора может означать очень многое, так что нельзя сказать с уверенностью, что именно здесь имеется в виду. Иногда такую неопределенную связь называют антиметафорой, но я предпочитаю термин паралогическая метафора: она за гранью логики, поскольку требует подвижности и изменчивости мышления. Среди литературных метафор мало паралогических или крайне широких, но таковы многие магические метафоры.
Некоторые лингвисты и когнитивисты считают, что метафора – одна из основ нашего мышления, первичный вид деятельности и даже база всей нашей языковой активности. Весь наш язык метафоричен, как утверждают некоторые авторы[70]70
Наиболее убедительные рассуждения о важности метафор содержатся в работах Дж. Лакоффа. Особенно это касается книги Лакоффа и Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» (Lakoff, George, Johnson, Mark. Metaphors We Live By. Chicago: Chicago University Press, 1980). Термины цель и источник были введены Лакоффом, но сейчас уже используются широко. Больше узнать о данном подходе к метафоре вы сможете, обратившись к главе 9. – Примеч. авт.
[Закрыть]. Я уже говорил об идее семиотической сети, модели взаимодействия между нашими категориями смысла, нашими символами. Метафора, с магической точки зрения, – это материал, из которого состоят нити данной сети.
Некоторые метафоры стали настолько привычными, что сковывают наше мышление. Например, существует общеизвестная метафора «обучение есть война», мы часто слышим фразы типа «учителя – это стражи у дверей», «учителя борются с невежеством» и т. п. Эта метафора, если принимать ее не задумываясь, мешает нам осознать тот факт, что невежество не враг обучения, а его необходимое условие. Если учащийся все знает, то образование ему не нужно! Более того, от утверждения «обучение – это война» один шаг до тезиса «студенты – это враги». Когда учителя начинают мыслить подобными категориями, образование становится малопривлекательным. Другой пример косности мышления, которой мы обязаны метафорам, – представления о любви как о болезни: «Я схожу по нему с ума. Она от тебя без ума. Я поражен (как безумием)». Многие люди ожидают любовного недуга, не понимая, что на самом деле любовь – здоровое и естественное чувство и человек может испытывать его, пребывая в стабильном состоянии рассудка. Находясь в ловушке старых метафор, мы не можем жить богатой осознанной жизнью и, кроме того, лишаем себя доступа к силе. Многие из наших метафор удерживают нас в рамках определенных действий или ролей. Вы думаете: «Я бизнесмен», – не понимая, что «бизнесмен» – это абстракция. «Я бизнесмен» – довольно скучный тип метафоры. Когда мы говорим «я учитель», «я писатель» или «я студент», то ограничиваем себя. Учитель любит панк-рок? Писатель играет в футбол? Крупный финансист открывает галерею?
Паралогические метафоры – это магические метафоры, потому что они освобождают нас от шаблонов мышления. В западной магической традиции существует концепция паролей к разным уровням посвящения. Все эти пароли были опубликованы почти сто лет назад, поэтому не могут больше выполнять функции паролей, то есть идентифицировать членов группы или определенного класса людей. Вместо этого они могут рассматриваться как символические заместители метафор, усвоенных на данном уровне посвящения и разбивающих цепи наших собственных, неосознанных метафор. Точно так же паралогические метафоры некоторых заклинаний способны освободить нас от метафор привычных. Например, великий бард Талиесин демонстрирует свою свободу от всех ограничивающих метафор:
I have been a blue salmon,
I have been a dog, a stag, a roebuck on the mountain,
A stock, a spade, an axe in the hand,
A stallion, a bull, a buck….
I have been dead, I have been alive.
I am Taliesin[71]71
Taliesin. I Am Taliesin. I Sing Perfect Metre. Ifor Williams, trans., 1999. http://www.cs.rice.edu/~ssiyer/minstrels/poems/175.html.
Я был синим лососем,
Я был собакой, оленем, косулей на горе,
Бревном, лопатой, топором в руке,
Жеребцом, быком, козлом…
Я был мертвым, я был живым.
Я Талиесин. – Примеч. пер.
[Закрыть].
Какова бы ни была первоначальная цель Талиесина, этим заклинанием он расплетает семиотическую сеть вокруг своей личности и становится чем-то новым. Мы можем воспользоваться этим приемом: выбрать что-то в своем окружении и объявить себя этой вещью или создать список случайных имен и поразмышлять о том, как они связаны с нами в метафорическом смысле.
ПовторениеЕще одной характерной особенностью заклинания, на которой я бы хотел остановиться, является повторение. Оно свойственно не только заклинаниям, но и устной поэзии в целом. Повторение звуков (рифма), метрических единиц (ритм/метр) или фраз – одна из немногих особенностей поэзии, проявляющаяся во всех культурах. Повторение в обычной поэзии действует успокаивающе, поскольку в жизни мы окружены ритмами и повторениями: смена времен года, дня и ночи, сердцебиение и т. п. Повторение также необходимо и поэтам-магам, так как оно помогает войти в магический транс. Подсознание хорошо откликается на ритмические повторы.
Повторение звуков называют рифмой, и это понятие включает в себя не только то, что мы привыкли считать рифмой (и что точнее было бы называть концевой рифмой) – например, кошка/ложка или дверь/поверь, – но и другие звуковые повторы. Ассонанс – это повторение гласных звуков: «Мой дог похож на лорда». Консонанс – повторение созвучных согласных: «Федор не только мудр, но и бодр». Особый тип консонанса и ассонанса – повторение первых звуков. Его называют аллитерацией, и оно широко используется в поэзии: «Легкие листья падают с липы». В ранней английской поэзии аллитерация использовалась согласно строгим правилам. В заклинании можно применять любой из этих звуковых эффектов – с целью подчеркнуть наиболее значимые строки или связать воедино важные идеи.
Повторение метрических элементов может включать в себя чередование ударных и безударных слогов в строгом порядке, как, например, в предложении «Когда мы встретимся опять?», обладающем приятной ритмической регулярностью. Тот или иной порядок ударных и безударных слогов способен придавать определенную окраску сказанному, поэтому одни ритмы кажутся нам таинственными, другие – разговорными и т. д.
Повторение фраз или целых строк реже встречается в письменной поэзии, но почти повсеместно распространено в заклинаниях и устной поэзии. Это одна из самых ранних особенностей устной поэзии. Известные как «формулы», эти блоки повторяющихся стихов сплетались поэтами воедино, чтобы можно было воспроизводить текст быстро, не задумываясь над каждым словом. Поэт-исполнитель сосредоточивался на блоках строчек и связывал их, соблюдая размер[72]72
Lord, Albert B. The Singer of Tales. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.
[Закрыть]. Признаки формульной композиции, а также других типов повторения, выполняющих отчасти те же самые функции, присутствуют и в заклинаниях. Повторение целых строчек не только выделяет их для подсознания, благодаря чему и работает заклинание, но и дает поэту время подумать о следующей строке. Такие повторы помогают заклинателю импровизировать.
Мне нравится создавать формульную структуру, а потом вплетать ее в заклинание, основанное на мыслях, которые спонтанно приходят в голову. Например, я начинаю импровизированную благодарственную песнь богам с фразы «Да будет благословен Х», где «Х» – первая вещь, которую я увидел. Если бы я гулял, получилось бы: «Да будут благословенны деревья с их меняющейся листвой. Я благодарю, я благодарю». Затем я продолжаю, меняя объект благословения на следующий, который приходит мне в голову, выстраивая цепочку ассоциаций – она, разумеется, может быть очень длинной:
Да будут благословенны горы, их вершины, покрытые снегом.
Благодарю. Благодарю.
Да будут благословенны реки, текущие к морю.
Благодарю. Благодарю.
Да будет благословен ветер, дующий с запада.
Благодарю. Благодарю.
Такой тип спонтанной композиции несет удовлетворение и порой даже просветление. Вы можете, к примеру, обнаружить, что благодарите за вещи, о которых никогда бы раньше не подумали в таком ракурсе. В качестве вступительных можно использовать и другие формулы. Ниже я предлагаю несколько вариантов, но, возможно, вы захотите придумать собственные.
Я есть Х. В данном случае Х – это нечто, что вы видите или представляете. Не старайтесь сделать формулу слишком глубокомысленной – просто следуйте логике метафоры. Можете варьировать время: «Я был Х», «Я буду Х» – это помогает.
Я вижу тебя, богиня, в Х. Х – это снова то, что вы видите или представляете. Через некоторое время попробуйте включить в формулу имена людей, до которых вам, в сущности, нет дела. Возможно, вам удастся пробудить в себе сопереживание врагам. Можете заменить «богиню» каким-то конкретным божеством и использовать это для инвокации или медитации на качества этого божества.
Х, ты не Х, ты Y. Это формула была весьма распространенной в греческой магии – об этом, в частности, свидетельствует текст Лейденского папируса. Она часто использовалась для освящения куклы или другого предмета, имеющего магическое предназначение. Формулировка часто была такой: «Кукла, ты не воск, ты мой любимый имярек». Эта формула удобна для симпатической магии, в которой вы делаете с неким символическим объектом то, что, как вам бы хотелось, должно произойти с символизируемым объектом.
… тот, кто… Удобная конструкция для инвокаций, может предварять любое утверждение. Ритм повторения может погрузить вас в транс, пока вы перечисляете характерные признаки существа или пересказываете мифы. «Я обращаюсь к тебе, Аполлон, тот, кто убил Пифона и был очищен, кто обменял скот на лиру, кто убил убийцу людей Ахиллеса, кто…»
… и… Это краткое слово часто недооценивают, но повторение союзов типа и, но, или является важной чертой импровизационной устной поэзии. Именно сочинительная, а не подчинительная связь является характерной чертой синтаксиса устной речи вообще. Благодаря ей (использованию соединительных союзов и, но, или) мы можем не беспокоиться о логических взаимоотношениях между идеями, а просто беспорядочно «вываливать» их так, чтобы они переполняли наше сознание и отзывались в подсознании.
Предпочтение, которое мы отдаем письменным заклинаниям, установленным ритуалам и заученным песнопениям, может быть лишь побочным эффектом нашей письменной культуры, а не действительной потребностью магии. И хотя существуют определенные доказательства того, что классическая магия требует как минимум тщательно заученных молитв, нельзя также не признать и того факта, что в изначально устных культурах (тех, что не изобрели своей письменности) представление о запоминании отличается от нашего. Мы думаем, что запомнить текст «слово в слово» – это запомнить каждое отдельное слово. А во многих устных культурах запоминание «слово в слово» означает запоминание «идея в идею», тогда как конкретные слова относительно несущественны. В магической практике возвращение к древнему устному наследию не только меняет наше сознание[73]73
Ong, Walter. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. New York: Routledge, 1982. Книга Онга в какой-то степени устарела и вытеснена более современными исследованиями, но ее автор приводит весомые доказательства того важного сдвига в сознании, который происходит, когда человек учится читать. – Примеч. авт.
[Закрыть], но и дает возможность получать спонтанное удовольствие, которое многие люди в своей магической деятельности упускают.
В нашем языке слова по большей части указывают на предметы. В заклинании слова являются предметами. Восприятие магического языка как перформативного не только помогает объяснить структуру и устойчивость заклинаний. Оно также дает возможность увидеть, что магическое мышление не столь иррационально, как мы, возможно, считали ранее. Слова структурируют все наши социальные институты – от брака до работы. Переход от социальной реальности к общей реальности не требует больших усилий, поскольку обе реальности, по большому счету, одно и то же. В конечном итоге, разница между «звездой светлой, звездой яркой» и «силой, данной мне» узкользающе мала.
Глава 4
Алфавиты магии: сигилы, иероглифы, буквы
В предыдущей главе я упомянул о том, что в заклинаниях присутствуют знаки нашей дописьменной истории и мы можем с пользой возвращаться к своим корням или, по крайней мере, получать знания о них. Однако в этой главе я хотел бы поговорить о магическом использовании самого выдающегося изобретения человечества – письма. Сам по себе язык не является изобретением. Мы обладаем некой биологической (или духовной?) предрасположенностью к использованию языка. Мы рождаемся готовыми говорить, и тот факт, что человек учит свой родной язык настолько быстро, будучи еще не способным к иным абстрактным умственным операциям, является доказательством наших врожденных языковых способностей. А вот писать люди учатся гораздо позднее, поскольку письмо искусственно, в отличие от естественной устной речи. Более того, хотя мы и не знаем, кто заговорил первым и при каких обстоятельствах, у нас есть определенное представление о том, где и кем была изобретена письменность. Наконец, если общение по каким-то причинам становится трудным или невозможным, в ходе преодоления этих коммуникативных помех возникают новые языки[74]74
Например, языки, называемые креольскими. Они, как правило, представляют собой смесь двух или более языков (это упрощенное описание данного феномена). Хотя словарный состав «креолов» часто образован двумя разными языками, сами они имеют очень простую грамматику, независимую от грамматик своих «родителей». Это указывает на то, что, в каком-то смысле, она вырастает из некой глубинной, базовой, изначальной грамматики. – Примеч. авт.
[Закрыть]. Письменность же на протяжении всей истории человечества создавалась лишь несколько раз.
Систем письменности было изобретено всего три. Наиболее часто изобретавшаяся система называется идеографической, или логографической. В ней один символ обозначает одно слово. В Древнем Китае, например, нарисованное дерево обозначало слово «дерево». Древнеегипетские иероглифы тоже зачастую представляют собой рисунки того, что они обозначают, – если изобразить глаз, то это и будет значить «глаз». Шумерская клинопись в своем раннем виде – это рисунки на глиняных табличках, изображающие предметы. Такие ранние идеографические системы письменности, к сожалению, столкнулись с простой проблемой: язык не всегда конкретен, слова могут обозначать абстрактные понятия. Как, например, нарисовать «красоту»? Китайцы разработали оригинальную систему сочетания знаков: один обозначал звучание абстрактного термина, а другой указывал на его общее значение. Другой вариант – комбинация двух знаков, которые в сочетании обозначают определенную идею. Иногда такие комбинации бывают весьма остроумными. К примеру, слово «добро» обозначается сочетанием иероглифов «мать» и «ребенок». Некоторые комбинации символов, менявшиеся на протяжении тысячелетий, сейчас кажутся странными: так, «красота» обозначается «овцой» в сочетании с «человеком», поскольку в древнекитайском слово «овца» было созвучно со словом «красота». Древние египтяне пришли к простому решению: они рисовали музыкальный инструмент, и в определенном контексте это означало «красоту». А иногда они добавляли специальный символ или даже обозначение звука или слога из другого слова, чтобы показать, должен ли иероглиф читаться как идеограмма[75]75
Идеограмма – основной знак идеографического письма, обозначающий какое-либо понятие («дерево», «женщина», «добро» и т. д.), но не передающий фонетический состав, т. е. звучание слова (или слов), выражающего в языке данное понятие. Развитые системы идеографического письма были комплексными: помимо знаков-идеограмм в них использовались знаки, обозначающие слоги или звуки. – Примеч. ред.
[Закрыть]. Таким образом они быстро перешли к двум другим типам письма: силлабическому[76]76
То есть слоговому, от греч. syllaba «слог». – Примеч. ред.
[Закрыть] и алфавитному.
В силлабическом письме каждый символ обозначает один слог. В английском языке для этого потребовались бы сотни символов, но многие языки имеют более простую слоговую структуру. Например, японцы и по сей день пользуются слоговой системой письменности. Ее довольно легко использовать и развивать, доказательством чему служит тот факт, что ее изобретали несколько раз. Даже китайское письмо можно считать не идеографическим, а очень сложным слоговым с элементами идеографии. Древние греки первоначально пользовались слоговым письмом, а когда неграмотный кузнец Секвойя захотел создать письменность для своего племени чероки, он разработал слоговую систему, несмотря на то что до этого видел (хотя и не читал) только алфавиты.
Алфавитная система считается наиболее гибкой из всех систем письменности. В ней символы используются для обозначения отдельных звуков (фонем). Алфавит был изобретен лишь однажды протоханаанитами, передавшими его финикийцам, которые, в свою очередь, и распространили его по миру[77]77
Кто-то может возразить, что корейская система письменности хангул по сути является алфавитом, а значит, алфавит был изобретен дважды. Однако, поскольку корейский алфавит был разработан относительно недавно, причем людьми, знакомыми с самой идеей алфавита, я не уверен, что он действительно был «придуман» в том же самом смысле, в каком Секвойя придумал слоговое письмо чероки. – Примеч. авт.
[Закрыть]. Этот первый алфавит – а точнее абджад, алфавит без гласных, – лег в основу еврейской, а затем и греческой письменности. Греки оказали миру огромную услугу, добавив в него гласные, и этим нововведением впоследствии воспользовались римляне и древние скандинавы. Этот же алфавит лег в основу и латиницы, на которой написана эта книга, и греческой, и ивритской систем письменности, и кириллицы, которой пользуются русские, и североевропейского рунического письма. В каждом из этих вариантов несколько изменена форма букв, но родовое сходство сохранено.




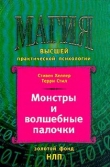
![Книга Геймер[СИ] автора И. Печальный](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)

