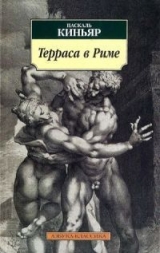
Текст книги "Терраса в Риме"
Автор книги: Паскаль Киньяр
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
В овале. Правая рука в кружевной манжете тянется всеми пальцами, из коих подогнут лишь указательный, к мужскому вздыбленному члену, прямо перед зеркалом, где отражается горящая свеча. Зеркало и свеча стоят на маленьком столике с инкрустацией.
И наконец, еще одна гравюра, на сей раз сделанная отнюдь не «черной манерой», а сухою иглой – одно из самых светозарных творений Моума. В центре гравюры – Мари Эдель, она достает из колодца полное ведро, откуда плещет вода. Мужчина, сидящий спиною к зрителю на краю колодца, вытряхивает камешек из своего башмака. Это, без сомнения, сам Моум, раз он изображен со спины. Перед ним с веслом в руке, со спущенными штанами Остерер. Тощая старуха (Эстер) обтирает полотенцем его пенис. Справа осел.
Глава XXVIII
Моум Гравер умер в конце 1667 года в Утрехте. Художник Геррит Ван Хонтхорст[30] пользовался в то время скверной репутацией. Годы жизни Хонтхорста – с 1590‑го по 1656‑й. У произведений Хонтхорста и Моума нет ничего общего, кроме разве темноты. Но случилось так, что в 1667 году Моум скончался в Утрехте именно в доме Геррита Ван Хонтхорста, и гравюра, подписанная им внизу слева, с датой «декабрь 1666», может свидетельствовать об этом, ежели понадобится. Граверу пришлось покинуть Рим в конце 1664 года. Или осенью 1666‑го. Этот пункт остался неясным. В ту пору Голландия была богатой страной, весьма ценившей художников‑французов. Но отъезд Моума из Рима вряд ли вызван желанием приобщиться к богатству голландских городов. В Риме Геррита Ван Хонтхорста прозвали Gherardo délie Notti, что означает – Ночной Геррит. Прекрасная мастерская в Утрехте принадлежала супруге Виллема Ван Хонтхорста, по имени Катрин. Однако труп Моума, умершего по своей воле в мастерской Хонтхорста, покоится на коленях Мари Эдель. Неизвестно, каким образом Мари Эдель оказалась в Голландии, в доме свояченицы Ночного Геррита, рядом с гравером именно в те дни, когда к нему подступала смерть.
Глава XXIX
В конце февраля месяца 1664 года в Риме серия из тридцати двух непристойных картинок, целиком приобретенная в лавке на виа Джулия, была доставлена старшему сыну одного из самых богатых и знатных римлян, юноше по имени Эудженио, – чрезвычайно красивому, образованному, утонченному, чувствительному и в высшей степени целомудренному. Все они были изготовлены Моумом Гравером. Сделали это по распоряжению Марчелло Дзерры, врача упомянутого семейства, который тщательно обследовал молодого патриция. Двадцатилетний юноша, сильный и здоровый, коего природа одарила вполне нормальным детородным органом, утверждал, что не может жениться, ибо ни разу в жизни не испытал вожделения. Родители, не поверив ни единому слову старшего сына, Призвали для осмотра Дзерру. Марчелло Дзерра предписал доставить бесстыдные картинки, с тем чтобы Эудженио изучал их целую ночь в обществе двух флорентийских проституток; одна из них, уже в возрасте, отличалась ласковой податливостью, другая была моложе и резвее. Опыт сей мало что не удался: он внушил Эудженио сильнейшее, вплоть до тошноты, отвращение и поверг в глубокую тоску. Флорентийские распутницы никак не могли прийти к согласию по поводу результата своих ночных усилий. Молодая утверждала, что юноша все время оставался вялым телесно и крайне несчастным душою, заключая из этого, что он, по ее мнению, не создан для нормальной жизни, то есть не способен быть мужем и отцом. Старшая, опасаясь лишиться вознаграждения, обещанного им за приезд в Рим с обратной дорогою и за целую ночь, объявила, что младшая ошиблась, что у юноши началась было легкая эрекция и что вторая ночь, несомненно, победит его упрямство и прочие затруднения, которые она имела время изучить самым внимательным образом. Юный Эудженио упал в обморок, едва услышал о намерении девиц провести с ним еще одну ночь. Пришлось спешно вызывать двуколку. Кастелянши родового замка, тем же днем опрошенные Дзеррою, подтвердили, что никогда не замечали следов ночного семяизвержения на простынях молодого синьора. Дзерра советовал родителям хорошенько поразмыслить, прежде чем женить сына. Но глава семейства пренебрег его рекомендацией. Важные и давние интересы диктовали брак юноши и девушки, которых родители сговорили еще в самом нежном возрасте.
Эудженио так и не смог выполнить свой супружеский долг.
Молодая женщина, оставшись нетронутою, пожаловалась родителям, которые приняли горячее участие в ее скорбях. Они пригрозили даже аннулировать брак, ежели их дочь в самом скором времени не будет лишена невинности и не познает хотя бы скромных радостей супружества.
Вторично вызванный доктор Дзерра снова предписал возбуждающие картинки Моума и посоветовал юной жене своего пациента разбудить вожделение мужа, прибегнув к помощи пальцев.
22 мая 1664 года молодой человек покончил с собой. Гравюры были изъяты из продажи. Медные клише и все оттиски, найденные в лавке торговца эстампами под вывескою «Черный крест», изготовленные и Моумом, и другими художниками, без разбора были свалены на тележку и отвезены за полсотни метров на Campo dei Fiori,[31] где их прилюдно сожгли и расплавили на костре. Вот одна из причин, по которой до нас дошло так мало эстампов эротического содержания, созданных Клодом[32] Мелланом или Моумом Гравером.
Глава XXX
В 1882 году, на ежегодном собрании департаментских обществ изобразительных искусств, господин Гастон Ле Бретон сделал доклад «О замечательной гравюре „черной манерой", приписываемой Моуму и изображающей непристойную сцену». Описание Гастона Ле Бретона звучит так: «Портрет подписан следующим образом: Meaum. sculps. Rom. August. Ниже, слева, дата – 1666. Рядом Мальтийский крест. Персонаж, чье лицо скрыто в тени, одет в камзол из черной тафты. Камзол расстегнут и позволяет видеть тело прекрасного сложения. Торс слегка развернут слева направо, но человек глядит прямо на зрителя. Он сидит, расставив ноги. Его напряженный половой орган выделяется на фоне темной фламандской драпировки с цветочными узорами. Драпировка эта приподнята и собрана в складки за спиною персонажа, его правая рука указывает в просвет, на складной стул, где разложены красивые морские раковины. Под левой рукой, опущенной на стол, находится картонная папка с хорошо видным названием – „Сборник ночных эстампов"; это знаменитая книга, вышедшая в 1650 году и осужденная Церковью. Персонаж уже немолод. Весь его облик дышит печалью. В лице, скрытом тенью драпировки и каменного навеса, чудится что‑то ужасное. Свет из неизвестного источника падает на живот и половой орган, вздыбленный в эрекции». С 1882 года эту гравюру больше никто не видел. Она, без сомнения, была создана после костра, уничтожившего клише и непристойные изображения в мае 1664 года на Сатро dei Fiori. Репродукций с нее не существует.
Глава XXXI
Две самые замечательные гравюры Моума из числа сохранившихся и отпечатанных во множестве экземпляров, это «Святой Иоанн на острове Патмос» и «Геро и Леандр».
Святой Иоанн изображен на вершине горы. Он сидит в тени дерева, прислонясь спиною к скале. Он пишет Апокалипсис. В левой части офорта, сильно вытянутого в ширину, сидит орел; вцепившись когтями в каменный гребень и раскинув царственные крылья, он греется в последних лучах угасающего солнца.
«Геро и Леандр» – гравюра «черной манерой». На верхней площадке готической башни, о которую бьются вздыбленные бурей волны, стоит Геро, почти нагая, с распущенными волосами; наклонясь вперед над бездной и держа в правой руке горящий масляный светильник, она вглядывается во тьму, ища в море своего мертвого возлюбленного, а волны внизу швыряют его оголенный труп с беспомощно закинутой головой, точно изломанную древесную ветвь.
Глава XXXII
Моум верил в Божий суд, но ничуть не надеялся на бессмертие души. Однако, по словам Пуайли, он в бытность свою в Риме часто посещал маленькую и столь необычную церковь Босса délia Verita.
Он снимал шляпу и садился.
Иногда он вставал на колени.
И каждый день, даже под проливным дождем, даже в жару, когда душные речные испарения обволакивали дома и деревья, он проходил несколько метров от церкви до моста Фабриция. Тут он спускался на берег, к руинам и волнам. Сидел, прислонясь спиною к шершавому древесному стволу, в тени листвы или развалин, среди уток и гусей, копошившихся в тине, под взглядами коз, и созерцал Тибр с его водоворотами, быстрым течением и брызгами белой пены, летящей на прибрежные камни. Растворялся в его глухом шуме.
Глава XXXIII
Человеческое ухо в сосуде прозрачного стекла… Оно значится в описи вещей, привезенных Моумом в Рим.
Согласно Пуайли, оно фигурирует и среди «восьми экстазов Моума Гравера».
Похоже, это ухо находилось в сундуке на третьем этаже мастерской Моума с 1655‑го по 1702 год.
Некий юноша, уроженец Магдебурга, любил одних только мужчин; он взял себе прозвище – Остерер. Его наставником был в Антверпене, около 1640 года, Абрахам Ван Бергхем. Ему пришлось ждать в Канде, в обществе Мари Эдель, пока Абрахам и Моум Гравер, бежавшие от зверств французских солдат, пытались пробраться к ним морем. Во время состязания сплавщиков[33] весною 1651 года на Отии[34] Остерер выступал на стороне горшечников. И, к великой досаде своих противников, он завоевал титул «сухого короля». Тогда сплавщики, не послушав ни кандских старшин, ни моряков, ни сборщиков мидий, ни рыбаков, ни горшечников, ни оловянщиков, договорились отменить результаты борьбы. Они устроили второе состязание, где Остерер «заложил руку» и, конечно, проиграл. «Заложить руку» означает сражаться только одной рукой, в то время как другая привязана за спиною. На воде невозможно действовать одной рукой – стоя в лодке, трудно сохранять равновесие. Но сплавщики твердо положили, что «сухим королем» должен быть только один из них – каждый год и на каждой реке. Эта несправедливость плотогонов и портового начальства Канда ввергла Остерера в такую ярость, что ни Мари Эдель, ни местный трактирщик, ни горшечники, избравшие молодого человека своим предводителем, не смогли его утихомирить.
По реке идет в лодке сплавщик, в руке у него багор, которым он подтаскивает бревна. Эта сцена изображена на серебряной пластинке с подписью: «Meaum. sculps. Апрель. 1665».
Внезапно человек сделал крутой разворот и метнул в Остерера свой багор.
Остерер ловко увернулся.
Услыхав, как трудно дышит сплавщик, он не стал терять времени и убил его.
Остерер всегда сражался на слух.
Трактирщик из Канда обнаружил труп, прибитый течением к мосту, и стал грозить «австрияку», что вызовет английских солдат.
Остерер добрую четверть часа осыпал трактирщика затрещинами. Потом ткнул пальцем в стопку выглаженного белья, лежавшего на столе.
– Где стирали? В мыльне?
– Да, – признался трактирщик, багровый, как пион.
Юный Остерер не желал носить белье, выстиранное в городе. Городские мыльни он называл «мертвецкими», ибо в них набирали воду для обмывания покойников. Остерер считал, что это приносит несчастье. Он отправился в соседнюю деревню, к старьевщику, и обменял вещи, стиранные в Канде, на другие, которые также не пришлись ему по вкусу. Тогда он украл светло‑голубую одежду в одном зажиточном доме. А тем временем человек, видевший, как молодой австриец убил сплавщика, ходил за ним по пятам. Он неотрывно следил за Остерером, и все видели, что он следит. Не было ни одной мясной лавки, ни одного дома, ни одного кабачка в окрестных дюнах, куда он не наведался бы с расспросами. Мари Эдель показала австрийцу этого человека, злоумышлявшего против него.
Мари Эдель шепнула Остереру, что надумала одну штуку. Он спросил какую. Она рассказала. Он засмеялся.
Однажды, когда этот негодяй подслушивал, затаясь у двери горшечной мастерской, Остерер, их «сухой король», схватил его и связал. А Мари прибила ему гвоздем ухо к косяку.
Шпион так и остался на месте, скрюченный и пригвожденный к двери. Вся деревня сбежалась поглазеть на него. Явились даже оловянщики; они с хохотом измывались над соглядатаем: стащили с него штаны и в клочья разодрали рубашку. Он никак не мог освободиться, разве что лишившись уха. Он кричал благим матом, умоляя вызволить его, но никто не осмеливался прийти на помощь. Наконец злополучная жертва столь безжалостной шутки воззвала к проходившей мимо женщине. Несчастный просил хотя бы прикрыть ему платком лицо, чтобы люди не видели, кто это здесь терпит такой позор да еще и ходит под себя. Его мольбы разжалобили женщину, но она только выслушала их и ничего не сделала, ибо опасалась гнева короля горшечников. Сама она занималась отливкою оловянной посуды. Наконец как‑то ночью соглядатай сумел вырваться из плена, оставив ухо на гвозде, и больше его никто не видел. И если доселе молодого австрийца все презирали за порочные нравы, то с этого достопамятного дня он снискал всеобщее уважение. Одни только сплавщики ненавидели его. Мари Эдель сперва держала ухо в глиняном горшке, засыпав его солью, а после – в стеклянной банке, сохранившейся в мастерской Моума и неизвестно по какой причине внесенной в римскую опись его имущества. Ни одного изображения уха среди гравюр Моума не имеется.
Глава XXXIV
В возрасте сорока девяти лет Моум Гравер подвергся нападению. Случилось это в римской кампанье,[35] 8‑го числа июня месяца 1666 года. О происшествии этом свидетельствует рапорт римских лучников с вышеуказанной датою, за одиннадцатью подписями. В то время гравер жил один. Вот он сидит на склоне холма среди руин, прислонясь спиною к тоненькому зеленому дубку и надвинув на лоб широкополую соломенную шляпу, скрывающую его лицо от чужих глаз и от солнца. Он дремлет.
Внезапно его сон грубо прерван: молодой парень, схватив гравера за шиворот, валит его на сухую землю и вонзает нож в горло.
Моум ощущает мучительно знакомый запах.
Он вскидывает глаза на незнакомца, который вознамерился его зарезать. Смотрит – и черты лица юноши потрясают его. Он не отводит взгляда от нападающего. Он не кричит. Странным образом ему вспоминается гравюра на дереве Яна Хеемкерса, у которого он учился в Брюгге. На этой гравюре Хильдебранд стоит перед Хадубрандом,[36] поднявшим на него меч. Отец видит сына, готового убить его. Он видит, что сын его не узнаёт. Он видит свою смерть во взгляде родного сына. Но отец молчит. Молодой человек – на вид лет двадцати шести – вонзает клинок ему в горло. Из раны брызжет кровь. Похоже, именно так из зимы рождается весна.
В этот миг за кустом бузины над их головами мелькнула тень: какой‑то человек с мешком за спиной опрометью помчался вниз по холму, прямиком через камни, крапиву, чертополох, цилиндрические обломки колонн и хилую дубовую поросль.
Парень вдруг оставил полузарезанного Моума валяться в пыли холма, вскочил и со всех ног кинулся вдогонку за беглецом.
Глава XXXV
Моум распростерт на соломенном тюфяке в хижине пастуха. Это все там же, среди холмов. Врач обматывает ему шею белым полотняным бинтом, чтобы остановить кровь. Гравер вспоминает недавнюю сцену. И шепчет прерывающимся голосом: «Мне кажется, я всю свою жизнь был завистлив. Зависть предшествует воображению. У зависти взгляд острее, чем у глаза».
Перед ним стоит молодой человек лет двадцати шести – тот самый, что напал на него. Вокруг четверо римских лучников. Он стоит выпрямившись, он бледен, он очень красив, руки его стянуты за спиной веревкою; он не может связать двух слов по‑итальянски – лепечет что‑то бессвязное.
Рядом с ним бродячий торговец фаянсом; он глядит на юношу с вожделением, нет, даже с пылким обожанием и пытается его защитить.
Наконец молодой человек говорит по‑фламандски ближайшему лучнику, что он может объясняться только по‑фламандски и не владеет языком римлян. Он говорит по‑фламандски, что обознался. И шепчет на скверной латыни, умоляюще глядя на раненого: «Perdonare mihi! Perdonare mihi!»[37]
Глава XXXVI
Внезапно Моум разрыдался и отвернулся лицом к стене. Он тихо спросил по‑фламандски в полутьме хижины:
– Откуда ты?
– Брюгге.
– Как твое имя?
– Ванлакр.
На это гравер ответил молчанием.
Ванлакр же продолжал:
– Я прибыл в Рим нынче утром. Тут у меня украли все вещи. Я приехал сюда, чтобы разыскать моего отца. Говорят, что мой настоящий отец живет в Риме и продает свои офорты на виа Джулия. Но хозяин лавки отказался дать мне его адрес. Знаете ли вы этого гравера?
– Нет. Я с ним незнаком, – ответил Моум по‑фламандски, не оборачиваясь.
Таким образом гравер все время оставался в тени.
Тогда юноша, чьи руки были по‑прежнему связаны за спиной, бросился на колени перед тюфяком, прямо на земляной пол. И снова умоляюще спросил по‑фламандски человека, которого только что ранил: «Этого гравера зовут Моум. Знаете ли вы его?»
– Нет. Я с ним незнаком, – повторил Моум.
– В мешке, который у меня украли, был эстамп – портрет моей матери, сделанный Моумом. Портрет отличается таким чудесным сходством, что любой человек, взглянув на него, тотчас узнает ее, – продолжал юноша‑фламандец. – Этот портрет мог бы опровергнуть любое обвинение, выдвинутое против меня. Он тотчас развеял бы все подозрения. Но у меня его больше нет.
– Может быть, вора или мешок найдут, – сказал Моум.
– О, я надеюсь! – вскричал молодой человек.
В этот момент в хижину вошел консул Фландрии и Голландии.
– Еще раз простите меня, сударь, – повторил на фламандском красивый юноша, стоя на коленях возле тюфяка, на котором лежал Моум. – Я принял вас за человека, укравшего мой мешок со скарбом.
Пока он говорил это, консул, врач и лучники препирались меж собой.
Тогда Моум сказал лучникам по‑итальянски:
– Отпустите этого юношу.
Лучники, однако, вовсе не собирались щадить фламандца. Тогда Моум кое‑как приподнялся на своем ложе. По его лицу бежал пот. Бинт на шее был насквозь пропитан кровью. Из глаз катились слезы. Из носа текло. Он кашлял, давясь слюною. Вид его внушал омерзение более, чем когда‑либо. Трясущейся рукой он вынул из штанов кошелек. Дал золотой врачу, перевязавшему его рану. Дал четыре золотых лучникам. Тотчас один из них схватил Ванлакра за шиворот, поставил на ноги и развязал ему руки. Лучники велели врачу написать рапорт, который они должны были представить начальству. Затем они дали подписать это донесение консулу и торговцу фаянсом. Следом расписался священник. За ним – молодой Ванлакр. Юноша в последний раз обернулся к Моуму, распростертому на соломенном тюфяке; он так и не узнал его. Бросившись на колени, он поцеловал руку гравера, бормоча свое дурацкое «Регdonare mihi! Perdonare mihi!», затем одним прыжком вскочил на ноги и выбежал прочь, не поблагодарив ни консула Фландрии, ни лучников, ни торговца фаянсом. И вот он уже во дворе. Всполошенно кудахчут куры. Он мчится вверх по холму.
Глава XXXVII
За Моумом прислали экипаж, который доставил его с Авентинского холма к Porta Portuensis.[38] Гравера перевезли в его особняк. Он приказал обеим своим служанкам закрыть двери дома для всех, кроме его друга Клода. И они не впускали никого, кто стучал или скребся в ворота двора, выходившие в узкий, заросший мхом проулок. Один лишь Клод Желле навещал его по вечерам. Заслышав условный стук художника, служанки отворяли дверь. Они помогали старому подагрику взобраться по каменной лестнице узкого ветхого дома на самый верх, на террасу. Подавали мужчинам вино и суп и оставляли их беседовать наедине под навесом, в вечерней прохладе. Моум Гравер постепенно худел. От раны у него в горле, возле голосовых связок, образовался дивертикул,[39] почти лишивший его голоса. Теперь он мог глотать только жидкую пищу.
Глава XXXVIII
Беседы Моума Гравера и Желле Живописца.
«Не назови молодой человек своего имени, я так и не понял бы причину радости, охватившей меня в миг, когда он вонзил мне нож в горло там, на холме».
Вначале Клод Лотарингец не понимал ни слова из того, что говорил гравер; он молча слушал неразборчивый шепот, полагая, что его другу приятно исповедаться человеку, чья родня до сих пор жила в Лотарингии, как и его собственная.
«Я учуял восхитительный запах, исходивший разом и от его руки, и от дыхания, когда он яростно кричал, стоя надо мной. И это не был запах бузины».
Еще Моум сказал: «Рим перестал быть непроницаемым, каким был до того, как прошлое, переполнив его, хлынуло через стены».
Однажды Клод все же не вытерпел и обиженно заметил: «Вы говорите загадками. И это раздражает того, кто вас слушает».
На это Моум откликнулся таким рассуждением: «Мы вступаем в возраст, где властвует не жизнь, но время. Мы перестаем видеть течение жизни. Мы видим одно только время, пожирающее жизнь, всю без разбора. И тогда сердце сжимается от тоскливого страха. И человек рад ухватиться за любую соломинку, лишь бы еще хоть немного посмотреть спектакль жизни, исходящей кровью с начала и до конца света, и не рухнуть в бездну».
Клод Живописец заявил, что эти слова ничуть не яснее предыдущих, даже если Моум и строит фразы по всем правилам риторики.
Тогда Моум сказал: «В глубине души человеческой таится непроницаемый мрак. Каждую ночь женщины и мужчины погружаются в сон. Они погружаются во мрак, словно тьма несет им воспоминание.
Это и есть воспоминание.
Порою мужчинам кажется, что они сближаются с женщинами; они ловят их взгляды, они гладят их плечи, они возвращаются с приходом ночи к их телам и ложатся, прильнув к их груди, но они не засыпают по‑настоящему, они всего лишь игрушки мрака, послушные силе того невидимого соития, с коего начался весь род людской и чья тень довлеет над всеми и вся».
– Я не понял ни слова из того, что вы наговорили, – отвечал Клод Желле.
Моум сокрушался, что больше не может рисовать. Ему стоило безумных усилий скомпоновать фронтиспис с изображением женщины, которая плачет, глядя вдаль, на равнину, где пасется крошечная лошадка. Он обещал этот рисунок Анне‑Терезе де Моргена для ее «Книги об учтивости, сладострастии, убийствах и приятных чувствах». Как‑то вечером он сказал Лотарингцу: «Главное в моей жизни сделано. Я впервые ясно увидел две‑три вещи».
Глава XXXIX
Дивертикул, образовавшийся в горле гравера, распух, достиг пищевода и начал давить на легкие, вызывая обильную мокроту и воспаления. Три пневмонии подряд, сопровождаемые бронхитами и сухим слабым кашлем, вконец истощили Моума. Опасаясь, что болезнь скоро унесет его, он составил завещание.
В своей книге Грюнехаген приводит слова Моума, сказанные им в конце жизни: «Когда я кладу перед собою медную пластинку, меня охватывает печаль. Мне больше некогда размышлять над образом или, вернее, держать его перед глазами, чтобы воспроизвести на гравюре. Я творю нечто иное».
Глава XL
Клод Желле уговаривал Моума Гравера позволить вскрыть себе горло, чтобы удалить дивертикул, но тот не соглашался. Однажды, когда Клод Желле привел к нему цирюльника, он выгнал их обоих и велел служанкам пускать в дом только Лотарингца – с условием, что тот будет один. Еще гравер сказал обеим женщинам, что более всего опасается прихода некоего ангельски красивого юноши, который может предъявить эстамп, подписанный его, Моума, именем. По правде сказать, Моум был не столько болен, сколько подавлен. Он решил уехать из Рима, где сожгли самые выразительные и самые прекрасные из его творений. Желле Художник слушал его не прекословя. Он хорошо знал, что довод, выставленный гравером, надуман, что за всеми его резонами, на первый взгляд убедительными, кроется нечто другое. Он уговаривал его сказать правду, однако гравер твердил свое: «Не знаю, отчего у меня в душе более не осталось живых образов. Вот она – правда. Вот она – причина моей скорби».
Однако, что бы Моум ни говорил, Клод сомневался в правдивости его слов.
Следует знать, что улочка, где стоял трехэтажный домик Моума, вела к церкви Уст Истины над Тибром.
Однажды Лотарингец сказал: «Слушайте, приятель, я бы хотел пойти вместе с вами на берег, к церкви, чтобы вы вложили вашу руку в Уста Истины. Любопытно было бы взглянуть, не откусят ли они вам пальцы Божьим соизволением!»
И Клод засмеялся. Но Моум не принял его шутку. Сохраняя серьезность, он объявил, что любое человеческое слово – ложь. И чем прилежнее или яростнее люди отстаивают правду, тем больше они лгут. «А вот вам, друг мой, еще одна истина: даже лжец никогда не лжет до конца».
Глава XLI
В июне месяце 1667 года английский флот был наголову разбит в устье Темзы.[40] 15 декабря в Кёльне подписали мирный договор. 16 декабря в Утрехте Моум Гравер диктует – почти неслышным шепотом – свое второе завещание. Его горло окончательно сдавлено опухолью. Нотариус и Катрин Ван Хонтхорст с трудом ловят его слова, наклонившись над постелью, чуть ли не вплотную к губам больного. С самого лета он ничего не ест. 18‑го числа он делает приписку к завещанию, касающуюся Мари Эдель. Скорее всего именно по этой причине Катрин Ван Хонтхорст и вызвала Мари Эдель. Но он ее не узнает. Только вдруг рисует на поверхности пюре, которое ему поднесли – и от которого он отказывается, – виноградный лист.
И тотчас же следом просит синюю бумагу и мелок.
Снова рисует. Вот что он рисует: у подножия скалы по дороге шагает крестьянин с мотыгою на плече. Крестьянин возвращается с поля. За столом под вязом Остерер и Моум играют в кости. Рядом возятся куры. Маленькая девочка, присев, мочится наземь.
Как ни странно, здесь же, в Утрехте, он рисует на синей бумаге черную галеру на Арно, между мостами Санта Тринита и Алла Карайя. Четверо гребцов затеяли состязание на баграх. По воде плывет труп; рядом, сидя в ялике, плачет молодая женщина.
И вдруг он начинает говорить с мертвой. Произносит имя – Нанни. И шепчет: «Ах, самой сокровенной тайною моих грез было женское тело, неотступно занимавшее мои мысли. Когда‑то женщина ужаснулась при виде моего сожженного лица. И я безвозвратно лишился главного смысла моей жизни. Я сохранил для себя взгляд ее очей, когда она устремляла его ко мне, но она отказалась разделить со мною свою жизнь. Мне пришлось бежать и скитаться на чужбине, и все‑таки в каждом сне, в каждом образе, в каждой волне, в каждом пейзаже я видел частичку той женщины, нечто свойственное лишь ей одной. И я привлек и соблазнил ее в иной ипостаси». Как раз в то время болезнь окончательно затмила его память. Катрин, свояченица покойного Ночного Геррита, пришла к Мари Эдель и рассказала ей, что умирающий ведет речь о какой‑то Нанни. Мари побледнела от гнева. Она вскричала: «За всю мою жизнь я не встретила мужчины, который всецело отдался бы любимой женщине. Каждый из них ищет в женских объятиях той кроткой, приятной, сладостной, жертвенной любви, того мягкого и теплого убежища, что напоминало бы о жизни до рождения и о вскормившей его матери. Умершие женщины всегда стоят рядом. Умершие возлюбленные становятся день ото дня все чище, все выше, а мрак, что их окутывает, – все гуще. То, что было утрачено, остается навеки прекрасным. Любовь – самый подлый из всех обманов, вот как я думаю». Она вошла в комнату, где умирал Моум Гравер, пятидесятилетний старик, обняла его и принялась тихонько укачивать, пока он не испустил дух. Так он скончался у нее на руках. Она не пролила ни слезинки по умершему, но все, кто приходил в дом Катрин, видели скорбь Мари Эдель и знали, что причиной тому не Рождественский пост. Она горевала так, словно ее покинул возлюбленный.
Глава XLII
Два последних сна Моума.
Он подходит к окну. Стекла разделены свинцовыми полосками переплета, одетого серым мхом. Вдали видна бухта. Льет дождь.
У деревянной пристани в устье реки стоят всего четыре шхуны. Одна из них покрашена в голубой цвет. Яркий голубой на темной воде.
Таков первый сон. Сон в красках.
Последний сон – черно‑белый: человек мечтательно созерцает угрюмый фасад Лувра, Нельскую башню, мост и черную воду. Все вокруг объято сном.
Он грызет вафлю.
Глава XLIII
Пока Моум Гравер еще не покинул этот мир, пока он доживал в нем последние свои дни, умирая от голода, память изменила ему, он перестал узнавать лица. Он как‑то странно шарил руками под простыней и беседовал с мухами. К концу жизни Моум Гравер познал великую усталость и смятение рассудка. Его охватывали приступы тоски, сменявшейся долгими часами молчания. Иногда он вдруг испытывал жгучую ненависть к окружающим. Он утверждал, что мухи заговаривают с ним и что это его удивляет. Однажды, когда ему принесли ужин, а он, как всегда, отказался есть, на край миски села муха и присосалась к мясной подливе. Вдруг она спросила:
– Кто ты теперь, человек или призрак?
– Не знаю, – ответил ей Моум. – А ты?
– Да и я не знаю. Но я склонна полагать, что жива, – сказала муха, продолжая сосать подливу.
Моум отстранил вилку, которую ему протянули, и снова заговорил с мухой:
– Мне кажется, я уже приблизился к самому краю прожитой жизни. Меня посещают предки. Я сохранил в сердце своем женщину, которую потерял. Она тоже приходит ко мне. Более того, она обернулась юношей, что бросается на меня с ножом в тени дерева на Авентинском холме. И взгляды всех других преследуют и душат меня, до того мне стыдно. Я – уже не совсем я. Может, это и называется быть призраком.
– В таком случае я предпочитаю быть мухой, – заявила ему муха.
24 декабря ночью, в канун Рождества, еще до окончания поста, он умирает, так и не проглотив с самого августа ни кусочка пищи.
Глава XLIV
Рисунки для офортов, сделанные Moумом в конце жизни, не были ни гравированы, ни отпечатаны им самим. Данное обстоятельство, несомненно, объясняет мягкую прозрачность темноты на оттисках. Вот первая ночная сцена: справа, под ивою, сидит на корточках Мари Эдель со свечой в руке; в центре стоит трактирщик, он держит фонарь; слева горшечник, облокотясь на сохнущую лодку, пристраивает у нее на борту лампу; все трое освещают голого юношу (Остерера), который что‑то ищет на мелководье.
Это берег Отии.
Рисунки на меди сделаны Моумом. Офорты же были изготовлены уже после его кончины. Оттиски несколько темноваты, но бархатисты и мягки. Собственно, их нельзя назвать «черной манерой».
Лампа, масляный светильник в глиняной плошке, фитиль, медная пластинка, два резца, тишина, костлявая рука, ночь.
В полдень, когда яркое солнце нещадно палит реку, солдаты гуськом проходят через мост.
Глава XLV
«Опись имущества сьера Моума, римского гражданина и мастера по офортам» занимает две страницы in‑folio[41] и, как ни удивительно, помечена следующим веком, а именно 1702 годом.
После смерти гравера обнаружилось, что он был богатым человеком: сотня прекрасных ювелирных украшений и столько же известных полотен и рисунков, которые были оценены в двести двадцать тысяч франков; дом в Риме стоимостью шестнадцать тысяч франков; ферма в горах над Салернским заливом, с виноградниками и полями, стоящая четыре тысячи франков. Никаких сумм, отданных в долг. Две кровати, два мольберта, два сундука, четыре стола, четыре скамьи и столько же табуретов. Четырехколесный экипаж, обитый изнутри черной саржей. Плащ обычный, два плаща дождевых, четыре рубашки, а также трое штанов.








