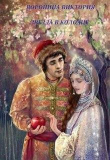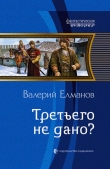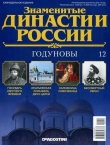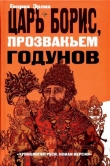Текст книги "Повесть о Борисе Годунове и Димитрии Самозванце"
Автор книги: Пантелеймон Кулиш
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Повесть о Борисе Годунове и Димитрии Самозванце.


ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Характер Фёдора, преемника Иоанна Грозного. – Разделение бояр на партии. – Дмитрий удаляется в Углич. – Замысел Бельского и восстание против него народа. – Шуйские. – Возвышение Годунова. – Шуйские действуют против него посредством Мстиславских – Мстиславский падает; Шуйские действуют решительнее. – Митрополит Дионисий мирит их с Годуновым. – Торговые люди. – Шуйские сломлены; Дионисий лишен сана и заточен. – Митрополит Иов.
В 1584 году умер московский царь Иоанн Четвертый, славный увеличением своего государства, известный законодательною мудростью и прозванный, за строгое правление свое, Грозным. Ему наследовал сын его Фёдор, юноша слабого здоровья, с малолетства привыкший к уединению и склонный более к иноческой жизни, нежели к делам государственным. Он проводил время преимущественно в занятиях отшельника: то читал церковные книги, в комнате, убранной иконами и освещенной никогда неугасающими лампадами; то посещал церкви и монастыри; часто сам надевал монашескую одежду. Заботы правления возложил он на членов верховной думы; предоставил себе только право миловать и благотворить. Со вступлением на престол, частная жизнь его ни в чем не переменилась: так же как и прежде, являлся к нему ежедневно в четыре часа утра духовник, с крестом, благословением, святой водою и с образом угодника Божия, означенного на тот день в святцах; так же как и прежде, после земных поклонов и молитв перед образом, отправлялся он к своей супруге, царице Ирине, в её отдельные комнаты, и вместе с нею к заутрене; так же строго соблюдал налагаемые на себя посты и другие благочестивые обеты. Царица Ирина имела свой особенный стол и только заговенье проводила вместе с царем-отшельником.
Естественно, что члены верховной думы, имея в своих руках более власти, нежели в предшествовавшее царствование, старались взять верх одни над другими. Еще в ночь кончины царя Иоанна Васильевича Грозного, начальные люди разделились на партии: одни были более привержены к Фёдору, другие к младшему его брату, Дмитрию. «Дмитрий младенец», говорили эти последние, «но в нем виден отцовский ум, а Фёдор хоть и взрослый, да разумом ребенок». Прежде всех осмелился высказать такую мысль боярин Богдан Бельский, которому царь Иоанн Васильевич перед смертью поручил надзор за воспитанием Дмитрия. Какое побуждение управляло этим сановником, не трудно догадаться: возведение на престол воспитанника доставило бы воспитателю первенство в государстве. Родственники Дмитрия, Нагие, постарались распространить в народе убеждение в пользу младшего царевича, и далеко бы это пошло, если бы сторона царевича Фёдора не приняла мер решительных. К Нагим приставлена была стража; некоторые опасные люди удалены были из столицы, и в ту же ночь все знатные москвитяне присягнули старшему брату.
Нагие тогда поняли, что Дмитрию, с его правами на престол, признаваемыми народом, опасно оставаться долее в Москве, и поспешили увезти его в город Углич, назначенный ему отцом в удел.
Бельский сам хлопотал об этом, но хлопотал для того только, чтоб удалением Фёдорова совместника усыпить осторожность противной партии. Он полагался на усердие к нему стрельцов, которые столько же любили в нем своего старого предводителя (во время опричнины), сколько народ его ненавидел. С его возвышением, стрельцы сами надеялись иметь больше значения, нежели под правлением кроткого и уединенного Фёдора. Для грубых ратников этого было довольно, чтоб усердствовать честолюбивому боярину, и они начали дружно готовиться с ним на отважное дело. Но сторона Фёдора была управляема братом его жены, Борисом Годуновым, человеком умным, хитрым и решительным. Он повернул умы сограждан против опасного соперника. Среди ночи неожиданно вспыхнул мятеж. Купцы, ремесленники, жильцы московские и боярские дети, сверкая при свете фонарей ножами, рогатинами и боевыми секирами, приступили к Кремлю, обратили Царь-пушку к Фроловским воротам и угрожали разбить их. У стрельцов опустились руки при виде двадцатитысячной толпы раздраженного народа. На вопросы высланных от царя сановников, нестройные крики множества голосов высказали подозрение народа, будто бы Бельский задумал возвратить времена опричнины, низложить царя и всех знатнейших бояр и отдать власть над царством своему советнику, Борису Годунову. В то же время тысяча других голосов кричала только: «Бельского! Выдайте нам злодея Бельского!» Застигнутый таким образом посреди своих недовершенных замыслов, Бельский потерял отвагу: забился в царскую спальню, трепетал и молил о пощаде. Но приговор его наперед уже был приготовлен в умах приверженцев Фёдора: Бельского немедленно сослали в Нижний Новгород на воеводство. Народ, удовлетворенный успехом своего требования, разошелся по домам с восклицаниями: «Да здравствует царь! Да здравствуют верные бояре!» Все успокоилось. Но приступ к Кремлю, по случаю мятежа против Бельского, предвещал времена ужасные. Это был отдаленный проблеск молнии в наступавшей уже тогда на Россию грозе внутренних смут. Что касается до настоящего момента, то это событие поразило человека, который сам же его и подготовил. Оно показало Борису Годунову, что в числе его орудий есть люди, равно враждебные для него, как и для его противника, Бельского, – люди, которым досадно его возвышение и которые покушались, искусно ввернутою в общий их замысел выдумкою, поразить разом обоих соперников и занять первое место в государстве. Довольно было Годунову одного взгляда на его совместников при дворе, чтоб угадать, кто повернул против него умы черни, которую он сам избрал орудием для исполнения своих замыслов.
На первом месте стоял князь Иван Мстиславский, славный по знатности рода между придворными. Но его ограниченные способности и робкий характер ясно доказывали, что это не его было дело. За ним следовали потомки удельных князей Шуйских. Они потеряли удел в борьбе с великими князьями, сражались против Москвы под Новгородскими знаменами и, когда Новгород пал, перешли в ряды бояр московских. Здесь Шуйские не забыли своей старинной знатности и в малолетство Иоанна Четвертого успели достигнуть первенства между московскими сановниками. Иоанн смирил их потом, как и все именитое в старой Руси; но, по его смерти, их наследственный непокорный дух ожил с новою силою, и в эпоху смут, наступивших с воцарением Бориса Годунова, Шуйские являются на театре истории то тайными, то явными, но всегда самыми предприимчивыми, самыми стойкими действователями. На них-то пала подозрительность Годунова. Он не имел еще средств дать им почувствовать свою силу, но, зная наверное, что будут новые на него покушения, готовился к противодействию.
Между тем власть его в государстве возросла. В прежнее царствование он был любимым человеком грозного государя, но сила его между вельможами заключалась только в умственном превосходстве да в тайном страхе, какой внушал он каждому своим хитрым и мстительным характером. Теперь он вдруг взошел и титлом и богатством на возможно высокую ступень в государстве. После венчания, Фёдор дал ему древний, высокий сан конюшего и титло ближнего великого боярина и наместника царств Казанского и Астраханского, а предоставленные ему доходы с областей составляли, вместе с особым денежным жалованьем, такое богатство, какого, по замечанию Карамзина, от начала России до наших времен не имел ни один вельможа. Испуганный мятежом, Фёдор вручил ему безответственную власть в управлении царством, и Бориса Годунова называли правителем не только в отечестве, но и в иностранных государствах. Годунов теперь без труда привлек на свою сторону, по крайней мере наружно, искуснейших людей государственных, дьяков Щелкаловых, а для связи с старыми родами, подружился с именитейшим по происхождению боярином, князем Иваном Мстиславским.
Шуйские, с своей стороны, опирались на приверженность многих фамилий княжеских и дворянских, на любовь простолюдинов и на дружбу митрополита Дионисия, естественно имевшего великое влияние на Фёдора; однакож боялись действовать прямо и зашли с той стороны, с которой Годунов меньше всего ожидал опасности: решились действовать от имени сановитого и почетного на Москве князя, Ивана Мстиславского. Мстиславский был самый несчастный простак, клонившийся на все стороны. Ласкает его Годунов – он радуется своему почету у самовластного правителя; Шуйские говорят ему о родовом старшинстве – он верит, что ему легко достигнуть в государстве старшинства действительного. От природы Мстиславский не был зол и коварен подобно Шуйским, но события Иоаннова царствования притупили в нем, как и во многих других боярах, отвращение к убийствам. Долго колеблясь между робостью и тщеславием (ибо голос человеческого достоинства говорил тогда редко сильнее этих чувств), старик наконец положился на могущество партии Шуйских и обещал, чего от него требовали: в назначенный день позвать Годунова на пир и предать убийцам. Годунов открыл заговор и надеялся разом отделаться от своих противников, но должен был ограничиться насильственным пострижением в монахи бедного старика Ивана Мстиславского, ссылкою в дальние места Воротынских, Головиных и заточением в темницы других заговорщиков; Шуйских же, при всей своей силе, на сей раз, без явных доказательств, коснуться не осмелился.
Это возвысило их в глазах приверженцев, гостей и черных людей московских, которым было известно, как усердно Шуйские хлопотали о гибели Годунова, готовя бунт против Бельского, и какое участие принимали они в разрушенном заговоре Мстиславского. Торговые люди стали смелее поговаривать, «что не долго, де, татарский выродок [1]1
Годунов происходил от мурзы Чета, выехавшего в Россию в XIV веке.
[Закрыть] повеличается перед исконными князьями Шуйскими. Их смелость сообщилась другим слоям общества. Удачный опыт недавнего бунта ободрил чернь, сильную многочисленностью. Видя верховную власть в руках согражданина, а не царя, она не признавала её законности. Угрозы в домах, в кабаках, на улицах и площадях сделались до того открытыми и дерзкими, что сам митрополит Дионисий ужаснулся и поспешил предупредить новую бурю миротворством. Он умел найти для Шуйских достаточные выгоды в согласии, хотя на время, с могущественным царским шурином; а Годунов рад был этому средству разрознить единодушие простонародья и купцов с старой аристократией. Торговые московские люди явились в этом случае сословием деятельным и неустрашимым. У митрополита идет мировая, а они собрались нетерпеливою толпою около Грановитой Палаты и ждут, чем кончится дело. Они вовсе не желают мира; они боятся, чтоб он не состоялся. В борьбе с Годуновым надежда обещает им успех, а примирение с ним Шуйских угрожает им, с его стороны, местью. Поэтому-то, когда князь Иван Шуйский вышел объявить им радостную весть, мертвое молчание толпы было ему ответом, а два гостиннодворца не утерпели, вышли вперед и сказали смело: «Помирились вы нашими головами! И вам, князь Иван Петрович, от Бориса пропасть, и нам погибнуть!»
Опасения торговых людей оправдались. Годунов не замедлил воспользоваться разъединением своих врагов. Привлекши на свою сторону аристократию, он в ту же ночь схватил двух смельчаков-гостиннодворцев и запроторил их без вести. Знал он, как это огорчит Шуйских, но рассчитывал, что не вдруг же они снова разгорячат охладевшую к ним толпу. Шуйские поняли тогда, что Годунова перехитрить трудно и что легче сломить его делом отважным и решительным. Злоба внушила им самое надежное к тому средство. Вместе с митрополитом Дионисием, у которого были свои неудовольствия на Годунова, они составили от лица всего народа челобитную, в которой все сословия, устрашенные будто бы мыслью, что бесплодие царицы Ирины угрожает отечеству прекращением Рюрикова дома, торжественно просят Фёдора развестись с нею, отпустить в монастырь и взять другую супругу, чтоб иметь наследника престола, для общего спокойствия. Начали собирать подписи, а между тем волновали чернь, чтоб устрашить Фёдора и заставить его на все согласиться. Но медленность и некоторая гласность, неизбежные при таком деле, дали Годунову время принять свои меры. Суд о разводе зависел от митрополита. Годунов спешит в палаты к Дионисию и употребляет в дело все, что мог внушить ему, как духовному хранителю народного спокойствия, и все, чем искушаются люди со стороны честолюбия. Видеть в своей келье самовластного правителя государства с мольбою о спасении, обязать такого человека в столь трудное для него время и обладать средством привести снова его в такое положение – в уме Дионисия это значило, что отныне он разделит с Годуновым поровну верховное господство над государством. Годунов видел его насквозь со всеми его поползновениями, и, наружно перед ним унижаясь, внутренно торжествовал над ним и изрекал роковой приговор ему и его сообщникам.
Лишь только слухи о разводе стихли, нашелся доносчик на князей Шуйских, что они в заговоре с московскими купцами и думают изменить царю, – доносчик ничтожный, слуга самих же обвиняемых, но его извету поверили и немедленно взяли под стражу главных представителей фамилии Шуйских, вместе с друзьми их, князьями Татевыми, Колычевыми, Урусовыми, Быкасовыми, вместе со многими дворянами и богатыми купцами. Нельзя было, однакож, употребить законной строгости с Шуйскими, и потому придуманы средства беззаконные. Сделали вид, будто бы из уважения к заслугам щадят князя Ивана Петровича, знаменитого защитника Пскова против Батория, и отправили его на Белоозеро, а князя Андрея Ивановича, по тому ж милосердию, – в Каргополь; но оба были тайно удавлены. Старший из них, Василий Фёдорович Скопин-Шуйский, видно, сам по себе казался неопасным: ему позволили жить в Москве, но отобрали Каргопольское наместничество. Прочих взятых под стражу также разослали по дальним городам, а купцам, для острастки московской черни, всенародно отрубили головы. Митрополит Дионисий сам ускорил свое падение. В порыве огорчения за друзей своих, он не размыслил, что Годунову ничего нельзя сделать посредством царя, которого слабое существование было подобно постоянной дремоте; волнение души преувеличило в понятии Дионисия силу влияния речей его на Фёдора, который доверчиво принимал всякое убеждение своего любимца. Дионисий забыл, что Годунов, как всемогущий дух, давно уже владеет волею и всеми помышлениями уединенного властителя; вместе с своим товарищем, Крутицким архиепископом Варлаамом, явился он в царские палаты и смело изъяснил царю поступки Годунова, беззаконные и опасные для государства. Царь слушал его, покачивая в удивлении головою, и может быть, уже в ту самую минуту в его набожном сокрушении (вместо ожидаемого негодования) Дионисий и Варлаам прочли свою участь. Едва они удалились, Годунов рассеял скорбь его и внушил ему, что эти изветники – не пастыри церкви, а волки хищные в одежде овечьей. Дионисия и Варлаама схватили в тот же день, лишили сана и заточили в дальние монастыри. На первосвятительский престол возведен был Иов, смиренный богомолец, устремлявший все свое внимание на исправление духовенства и на церковное благолепие. Он представлял противоположность Дионисию, гордому своими познаниями, высокомерному умом, пылкому сердцем, и Годунов, облекши его в высший духовный сан, надеялся сделать из него послушное себе орудие, что и подтвердилось отчасти дальнейшими событиями.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
Деятельность Годунова. – Учреждение в России патриаршества. – Шуйские и другие бояре действуют с Годуновым заодно. – Опасения их касательно воцарения Дмитрия Угличского. – Убиение Дмитрия. – Стремление Годунова к престолу. – Пожар в Москве. – Нашествие хана и битва под Москвою. – Происхождение крестьян и укрепление их за помещиками. – Смерть Фёдора и пострижение Ирины. – Интриги Годунова во время избрания его в цари.
Чем больше возвышался Борис Годунов в государстве, тем больше обнаруживал правительственной деятельности: составлялись описи земель; населялись пустыни; пограничные места укреплялись новыми городами [2]2
В царствование Фёдора, Борис Годунов основал Архангельск, крепости по Волге: Цывильск, Уржум. Царев-город на Кокшаге, Санчурск, Самару; также Уфу, Пелым, Березов, Сургут, Тару, Нарым, Кетский острог, Ливны, Кромы, Воронеж, Белгород, Оскол, Валуйку; кроме того возобновил запустевший после татарских набегов Курск и построил в Смоленске сильную крепость.
[Закрыть]; суд и расправа заметно улучшились. Имя Бориса Федоровича Годунова было в устах народа чаще всякого имени. Здесь его славили за решение судебного дела без проволочки, за оправдание бедняка в тяжбе с богачом, за осуждение родственника и ближнего человека по жалобе простолюдина; в другом месте построенные на счет казны, без отягощения жителей, гостинные дворы, городские стены и общественные здания производили в народе самые выгодные о нем толки. Даже в переговорах с иноземными государями и министрами московские послы величали его начальным человеком в России, говорили, что вся земля от государя ему приказана и что никогда еще такого мудрого правления в ней не бывало.
В 1589 году, Фёдор, по внушению своего любимца, учредил в России патриаршество. Церковь Русская, с самого своего основания, была под управлением одного митрополита; теперь митрополитов поставлено в России четыре и к ним шесть архиепископов, под высшею властью Иова, патриарха московского и всея России. Умножив и возвыся таким образом духовных сановников, Годунов приобрел в них, на всякий случай, крепкую себе опору.
Сановники светские и потомки знаменитых древних родов, из личных выгод, теснились вокруг него усердною толпою. Без сомнения, некоторые из них, например, Шуйские, таили в душе желание и надежду отмстить ему за братьев и друзей; но благоразумие, заставляло их до времни скрывать свои чувства: «на всех людей, говорит летопись, нашел страх и все стали ему покоряться и во всем творить его волю.» Была, притом же, еще одна причина согласию аристократов с Годуновым. Уже шесть лет Фёдор царствовал; слабость здоровья не обещала ему долголетия, а детей у него не было. Умри Фёдор сегодня, – завтра провозгласят царем Угличского Дмитрия; а известно, что, по смерти Иоанна IV, Шуйские с товарищами были, равно как и Годуновы, противниками Дмитриевой партии и что Дмитрий был удален в Углич советом всех начальнейших российских вельмож. Молодой царевич воспитывался в мрачном Угличском дворце, похожем на монашескую обитель, вдали от брата, вдали от столицы. Ему было уже около девяти лет. Мать и дяди его, Нагие, внушали ему свою ненависть к московскому правительству, толковали об ожидающем его престоле, призывали даже ворожеи к царевичу, чтоб узнать, долго ли жить Фёдору [3]3
См. Собр. Госуд. Грамот и Дог. II, № 60: Патриарх Иов на Соборе говорил: «Михайло Нагой держал у себя ведуна Ондрюшу Мочалова и иных многих ведунов.»
[Закрыть]. Ходили слухи, что резвый мальчик часто хвалился перед дворцовыми слугами, как он отомстит своим гонителям, и что однажды, слепив вместе с другими детьми из снегу несколько человеческих фигур, назвал их именами придворных и начал рубить саблею: одному отсек голову, другому руку, третьяго пронзил насквозь, говоря будто бы: «Так будет им в мое царство!»
Подобные слухи, при всей своей ничтожности, тревожили в Москве начальнейших людей. Решено было освободиться от опасного царевича насильственною мерою. Не известно, всех ли приверженцев Бориса Годунова должно упрекать в этом ужасном замысле наравне с ним, только убийство очевидно было задумано в Москве. Выполнить его поручено было дьяку Михаилу Битяговскому, по словам летописи, человеку лютому и зверообразному. Михайло Битяговский, определенный к должности дворецкого при Угличском царевиче, нашел средства согласить на кровавое свое дело брата своего Данила, племянника Качалова, мамку царевича боярыню Волохову и её брата Осипа. Они условились сложить беду на падучую болезнь царевича, о которой распространились в Угличе слухи, да и в самой столице, и выжидали только удобной минуты для свершения ужасного своего предприятия. Однажды, в майское утро, мамка вывела царевича на крыльцо. Тут один из убийц, взяв его за руку, спросил: «У тебя, государь, новое ожерелье?» – «Нет, старое», отвечал царевич, приподняв голову. В эту минуту сверкнул в руке убийцы нож; но удар по горлу был неверен. Крик показавшейся в дверях кормилицы испугал злодея; он бросил нож и убежал. Но двое других убийц вырвали несчастного царевича из рук кормилицы, зарезали и быстро скрылись. Мать прибежала на шум, но уже поздно: бездыханное тело сына, как-будто оживленное её воплем, затрепетало последним трепетом. Вслед затем явились дяди царевича, Нагие, и велели бить в набат. Гонцы поскакали по всем улицам, от ворот к воротам: «Чего стоите? царя у вас нет!» говорили они жителям, выскакивавшим на громкий стук их. Страшная весть облетела Углич в одну минуту; каждый спешит на царевичев двор. Там отчаянная мать с братом своим, Михайлом Нагим, терзают предательницу мамку, приговаривая: «Твой брат зарезал его с Битяговским!» По обвинению царицы, народ отыскивает убийц, влечет на место преступления и вместе с виновными убивает многих невинных. Раздраженная толпа излила свою ярость даже на слуг, изъявлявших жалость к господам своим. Холоп Волохова пал на него и хотел защитить своим телом, – оба лишены жизни вместе. Другой, видя свою госпожу, мамку царевича, с распущенными седыми волосами (великий срам по тогдашним понятиям), прикрыл ее своею шапкою, – в ту же минуту его убили. Но страсти наконец успокоились, и Нагие вместе с Угличанами ужаснулись последствия стольких убийств без суда законного. Написали донесение к царю, отправили в Москву гонца, а между тем постарались дать убитым Битяговским с товарищами вид вооруженных разбойников. Одним вложили в руку обагренные куриною кровью ножи, на других бросили железные палицы, сабли, самопалы и оставили в ожидании суда из Москвы; а тело царевича Дмитрия положили во гроб и поставили в соборной церкви.
В Москве давно ожидали этого известия. Гонца к царю не допустили, переписали грамоту по-своему, объяснили смерть Дмитрия падучею болезнью, и Борис Годунов взял на себя уведомить Фёдора о горестном событии. Благочестивый царь долго плакал, не говоря ни слова, и изъявил согласие на предложение Бориса – для погребения царевича и исследования дела отправить в Углич митрополита Геласия, князя Василия Ивановича Шуйского и окольничего Клешнина. Не удивительно, что Годунов выбрал в эту опасную для него комиссию митрополита Геласия: Геласий был обязан ему своим возвышением. Не удивителен и выбор Клешнина: он был один из деятельнейших злоумышленников против Дмитрия. Но выбору Шуйского многие дивились: с этим именем каждый привык соединять ненависть к Годунову. Никто не подозревал, что этого-то и хотелось дальновидному крамольнику. Он предвидел, что смерть царевича припишется ему, и, в доказательство совершенной своей неповинности, избрал в следственные судьи своего старинного врага. Народу не известны были узы, связывавшие аристократическую партию в союз против Дмитрия; не легко также было понять ему и стесненное положение Шуйского между двумя товарищами, усердными клевретами Годунова: когда Шуйский, сам Шуйский, вместе с другими привез из Углича подтверждение истории о падучей болезни царевича, это зажало рты многим обвинителям Годунова. Но что мог Шуйский сделать, если б и желал, когда в Угличе толпа людей – одни из страха, другие из угодливости сильным – засвидетельствовала, что царевич сам накололся ножом? И мог ли он повредить Борису Годунову, когда против его внушений Фёдору не устоял и сам Дионисий, глава духовенства?
Патриарх Иов, которому Фёдор передал на верховный суд донесение членов комиссии Угличской, мог бы, казалось, обличить несправедливость следственного дела. Но, вместо улики, он основался на этом донесении и объявил на соборе пред царем, что «смерть царевича Дмитрия учинилась судом Божиим и что Михайло Нагой государевых приказных людей Битяговских и других велел побить напрасно, из личной злобы, за усердие их к государю. За столь великую измену, продолжал Иов, Михайло Нагой с братьями и углицкие мужики заслуживают всякого наказания; но это дело земское, зависящее от гнева и милости государя, а наша обязанность молиться о тишине междоусобной брани.» Как слабый человек, Иов не смел противостать могуществу лукавых царедворцев; но как ревностный христианин, он, по собственным словам, «много болезновал» об обстоятельствах, которым должен был покоряться. Доказательством его сознания неправды в Угличском деле служит одно уже то, что, описывая подробно царствование Фёдора, он не сказал ни слова о смерти царевича Дмитрия. Угрызения совести слабодушного пастыря церкви были конечно тем жесточе, что Фёдор, основавшись на его мнении, поручил суд над «виновными» боярам; а те, чтоб скрыть концы, разослали всех Нагих по темницам в отдаленные города, несчастную царицу, мать Дмитрия, заставили постричь в монахини и отправили в дикую пустыню св. Николая на Выске (близ Череповца), около двухсот угличан, обвиненных в убиении невинных, казнили смертью, многим отрезали языки, многих заточили, большую часть вывели в Сибирь и населили ими город Пелым. Так погиб царевич Дмитрий с удельным своим городом; но имя его послужило в последствии орудием самого необыкновенного мщения человеческого и небесного над виновниками его смерти.
Не известно, теперь ли родилась в уме Бориса Годунова мысль об обладании московским престолом, или уже и прежде она управляла его действиями; но с этого времени царственное величие очевидно сделалось его целью. Фёдор болел, дряхлел и видимо приближался к смерти; право на престол переходило после него к родственникам его, Рюриковичам, Гедиминовичам, Романовым; а кто бы из них ни воцарился, падение временщика было неизбежно. Значит, уже не одно безграничное властолюбие, но и самая заботливость о личной безопасности указывала ему, в чем искать необоримой для завистников опоры. Нужно было только устранить соискателей престола и возвысить свое право над ними. Предусмотрительный ум ясно представил Борису положение властей в безгосударное время. Начальным человеком делался тогда патриарх, и как, по недостатку прямого наследника, предстояло избрание на царство, то первый и сильнейший голос в этом избрании принадлежал ему. Борису нужно было только заставить Фёдора завещать престол царице Ирине, или по крайней мере уверить в том верховную думу [4]4
В Никон. Лет. VIII, 34, сказано, что царь Фёдор, на смертном одре, завещал царице Ирине не царствовать, а постричься; на вопрос же патриарха Иова: кому приказывает царство? отвечал: «В нем волен Бог, как Ему угодно, а с царицею у нас улажено, как ей жить по смерти.» Это весьма вероятно: однакож, по усердию к Годунову Иова, в грамотах об избрании говорится о завещании Ирине престола. На этом, видно, основании и в грамоте об избрании на престол Михаила Фёдоровича Романова (Собр. Госуд. Гр. I, 602), сказано, что Фёдор оставил престол супруге своей Ирине, а в списке сановников, в Др. Росс. Вивлиоф. XX, 66, сказано именно, что он вручил скипетр Ирине.
[Закрыть]. При содействии царского душеприказчика, Иова, легко было и этого достигнуть.
Но посреди таких соображений и мечтаний о венце Мономаховом, ропот народа на злодейства в Угличе и на неправды верховного правительства напомнил Годунову о самой сильной партии в безгосударное время [5]5
Дневник Марины Мнишек, в Сказ. Совр. о Дим. Сам. IV, 62: «Должно заметить, что в Московии народ всегда имеет более силы, чем сенат, особенно при избрании царя и во время бунтов.»
[Закрыть]. Скоро представился ему случай расположить к себе и эту партию. В отсутствие Фёдора, отправившегося в Троицкий поход [6]6
Так назывались путешествия царей на богомолье в Троицкий Сергиев монастырь. Были также походы Савинские, Звенигородские, Кашинские, Переяславские, Можайские, Колязинские, Угрешские, Кириловские, Боровские и Углицкие. Древние русские цари вменяли себе в благочестивую обязанность совершать часто эти походы, или объезды, в отдаленные монастыри. Чаще всего предпринимали они походы Троицкие, иногда даже пешком. Во всяком случае, они сопровождаемы были многолюдным конвоем и азиатским великолепием, для произведения на народ сильного впечатления. Например, один передовой отряд, с пушкою и царским аргамаком, состоял из 1,300 воинов. Далее тянулись телеги: запасная казна, образная, постельная, телеги портомойные мовные, оружейная, поборная и проч. в сопровождении наплечных мастеров (портных), шапочников, чеботников, нашивочников, чистоплатов, и пр. и ир. Любопытное описание Троицких походов г. Забелина см. в Чтен. Общ. Ист. и Др. Р., 1846, дек.
[Закрыть], загорелась Москва. Пожар взялся с Колымажного двора и в несколько часов истребил улицы: – Арбатскую, Никитскую, Тверскую, Петровскую до Трубы, весь Белый-город, а потом Посольский двор, Стрелецкие слободы и все Занеглинье, так что уцелели только Кремль и Китай-город, где жило знатное дворянство. Столица превратилась в обширное пепелище. Народ был в отчаяньи; целые толпы бежали на Троицкую дорогу – встретить Фёдора и просить помощи. Годунов является посреди шумных сборищ, выслушивает жалобы, изъявляет участие, обещает всем немедленную помощь. В самом деле никто не остался без пособия. Одни получили из казны деньги, другим даны льготные грамоты; по воле Годунова, выстроены государскими плотниками [7]7
Из наказа посланнику Исленьеву, в 1591 году, видно, что «городовые дела всякие делали из казны наймом; а плотников устроено больше тысячи человек: да тех по всем городам и посылают.» (Карамз. X, пр. 196).
[Закрыть] целые улицы; Москва явилась из-под пепла в новой красе, и народ, успокоенный, облагодетельствованный, не знал Годунову цены.
Русские и иноземные писатели повторяют молву, будто Годунов сам зажег столицу, чтоб обратить мысли каждого к собственному горю и заглушить толки о смерти Дмитрия. Но современные летописцы-иноки почти все были недоброжелатели Борисовы, а иностранцы описывали московские происшествия до 1600 года, основываясь на народной молве [8]8
Толки народа о Годунове были явно несправедливы: народ верил, что он колдун, что он извел отравою Фёдора и даже своего нареченного зятя, герцога датского.
[Закрыть]. Не щадить соперников на пути к возвышению свойственно многим честолюбцам, но играть людьми бессовестно до такой степени решаются немногие злодеи. Гораздо вероятнее, что московский пожар так же мало зависел от Годунова, как и последовавшее за ним нашествие татар [9]9
«Войде в мысль (сказано в Никон. Лет.) во многие простые люди украинские (пограничные), что приведе царя Крымского под Москву Борис Годунов, бояся земли про убойство царевича Дмитрия.»
[Закрыть], в котором также его обвиняли.
Летом 1591 года Крымский хан Казы-Гирей неожиданно вторгнулся в Московское государство. Главное войско царское стояло на шведских границах, и дикая орда проникла до самой Москвы, гоня перед собой сторожевых казаков и легкую дружину боярских детей, наскоро собранных для первого удара. Но за две версты от Москвы, между Калужскою и Тульскою дорогами, против Даниловского монастыря, встретило ее сильное войско, составленное из берегового ополчения, из московских ратников, вооруженных граждан, знатных дворян и боярских детей. Оно прикрывалось пушками, расставленными по новым деревянным стенам на Замоскворечьи, и подвижным гуляй-городком из досок, двигавшимся на колесах. Годунов явился в стан в богатых латах, под великокняжеским знаменем, в сопровождении дворян и телохранителей, неразлучных дотоле с царскою особою. Фёдор заключился с царицею и духовником, для молитвы, в уединенной палатке и предоставил правителю действовать своим именем. Но Борис нашел выгодным уступить главное начальство над войском старшему боярину, князю Федору Мстиславскому, сыну простодушного заговорщика князя Ивана, сам удовольствовался вторым местом, окружил себя шестью опытнейшими советниками (в числе которых был и оружничий Богдан Бельский, возвращенный им из ссылки) и действовал неутомимо. Днем и ночью видели его в разных концах укрепления. Пользуясь умно чужою опытностью, Борис явился искусным военачальником даже в глазах старых воинов. Распущенная им молва, что хана заманили под Москву с умыслом, поселила везде уверенность в победе; передовые толпы татар встречены были мужественно, и, когда хан с главным войском подошел к месту битвы и остановился на горах села Воробьева, Москва блестела перед ним за тучами пушечного и ружейного дыма, а широкая равнина перед городом вся была покрыта сражающимися. Грохот пушек не умолкал и с заходом солнца. Все городские стены и монастырские ограды обозначались в ночной темноте непрерывным блеском выстрелов, как золотыми ореолами. К утру хан получил ложное известие, что в Москву пришла свежая рать от шведского пограничья, и бежал, не ожидая общего нападения. При торжествующем звоне колоколов, Годунов и Мстиславский выступили за ним в погоню. Хан только и рассчитывал на отсутствие главного войска; ошибшись, как ему показалось, в рассчете, он опрометью кинулся в свои степи, бросая по дороге добычу, и прискакал в Бахчисарай на тележке, тяжело раненный.
Воротясь из похода, Годунов получил с царского плеча русскую шубу с золотыми пуговицами в 5 тысяч нынешних рублей серебром, золотой мамаевский сосуд, добытый на славном Куликовом поле, и три города Важской области в потомственное владение; сверх того Фёдор снял с себя золотую цепь, надел на Бориса и дал ему высокое титло слуги, которое в течение века носили только три сановника, за величайшие заслуги пред царем и отечеством. Князь Федор Мстиславский получил также с царского плеча шубу, кубок, золотую чарку и пригород Кашин с уездом. Еще до возвращения в Москву, посланы от царя этим двум воеводам, для ношения на рукавах, или шапках, вместо медалей, португальские золотые, а другим корабельники и червонцы венгерские. Теперь все воеводы, головы, дворяне и боярские дети были награждены – кто шубами, сосудами, вотчинами, поместьями, – кто деньгами, кусками разных дорогих тканей, соболями и куницами, а стрельцы и казаки тафтами, сукнами и деньгами. Никто не остался без награды. Войско радовалось и славило Годунова, которому приписана была вся честь победы.