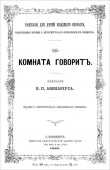Текст книги "Счастливый уголок"
Автор книги: П. Корсунский
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
VI
Процвели люди умом и сердцем
 ак Оберлин хлопотал о достатке своих прихожан; так вывел он их из уныния, научил общими силами домогаться хозяйственного благополучия…
ак Оберлин хлопотал о достатке своих прихожан; так вывел он их из уныния, научил общими силами домогаться хозяйственного благополучия…
Но помнил Оберлин, что люди не вечны.
– Должен я совершить дело свое пока не наступил вечер – говаривал он, состарившись, словами Христа (Ев. от Иоанна, гл. 9; ст. 4).
Знал добрый старик, что тот еще не окреп, кто ходит опираясь на чужую силу, как хромой на костыль; знал, что прихожане его прочно станут на ноги только тогда, когда научатся обходиться и без него; когда научатся опираться на собственный ум, когда в них укоренится добрая воля, укоренится привычка к незлобию, согласию, братолюбию.
*
К просвещению первый шаг – школа; затем чтение, размышление, обмен мыслей между людьми, чтобы один от другого поучаться мог.
Потому о школах Оберлин заботился не меньше Штубера. Он понимал, что по мере того, как оправлялась долина, хорошие школы становились для нее все нужнее и нужнее. Хозяйство, торговля расцвели; жители долины не ковыряли землю кое-как по старине, а улучшали землю; сеяли и сажали самые разнообразные растения: зерновой хлеб, картофель, лен, коноплю, клевер, другие травы; разводили для себя и на продажу самые лучшие овощи, плоды; держали скот на стойле; работали по укреплению склонов, по устройству канав, строились, проводили дороги, мосты: ремеслами занимались: в городе бывали беспрестанно: горожане и к ним ездили то и дело, обо всем с ними в разговор вступали. И в семейных и в мирских делах стыдно стало прихожанам Оберлина ходить в темноте. Научившись раз различать добро от зла, после долгих поучений в истинах христианских, стыдно им было не вникать в нужды односельчан, плохо заниматься детьми.
Привыкли они в час отдыха в семейном и приятельском кругу беседовать о том, как живется на свете, какими путями улучшается жизнь. И о податях, и о всякой общей затее хотели они иметь ясное понятие, следить за счетами, блюсти свои права, свои обязанности.
На все это нужна не только грамота, нужно читать, размышлять, знать где, как за себя постоять; нужно кроме того говорить так, чтобы все тебя понимали; не тем неуклюжим говором, которым когда-то кое-как обходились в незатейливом обиходе долины. Стали с людьми жить, так и читать, говорить, писать надо на общем – французском или немецком – языке, на которых и всякие книги, и газеты есть.
*
Когда Оберлин переехал в «Лесной Ручей», соседний помещик, видя в каком жалком домишке придется жить пастору, предложил построить ему новый.
– Тогда только переберусь в лучшее жилье, – отвечал пастор – когда хорошо устроятся все школы по деревням.
И обратился он к прихожанам:
– Порадейте, братцы, о собственных детях!.. Училища должны быть просторны, светлы, теплы; должна соблюдаться в них всяческая чистота. Пожертвуйте кто сколько может…
Было это еще в самом начале его пасторства (1768 г.), когда его не знали, считали пустым затейником.
– Что он, в своем ли уме? Из чего нам давать? Ну его и со школой! Поучатся ребята и в хижинах – заговорил народ.
Так ничего и не дали.
Стал Оберлин на стороне у добрых людей на постройку деньги собирать. И тут не угодил:
– Построит большой дом, высокие комнаты… Хорошо!.. – говорят опять: – А кто эти хоромы отоплять будет? Кто поправлять должен?.. Опять на наш карман зубы точить начнет!.. Нельзя!.. Не позволим строить!..
Наконец одну школу допустили строить, взяв с пастора подписку, что он тридцать лет исправлять здание будет на церковный счет или на сторонние пожертвования, как знает, но от обывателей долины за все время не потребует ни денег, ни работ для поправки строения.
Не оробел Оберлин, начал стройку, и – спасибо добрым людям – довел ее до конца. Больше всех помог Штубер.
Едва прошло пять лет, уже стала другая деревня сама просить:
– Помоги, батюшка, и нам школу построить!
А между собою сбор на стройку начали, и, конечно, никакой расписки не потребовали.
Помог им Оберлин, и опять не без подспорья от добрых людей. Когда дельный человек честное дело на общее благо затевает, всегда, смотришь, ему откуда-нибудь помощь найдется.
Еще пять лет прошло, выросла тем же путем хорошая школа и в третьей деревне, а там – и в четвертой, и в пятой (последняя в 1807 году, после первой через 28 лет).
А учение в этих школах всюду ставилось в образец. Успешно обучались дети закону божию: чтению, письму на языках французском и немецком: счету; пению; рассказам об отечестве, о чужих землях и народах (географии); истории отечественной, истории прочих государств древних и новых (всеобщей истории); основам сельского и домашнего хозяйства.
Мало этого, – желающим дана была возможность дальнейшего образования: в особые часы кончившие общую школу могли еще обучаться рисованию и черчению (применительно к ремеслам, землемерному, строительному делу), наукам, разъясняющим явления природы (естествознанию, более сложным счетам – математике).
Особенного внимания заслуживают устроенные Оберлином «приюты для малюток», для детей еще не доросших до школы. Такие приюты потом стали называть – «ясли». Их теперь заграницей очень много; стали их заводить кое-где и у нас по городам. Давно бы пора за них приняться и в наших деревнях.
Уходя на работы, матери относят и отводят своих детей в просторный приют, при котором обыкновенно есть и опрятный, огороженный сад с площадкой, с песком. Тут за детьми присматривают одна или две подготовленные к такому делу няньки, которые выбираются из девушек и женщин добрых, любящих детей, ласковых к детям. Дети свободно играют, бегают, резвятся под присмотром. Няня при этом и игрушку им даст (мячик что ли, чурочки какие-нибудь), и учит тех, что постарше, вязать, шить немножко, картинки показывает, сказочку скажет, песенку вместе с ними легонькую споет. Сами дети под надзором няни цветы разводят, поливают, подвязывают. И весело им, и под добрым призором они, озорству никакому не учатся; родители за них спокойны.
Сначала Оберлин завел такие приюты при своем доме да у некоторых добрых людей; потом стали принимать малых детей под надзор при школах в послеобеденные часы до вечера (а уроки с подростками к обеду кончали), а затем наняли для приютов отдельные помещения; еще несколько лет спустя построили для них и особые здания.
*
В этом деле, также как во всех благотворительных делах, большою помощницею Оберлину была жена его.
Когда Оберлин собрался на пасторство, и задумал жениться, сватали ему и богатую невесту, и красивую невесту. Но он искал девушку, которая бы охотно, без ропота и сожаления, согласилась жить в бедности, не вынуждала мужа искать богатого прихода; которая бы находила счастие в общей работе с ним на просвещение темных людей, на подъем населения бедного, захудалого, павшего духом.
И такую девушку он нашел. Шестнадцать лет, до самой смерти своей (1783 г.), была она ему верною помощницей в заботах о бедных, о сиротах, о беспризорных детях, о школах, в лечении больных, в уходе за больными…
*
И не только сама работала она неустанно, полная любви, приветливая, смиренная, но еще сумела собрать вокруг себя целый кружок таких же добрых, самоотверженных тружениц, которые помогали и ей, и, по смерти ее, овдовевшему Оберлину. Их имена с сердечной признательностью поминают в Каменистой долине.
Особенно памятна Луиза Шлеппер. Уже с 16-ти лет стала она заниматься с детьми, а потом, не переставая обучать детей, поступила в дом пастора прислугой. Когда же Оберлин овдовел, оставшись один с семью ребятами на руках (всех детей у него было девять), Луиза покоила старика, нянчила детей, вела хозяйство.
Поступила она в дом Оберлина еще при жене его, послужила в нем около десяти лет по смерти ее, и, в первый день 1793 года, вместо поздравления с «новым годом», подает старику пастору письмо.
Распечатывает пастор и читает:
«Дорогой, любимый отец наш.
Позвольте мне, ради нового года, просить у вас милости, о которой просить давно собираюсь. Я теперь свободна, так как мне не приходится более ни заботиться об отце, ни выплачивать его долгов; не откажите мне, дорогой батюшка, – позвольте называться вашей приемной дочерью. Перестаньте, прошу вас, платить мне жалованье. Ведь раз вы будете обращаться со мною, как с дочерью, вы не оставите меня без необходимого. Немногое мне и нужно: понадобятся небольшие расходы на чулки да башмаки, но, когда они мне нужны будут, я скажу вам, как бы сказала отцу. Прошу вас, родной, не откажите, а соблаговолите признать меня нежно преданной вам дочерью.
Луиза Шлеппер».
И стала она членом семьи; усердно помогала пастору в приходских делах, как, бывало, помогала ему жена; умерла же всеми почитаемая, как благодетельница бедных и сирот.
Под старость неожиданно получила она около 1250 рублей. Один добродушный француз, Монтион, оставил большой капитал, чтобы из процентов его ежегодно выдавали награды самым добродетельным людям. Распорядители капитала один раз и прислали награду Луизе. Она тотчас же раздала все деньги на добрые дела.
На могиле ее надпись:
«Луиза Шлеппер. Родилась 1763 г.; умерла 1837 г. Смиренная христианка. Верная слуга и помощница отца нашего Оберлина. Наставницею детей была с 1779 года. Учительницею пробыла 58 лет, в семье Оберлина – 48 лет».
*
Не менее замечательны сестры София и Магдалина Бернард. Небогатые девушки эти, исполнившись любви к ближним, просили у отца разрешения взять трех сирот на свое попечение. Отец сначала согласился было на их просьбу, но потом, когда случился неурожай, стал обращаться с приемышами сурово: нередко доводил их до слез, попрекая каждым куском. Сестры наняли отдельную хату и стали поддерживать детей своею работой. Когда первые ребята подросли, взяли они еще четырех. Жили они пряжею шерсти. Ребята помогали сколько могли, а добрые сестры не покладывали рук.
С трудом перебивались они… Но вот однажды получают письмо от бедного портного, что жил высоко на соседней горе. Он жалуется на крайность, на болезнь жены; у него трое детей, старшему еще нет четырех лет; он решительно не в состоянии кормить всех, присмотреть за ними, и просить призреть несчастных.
Вечером пошли сестры на гору; подошли тихонько к хижине портного. Там брезжит свет. Заглянули в окошки: видят, действительно, нужда большая… Ничего не прибавил бедняга, только правду написал… Пошли, взяли каждая по ребенку и понесли домой.
София очень нравилась одному доброму парню, да и он был ей по сердцу; однако, когда он посватался, она отказала ему.
– Я вас так люблю, – сказал жених – что готов ждать сколько угодно, ни на ком другом не женюсь. Когда передумаете – скажите.
– Если так, – ответила София, – признаюсь вам откровенно, почему отказываю. Не могу я расстаться с детьми, которых приняла на свое попечение.
– Раз я беру мать, беру и детей – заявил молодец.
Поженились. И не только все дети остались при них, а еще принимали они потом и других сирот, и воспитывали их, как родных.
– «Видя такие благодеяния этих христолюбцев, их считают людьми состоятельными, – писал Оберлин. – А я твердо знаю, что заработки их незначительны. На благодеяния они тратятся много, но у них зачастую не на что купить себе необходимого платья».
Назовем еще Катерину Шейдекер, Марию Миллер… И о них Оберлин свидетельствует:
«Бесплатно занимаются с соседними детьми; сами бедны, а находят возможность помогать людям: это истинные матери сирых и страждущих».
Первою няней в детских приютах была Сара Банцет – тоже девушка очень замечательна, но она, к сожалению, умерла в раннем возрасте, 29-ти лет от роду.
В приютах, школах няни, учителя, учительницы говорили с детьми, и приучали их говорить между собою только на хорошем французском языке. Вскоре старый говор молодежь и понимать перестала; мало-помалу он вовсе и вывелся. Приучали тут также детей к чистоте, опрятности, к приветливому обращению друг с другом и со старшими. Везде дети видели только заботу о себе, постоянно слышали, что люди должны помогать один другому… и вырастали в этих правилах.
*
Но как же было Оберлину приучать своих прихожан жить собственным умом; не надеяться постоянно на помощь, на руководство со стороны? Для этого лучшая дорога – раз дав образование людям, приучать их к дружной заботе об общем деле.
– Вы бы, – начал поговаривать пастор, – сходились между собою потолковать о том, что у кого в хозяйстве делается. Друг другу бы советом помогали; каждый рассказывал бы другому что испытал, что прочел. Может сообща книжку выпишите, семян каких… А то ведь есть сельскохозяйственные общества, конторы разные. Можете – если чего не знаете – туда написать, спросить совета.
Толковал, толковал и учредился «Сход хозяев Каменистой долины». Всякий, кто в этот сход являлся или – как это называлось – каждый «член схода» вносил по нескольку копеек в год на письма, книжки, хозяйственные газеты, семена…
И пошло дело на лад. Вскоре «Страсбургское сельскохозяйственное общество» приняло «Сход хозяев Каменистой долины» под свое покровительство, стало им помогать: книжками, советами, а иногда и деньгами. Устроили при «Сходе» питомник плодовых деревьев, лучших хозяйственных орудий и семян. Продавались они при нем и дешевле, и со всякими льготами, в рассрочку. Много «Сход» помог хозяйству долины, а – главное – в нем прихожане Оберлина день ото дня все больше приучались следить за улучшениями в хозяйственном деле, испытывать что им пригодно, приучались вести свое дело сами и сообща.
Видя это, добрый пастор мог надеяться, что и без него хозяйство в долине пойдет исправно, не упадет.
*
Завел он затем сберегательную кассу (кассу для сбережений), и – отдельно от нее – ссудную кассу.
В устройстве ссудной кассы опять помогли пастору добрые люди со стороны. Она назначалась для бедных людей; на выручку их в черный день. Собрал пастор разными пожертвованиями для нее на наши деньги рублей триста, и стал раздавать взаймы при беде кому сколько, но не свыше рублей 12-15-ти. Поправившись, необходимо нужно было деньги отдать, хотя понемногу. И отдавали исправно: очень уж стыдно было перед людьми не отдать! Ведь не отдал кассе, когда мог, – значит у других бедных отнял; им не из чего будет помогать. И сберегательная и ссудная касса потом перешли в общественное ведение.
*
Учил Оберлин людей собираться также для поддержки друг друга в добрых правилах и добром житии; учредил «Христианское сообщество». Члены этого сообщества, также как члены «Хозяйственного схода», вносили ежегодно по нескольку копеек на общие газеты, книжки, переписку. Собирались, толковали о воспитании детей, о домашних делах, о том – какие где нужды есть, как этим нуждам помочь; пели сообща священные песни; старались укреплять друг друга в добре, в жизни христианской.
*
«Жить по-христиански – учил их притом Оберлин – значит, прежде всего, любить каждого человека как брата».
В прежние времена даже добрые люди, готовые оказать всякую услугу тому, кто держался одного с ними вероисповедания, относились с враждой к другим исповеданиям: лютеранин охотно помогал лютеранину, католик католику, но лютеранин в католике, католик в лютеранине видел еретика, врага. Еврей всем был ненавистен.
Оберлин – как истинный христианин – понимал, что это не дело, и учил уважать каждого хорошего человека, как бы он ни молился; учил не обижать никого из-за исповедания.
Сидит он однажды у себя в комнате, слышит на улице страшный шум… Выбегает, видит – вся деревня, стар и млад, гонится за каким-то чужим человеком…
– Жид!.. Жид! – кричат ему вслед. Мальчики бросают грязью, камнями.
Пустился за ними старик:
– Дети, дети!.. Что вы?.. Остановитесь!..
Обогнал толпу, догнал еврея, взял у него котомку с плеч, взвалил на себя, а еврея на глазах всего народа повел в свой дом.
– Отдохни у меня, братец, – сказал он несчастному, – здесь тебя не тронуть.
А затем вышел к толпе:
– Постыдитесь! – стал он поучать ее. – Знаете ли вы этого человека?.. Нет? Значит худа он вам не сделал. Вы гоните, оскорбляете его за то, что он еврей, не христианин… Уразумейте лучше, что сами вы во тьме ходите; что духа христианского в вас нет. Не прониклись вы величайшею из заповедей Христовых: «возлюби ближнего, возлюби весь род человеческий!..» Ступайте, и да вразумит вас Господь!
*
Один из лютеран в «Лесном ручье» женился на католичке из соседнего городка. При женитьбе условлено было, что детей будут крестить по католическому обряду. Родился ребенок и собрались родители везти его в город для крестин. Лютеране Лесного Ручья заволновались:
– Никогда не было детей католиков в нашей деревне… Не пустим!
Сговорились отнять ребенка силой. Засели на дороге в перелеске и поджидают.
Услыхали бедные родители новорожденного об их замысле; прибежали к Оберлину.
– Уповайте на Бога, – сказал он им – и не бойтесь. Он защитит вас. А чтобы вам не страшно было, я провожу вас.
Пошли вместе. Подошли к перелеску. Оберлин остановил спутников:
– Помолись со мною – говорит.
А сам стад на колени, поднял руки и громко произнес:
– Боже многомилостивый! Ты знаешь, какое злое дело задумано и готово совершиться. Удержи людей твоих от греха и огради молящихся тебе!..
Не успел он опуститься на колени, – из-за кустов выскочили лютеране. Видят – их же священник провожает дитя; слышат слова молитвы и… остановились.
А Оберлин взял дитя с рук матери и пошел им на встречу.
– Вот ребенок, которого вы преследуете… Хотите взять его?
В смущении стояли перед ним темные люди.
– Ступайте, дети мои, – сказал пастор, – и не забывайте сегодняшнего дня. Помиловал вас Господь, не дал совершить темного насилия; и впредь не позволяйте себе насилия, дабы и я скорее забыл грех ваш.
Между молодою четой и односельчанами больше не было несогласий. Спокойно росли дети-католики с детьми-лютеранами и о розни помину не стало.
Соседние католики нередко приезжали в церковь Лесного Ручья слушать проповеди Оберлина и плакали от умиления вместе с прихожанами-лютеранами.

VII
Последние дни праведника
 ного, много можно бы еще порассказать о добром проповеднике любви и братства – Оберлине, но для этого нужно бы исписать еще целую книжку, а нам пора кончить.
ного, много можно бы еще порассказать о добром проповеднике любви и братства – Оберлине, но для этого нужно бы исписать еще целую книжку, а нам пора кончить.
Пятьдесят девять лет неуклонно работал Оберлин для Каменистой долины. Много раз предлагали ему богатые приходы, места в городе, – он отказывался от них.
– Не могу оставить Богом данной мне паствы. Надо довести дело до конца – говорил он. Здесь знаю каждого человека, каждого ребенка, как своего, родного; здесь я дошел до того, что мне открыты все души. Где найду я лучший приход – приход, более готовый работать со мною?
Раз только соблазнился он было мыслью уехать на подвиг не менее, быть может еще более, трудный – на проповедь христианства дикарям в Америке. Но подумал, поговорил с женою (тогда она еще жива была)… Помолились вместе Богу – прося его вразумить их: ехать или не ехать?..
И остались! Только продали все, что нашлось ценного в доме – и отправили вырученные деньги «миссионерам» (т. е. проповедникам христианства) в Америку.
Оберлина знали и уважали всюду. И прихожане, и чужие люди иначе не называли его, как «отцом».
Состарившись, он взял к себе в помощники другого пастора, за которого выдал дочь. Но не переставал трудиться до конца.
*
28 мая 1826 г. восьмидесятипятилетний старец почувствовал сильную лихорадку и впал в обморок. Два следующие дня обмороки часто повторялись…
– Да будет воля Господня! – сказал умирающий, простился с детьми, с близкими… и вскоре почил.
5 июня его хоронили при огромном стечении народа. Собрались издалека и лютеране, и католики, без различия. Немало приехало почитателей покойного и из Барра, и из Страсбурга.
С раннего утра шел дождь, но к выносу просияло солнце и ярко осветило осчастливленную усопшим долину: и насаженные его заботами обильные сады: и горы, почти до самых вершин зеленеющие роскошными лугами, им созданными; и поля, прежде тощие, а теперь плодородные от его великих трудов; и сверкающие ручьи, им заключенные в правильное ложе, им обращенные из силы разрушительной в силу благодетельную; и лестницы, проведенные им от уступа к уступу соседних гор; и прекрасные дороги, и мосты, и веселенькие каменные постройки крестьян, им сооруженные; и красивые чистые улицы; и толпы людей, им просвещенных, им возрожденных от уныния к светлой уверенности, что знанием и настойчивостью можно победить самые трудные условия жизни, – толпы людей, связанных узами братской любви, его стараниями устранивших из среды своей губительное своекорыстие, раздоры, грубость…
Раздались колокола. Первым открыл печальный звон колокол, только что повешенный заботами покойного в церкви одной отдаленной деревни. Впервые и ударили в него этот раз.
Вынесли из скромного жилища гроб родные, домашние, ближайшие друзья, многочисленное духовенство. Его встретили вереницы детей малых, средних подростков из приютов, из низших, высших школ с учителями, учительницами, нянями…
Вдоль всей дороги до церкви густыми рядами стоят лютеране, католики. Все падают на колени, у всех на глазах сердечные, искренние слезы…
– Родного отца хороним! – слышно со всех сторон.
Гроб, но мысли Леграна, сделан был со стеклянною крышкой. На прощание прихожане могли последний раз взглянуть в лицо отцу своему, который покоился в гробе с застывшей на устах его последней, блаженной улыбкой.
Отслужили обедню, панихиду, и опустили гроб в склеп, в самой церкви. На могильной плите до сих пор видна надпись: