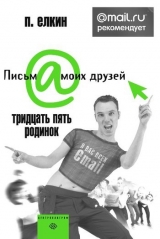
Текст книги "Тридцать пять родинок"
Автор книги: П. Елкин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Когда я появился дома в страшенном виде, маманю это не удивило – с некоторых обычных прогулок я возвращался и пооборваннее. А когда я рассказал продуманную легенду, маманя так растрогалась, что мне немедленно были прощены и прожженные штаны, и рваный свитер.
И что самое главное – когда на следующий год незадолго до 9 Мая я начал заводить разговор про то, что наша школа, снова собирается в поход, маманя немедленно согласилась, приговаривая: «Ну, может быть, на этот раз ты сможешь вытерпеть, как все. Ведь ты же вырос, сынок».
И правда, следующий поход я вытерпел легко – там было все абсолютно не так, как в первый раз.
Но это уже совсем другая история.
Страшное слово «зато»
С детства я не любил слово «зато». То есть когда маманя покупала мне, еще совсем маленькому, какую-то вещь, например дурацкие ботинки, приносила домой, обувала меня в них, потом сокрушенно смотрела на это уродство (я про ботинки), вздыхала и говорила: «Зато крепкие!»
Или покупала какую-нибудь пальтину дурацкую, приносила домой, смотрела на это уродство (тут я уже про пальто), вздыхала и говорила: «Зато немаркое!»
Мне до сих пор непонятно, почему одна и та же вещь не могла быть красивой и вдобавок крепкой!
Короче, шапка из верблюжьей шерсти, которую мне маманя связала классе в шестом, была из породы «зато теплая!».
Где маманя достала эту самую верблюжью шерсть, я до сих пор понять не могу. В общем-то где все женщины доставали все, что нужно, в советские времена? Покупали друг у друга «по случаю».
Ну вот могло так случиться, что к родственнице подруги маманиной сослуживицы приехал кто-то знакомый из страны верблюдов и привез целую прорву верблюжьей шерсти, обладающей, по слухам, какими-то необыкновенными, просто-таки волшебными свойствами. Как водится, от такого неожиданно привалившего богатства счастливцы обалдели и не додумались ни до чего лучшего, как набить верблюжьей шерстью подушку. Но, судя по всему, они очень быстро поняли, что спать на такой подушке невозможно, распотрошили наволочку и всю драгоценную шерсть распродали по знакомым.
Мамане досталось граммов двести этого чуда, решено было связать мне шапку.
«Петушков» тогда еще не носили, поэтому маманя вывязала обычную круглую шапку. Ту, которую тогда положено было делать с помпоном, но на помпон шерсти не хватило. Оно и слава богу, иначе, с помпоном, шапка не влезала бы мне в карман. Носил я ее в кармане – на голове носить ее было просто нереально. Почему? Как минимум по четырем причинам:
1. Фасон. Шерсть была страшно свалявшаяся, поэтому распрясть ее нормально не удалось. Пряжа получилась какими-то валками. Вот и оказалась шапка перекошенной, кривобокой, как колобок после драки с медведем.
2. Цвет. Несмотря ни на какие ухищрения, верблюжья шерсть не красилась ни в какой цвет, кроме своего природного говнисто-рыжего. То есть даже «радикально-черный» краситель, казалось, делал шапку только еще коричневее, еще говнистее.
3. «Зато теплая» – это правда, точнее даже – непререкаемая истина. То есть шапка из волшебной шерсти была настолько теплой, что даже в тридцатиградусный мороз голова в ней немедленно начинала потеть. А что дальше было – смотрите пункт 4.
4. Запах. Вот это было даже не волшебство, а целое колдовство. Пока шапка была сухая, это было еще терпимо. То есть от нее попахивало каким-то степным ароматом засохшего в кустах полыни говна, но так, туманно попахивало. В крайнем случае можно было запихнуть шапку поглубже в карман и укоризненно посмотреть на соседа в автобусе, чтобы все поняли, что ты тут ни при чем. Но стоило хоть чуточку вспотеть… Или даже не так – стоило хоть одной снежинке или одной капельке дождя упасть на эту волшебную шапку, она начинала смердеть. В этом запахе было все: ведро помоев, выплеснутое грязной теткой из юрты; мутноглазые грифы-стервятники, клюющие дохлую корову на берегу соленого пустынного озерка; рыбьи трупики, плавающие по отравленной соседним химкомбинатом воде… То есть вся трудная история и вся еще более нелегкая сегодняшняя жизнь среднеазиатской окраины единым запахом сосредоточились в шапке из верблюжьей шерсти. Самое страшное было даже не то, что от этого запаха в ужасе начинали захлебываться воем соседские собаки и падали с неба вороны, у которых на лету останавливалось сердце. Самое страшное было то, что этот запах немедленно впитывался в волосы и вымыть его было просто невозможно.
В общем, шапку я надел только один раз, после этого носил в кармане – оставлять дома ее было нельзя, потому что уходил я в школу раньше, чем маманя отправлялась на работу, и она – по запаху, так я думаю, – сразу замечала шапку, если я оставлял ее на вешалке, и гналась за мной до автобусной остановки, чтобы натянуть ее мне прилюдно на самые уши.
Всю зиму я таскал шапку в кармане, даже когда морозы зашкаливали за тридцать, закалялся, блин. И, как всякий закаленный парень, естественно, за всю ту зиму я не подхватил даже насморка.
Но когда весной пришлось перелезать из пальто в куртку, выяснилось страшное – шапка в карман куртки не помещалась. И вот как-то утром я не выдержал и забросил эту шапку в самые недра загружающей помойные баки мусорной машины.
Вечером этого дня я грустно признался мамане, что шапку у меня, наверное, украли в школе. Маманя очень расстроилась – она так гордилась тем, что благодаря ее рукоделию я за всю зиму ни разу не болел. «Ах, как жалко, что такую хорошую шапку украли, – еще долго вздыхала маманя. – Она, конечно, была не очень симпатичная, но зато такая теплая!»
Про попугая
Поскольку моя маманя искренне верила, что доброту в ребенке можно воспитать, у нас в доме всегда была какая-то живность. Не собака, как мне хотелось, и, конечно, не шимпанзе. Как раз тогда шла целая куча фильмов про замечательных и веселых шимпанзе. «Приключения Дони и Мики» или, например, «Полосатый рейс», и мне прямо виделось, как весело и дружно мы бы зажили с обезьянкой. Но маманя тоже видела все эти фильмы, она хорошо представляла себе, что может устроить шимпанзе в обычной московской квартире, так что родительница предпочитала ограничиваться всякой мелочью.
– Хочешь, кенара заведем? – спрашивала меня маманя. – Они так красиво поют-заливаются…
– Не хочу! – угрюмо буркал я, и у нас на кухне появлялась огромная клетка, в которой гнездилась кенариная парочка.
– А вот аквариум, хочешь аквариум? – предлагала маманя. – Знаешь, как интересно на рыбок смотреть? Нервы успокаиваются!
– Дав жопу этих рыбок, – отмахивался я, и у нас в комнате появлялся огромный, на двести литров, ящик аквариума, в котором весело плескались разные гуппи, барбусы и сомики.
И меня, для воспитания во мне доброты, заставляли как дурака менять кенарам газеты и засыпать корм. И аквариум мне приходилось чистить, ежедневно ходить на пруд с сачком, чтобы там среди мутного ила вылавливать дафний для прокорма рыбам. Блин, в десять лет я уже был вынужден заботиться о том, чтобы прокормить целый выводок чужих детей! Доброта из меня так и перла, особенно когда я проваливался в грязь по колено и опрокидывал дурацкую трехлитровую банку с уловом…
– Ничего не поделаешь, – разводила руками маманя, когда я, наклонившись над ванной, стирал потом свои единственные штаны. – А как же ты думал? Вот так и воспитывается ответственность! Ты же хочешь стать настоящим мужчиной?
«Фигасе, – размышлял я, полируя вонючим гуталином единственные ботинки. – Если это так называется, то, пожалуй, не хочу!»
Как мне было объяснить мамане, что «живность» – это не то, что шевелится где-то в аквариуме или в клетке. Если бы мне нужно было что-то такое, я бы лучше с тараканами сдружился. Тараканов хоть кормить не надо – они сами прокормятся. А за каждую дурацкую гупёху, которая вдруг начинала плавать боком, за каждое перо, которое кенар вытаскивал из хвоста, маманя устраивала мне страшный скандал. «Ты за ними плохо ухаживаешь! – вздыхала она. – Ты, когда вырастешь, будешь плохим отцом…» Можно подумать, это от меня родились гуппята и от меня кенариха откладывала яйца в вязанное крючком гнездо.
Хотя, наверное, я и правда плохо ухаживал за рыбками и кенарами. Потому что мне не хотелось «ухаживать». Мне хотелось играть. Брать животинку в руки, тискать, вместе с ней бегать по улице, учить разным прикольным фокусам. Мне хотелось показывать животинку друзьям и гордиться – мол, смотрите, чему я научил! Не бегать же по улице с барбусом в банке:
«Пацаны, смотрите, как он прикольно раскрывает рот! Моя школа!»
И вот в двенадцать лет, уморив, наконец, парочку кенаров, я добился своего. Ну, не то чтобы совсем того, чего хотелось, но, по крайней мере, достойного компромисса.
На день рождения маманя купила мне попугая. Не волнистого попугайчика, а почти ара или какаду, я не помню, как он там назывался.
То есть у меня появился огромный разноцветный попугай размером чуть ли не с мою руку.
Это было счастье.
Капитан Флинт почти не заходил в клетку, доставшуюся ему по наследству от кенаров. Все время мы проводили вместе. Стоило вытянуть руку, как Капитан планировал откуда-то со шкафа прямо мне на ладонь. Подобрав зажатый между пальцами кусочек яблока, Капитан, потешно перебирая лапами, забирался мне на плечо, и мы начинали с ним болтать. То есть покато говорил только я, а Флинт кивал и корчил рожи. Я даже понять не мог, ну что такое лицо у попугая: клюв и два глаза – как, ну как он ухитрялся делать такие прикольные гримасы? Я хохотал, и Капитан, вытянув шею, заглядывал мне в рот, высматривая, нет ли там еще лакомства, а потом хохотал вместе со мной, приседая на своих когтистых лапах.
И я уже видел, как много лет спустя, где-нибудь на берегу моря, мы будем так же стоять с Капитаном на рассвете и собираться в какое-нибудь ужасно далекое путешествие в самую чащу джунглей и так же будем хохотать, а местные проводники будут испуганно отшатываться, принимая нас за двухголовую нечистую силу. «Меня тут называют Бич Божий, ты понял? Ха-ха-ха!»
Через два дня Капитан умер.
Мой день рождения приходился на каникулы, и я не расставался с птицей чуть ли не круглые сутки, сваливаясь поспать только буквально на пару часов, и вот наутро третьего дня, когда я вскочил с кровати, протянул руку и крикнул: «Фли-и-инт!» – попугай не вспорхнул ко мне на ладонь. Чуть ли не полчаса, перебудив всех, я искал Капитана по квартире, подвывая от ужаса, что кто-то, несмотря на мой строгий запрет, осмелился открыть на ночь форточку и попугай улетел.
Тело Флинта я нашел под шкафом.
Видимо почувствовав, что умирает, попугай заполз в самое темное место в квартире и там испустил дух.
Я захлебывался слезами, держа в руках безжизненное тельце, теперь казавшееся таким маленьким, и гладил дрожащими пальцами потускневшие перья, когда на меня насела маманя: «Убил! Ты его убил! Ты знаешь, каких он денег стоит???»
Что мне были эти дурацкие деньги. За эти два дня я успел придумать для себя целую жизнь на пару с верным другом, и вот все мое счастье рухнуло и лежало у меня на руках горсткой перьев.
– Значит, так, – начала загибать пальцы маманя. – Отныне и навсегда: никакого мороженого, никаких значков и марок, никаких мячей…
Да что мне были эти ее мячи и марки, – жизнь, жизнь рухнула, как маманя этого не понимала…
Когда маманя отправилась на работу, я поехал в книжный, искать пособие по таксодермии. Я решил собственноручно набить чучело Капитана Флинта, чтобы он до конца жизни оставался со мной, пусть даже и так. Конечно же никакого пособия в магазинах не было, но я тупо ходил из одного книжного в другой, ветер раздувал полы моей незастегнутой куртки и гонял слезы у меня по щекам. Почти такой же ветер, как и тот пассат, еще вчера дожидавшийся нас с Флинтом где-то на просторах океана… И лужи под моими ботинками брызгались так же, как волны, которые должны были биться в борт нашей каравеллы.
Конечно же к вечеру, нагулявшись в расстегнутой куртке и с мокрыми ногами, я заболел. Я лежал в постели, тело Капитана Флинта лежало рядом со мной на подушке, и даже заложенным носом я чувствовал, что оно уже начинает попахивать тухлятинкой.
Но главный ужас случился на следующий день. Покупая птицу, маманя оставила в зоомагазине наш телефон для того, чтобы, если вдруг объявится самочка той же породы, мы могли сговориться с ее хозяевами про совместных детей. Так вот, на следующий день, несмотря на выходной, нам позвонили откуда-то из СЭС и поинтересовались у мамани, все ли в порядке с нашим попугаем. «Видите ли, – аккуратно подбирала слова звонившая тетенька-эпидемиолог, – вся партия этих попугаев оказалась заражена какой-то легочной инфекцией, возможно опасной для людей. Мы вышлем за птицей машину, а клетку, в которой она сидела, лучше сжечь…» Узнав, что попугай умер уже вчера, а мальчик, который с ним играл, с температурой и кашлем лежит в постели, тетенька заметно испугалась и сказала, что высылает к нам еще и неотложку.
Ну что сказать… Следующая неделя оказалась для меня неприкольной. Сколько анализов мне пришлось сдать, я уж и не упомню, но меня истыкали иголками так, что я был примерно такого же иссиня-красного оттенка, как Капитан Флинт. Но я на попугая не сердился – ему, наверное, досталось похуже моего.
Но что самое удивительное – у мамани я опять оказался виноват во всем. Ее в инфекционный корпус не пускали, но она все равно каждый вечер приходила под окно палаты и кричала мне через стекло, что я нарочно кормил Капитана изо рта, чтобы заразиться той злой инфекцией у гадкой птицы! У меня оказалась всего лишь простуда, при чем тут бедный попугай?
Слушая доносящийся через стекло крик, лежа в температурном бреду, я понимал, как у мамани на глазах рушится ее собственная придуманная жизнь, ее собственная мечта – про то, как она хвастается мною своим подружкам: «Смотрите, каким прикольным фокусам я его научила! Ха-ха-ха!» – и подружки в ужасе отшатываются… Бич Божий, блин…
Но мне тогда было простительно так думать – у меня была температура под сорок и я бредил.
Бинокль
Недавно занесло меня на ВВЦ, прошелся там по павильонам, порадовался, поудивлялся.
Кроме всего прочего, порадовало меня огромное количество биноклей, которые там продаются. И ведь покупают же!
Зачем нужны такие мощные бинокли в городе?
Я так понимаю, у нас народ, кроме меня, конечно, не ходит в театры с двадцатикратными агрегатами и, наверное, не отслеживает миграции синичек.
Есть, конечно, охотники и до синичек, кто ж спорит.
Но мне-то понятно, что большинство горожан покупает бинокли не для наблюдения за звездным небом, а чтобы приглядываться к окнам напротив.
Я сам был таким, в двенадцать лет.
Этот двадцатикратный немецкий бинокль попал к нам случайно. Поскольку маманя работала в ОКСе секретного ракетного завода, был у нее один знакомец, даже, скорее, приятель, начальник отдела сбыта несекретного кирпичного завода, как сейчас помню – Георгий Борисович. На самом деле, конечно, не Георгий и не Борисович, было у него какое-то еврейское имя и еврейское отчество, но по тогдашним временам в паспорте было принято писать простые и понятные русские имена. И вот, сколько я его помню, Георгий Борисович с завидным постоянством уходил со своего кирпичного завода на посадку. То есть он как заведенный появлялся на воле, примерно с год работал начальником отдела сбыта кирпичей, потом его сажали за хозяйственные преступления года на два с конфискацией, он честно отсиживал свое, выходил, снова вставал на сбыт кирпичей и через годик опять садился года на два с конфискацией – только на моей памяти эти пертурбации происходили раз пять. И каждый раз перед посадкой он появлялся у нас дома и предлагал мамане купить по дружбе то, что было нажито за год неправедным путем, типа все равно ж конфискуют.
И вот в одно из таких появлений Георгий Борисович за какие-то совершенно смешные деньги втюхал мамане доставшийся ему неизвестно по какому бартеру двадцатикратный цейссовский полевой бинокль, эдакую огромную тяжеленную дуру, – понятно, что он в хозяйстве нам на фиг был не нужен, но уж больно понравилась цена. «Пусть будет, – махнула рукой маманя, отсчитала Георгию Борисовичу требуемую сумму и деловито чмокнула его на прощание в лысину. – Пока-пока!»
Пока маманя сортировала вновь приобретенные хрустальные вазы и серебряные ложки, я немедленно наложил лапу на толстенный кожаный чехол от немецкой оптики. Сам-то бинокль мне на фиг был не нужен, но вот чехо-о-ол… Он выглядел офигенно по-военному, причем именно по бундес-военному, тут ошибиться было невозможно. Такая солидная толстенная кожа, серьезная медная защелка – сюда легко поместятся все мои учебники – плюс еще какие-то кармашки по бокам – как раз для ручек, и широченный ремень чуть ли не в метр длиной. Я уже представлял, как с этим чехлом через плечо буду ходить в школу, и вообще, портфели – это ж для детей. Пусть теперь в школе кто-нибудь попробует налететь сзади и ударом сверху выбить у меня из расслабленных пальцев это чудо! Хрена теперь вам всем!
Я притащил чехол в нашу с сестрой комнату, уселся за стол, положил чехол перед собой и бережно погладил толстенный кожаный бок. Этот запах настоящей кожи – теперь он будет у меня на кончиках пальцев. Любовно прислушиваясь к суровому лязгу защелки, я раскрыл чехол, вытащил бинокль и начал нетерпеливо оглядываться по сторонам, выбирая, куда бы его побыстрее убрать. Свободное место на столе было занято чехлом, но в любом случае на виду эту бандуру оставлять было нельзя.
Стоило мамане заметить бинокль, лежащий где-нибудь на виду, она немедленно начала бы ныть, что я опять все разбрасываю, и вообще, почему такая вещь без чехла – да, кстати, а где чехол? – и все, тут сразу и наступил бы конец моему счастью.
Блин, куда бы пристроить эту штуку… Оглядывая комнату, я обеими руками едва-едва смог поднять к глазам окуляры. Какие-то смазанные зелено-коричневые пятна, ерунда какая-то, вообще же ничего не видно. Я повернулся к окну – те же расплывчатые пятна, только белые… Я оторвал от глаз окуляры и глянул, может, они грязные, как вымазанные восковым карандашом стекла в противогазе? Окуляры оказались чистые, только, судя по белым цифрам, фокус был вывернут на +10. Я выставил фокус на 0 и снова глянул через бинокль в окно…
Часа через два, перемыв все вазы и ложки, маманя заглянула в комнату:
– Ужинать пошли… А ты что, все еще за уроками сидишь?
– Да, задали много, – пролепетал я и постарался расправить плечи пошире. Услышав, как поворачивается ручка двери, я едва успел уронить бинокль на колени и теперь страшно боялся, что маманя подойдет проверить, какую это домашнюю работу я тут делаю, потому что на столе у меня, естественно, не лежало ни листочка. Но у мамани что-то там шкварчало на кухне, ей было не до меня.
– Свет зажги! – только и сказала она, закрывая дверь.
Я с облегчением перевел дух.
На следующий день у меня ничего не получилось. По вторникам сеструха не ходила в музыкальную школу, как дура весь день торчала дома, поэтому мне пришлось дожидаться среды. Зато у меня было время, чтобы все хорошенько обдумать, так что в среду я оказался вполне готов к любым маманиным проверкам.
Когда сразу после школы я уселся за стол, первым делом разложил перед собой тетрадь с недописанным примером по математике, пару ручек и учебник. Выдвинув до половины верхний ящик стола, я разобрал там накопившуюся ерундовую мелочь и разложил в несколько слоев вытащенное из шкафа полотенце. Так, надо отрепетировать: при звуке открывающейся двери одним движением плавно опускаю бинокль на полотенце, подаюсь вперед, грудью закрываю ящик, одновременно хватаю ручку. Так, медленно – попробую еще раз. Еще. И еще разок. И свет надо зажечь, чтобы маманя уж точно ни к чему не придиралась… Я бережно вытащил бинокль из чехла, брать чехол с собой мне уже и в голову не приходило, – уходя в школу, я мог оставить драгоценный бинокль только под его надежной защитой, чтобы, не дай бог, не случилось чего-нибудь.
С тех пор по понедельникам, средам и пятницам, а иногда и по другим дням, когда у сеструшки вдруг появлялись какие-то занятия, маманя просто не могла на меня нарадоваться – я сидел за уроками как привязанный: когда бы она ни заглянула в нашу комнату, я все время сидел за письменным столом, задумчиво решая какие-то примеры или записывая какое-то изложение.
Но на самом деле, конечно, занят я был совсем не уроками. Я рассматривал в бинокль окна напротив.
Первое восхищение оттого, что ты вот так, вдруг, можешь заглянуть в чью-то жизнь, у меня прошло. Теперь я уже не просто таращился как попало, я смаковал картинки чужой жизни. У меня появились любимые окна, в которые я заглядывал особенно часто. Самая любимая была у меня одна девчонка, лет шестнадцати.
Я уже твердо знал, по каким дням во сколько она приходит из школы, во что она переодевается, когда делает уроки. Конечно же интереснее всего было смотреть за тем, как она переодевается, но с не меньшим любопытством я следил, как она разговаривает по телефону, рассеянно наматывая локон на палец, как гладит свои вещи, прыская на них водой, как моет на кухне посуду после обеда, то и дело убирая со лба волосы тыльной стороной руки. Когда она вдруг замирала посреди комнаты, мне нравилось угадывать, что она сейчас будет делать – то ли побежит к неслышному мне телефону, то ли задумчиво подойдет к книжному шкафу и будет долго выбирать книгу. Мне правда это было интересно – даже если в другом окне в это время обнимались и целовались какие-то другие люди, я все равно с большим удовольствием смотрел на свою девчонку и только иногда поглядывал в другое окно – не начали ли еще там трахаться, а потом снова переводил бинокль на девчонку.
Как-то раз я даже не выдержал: заметив, что она собирается на улицу, я быстро оделся, выбежал из подъезда и догнал ее на автобусной остановке – мне было интересно узнать, какая она вблизи, услышать ее голос, может быть, сзади тайком даже прикоснуться к ней или как-нибудь узнать ее имя. Но она как-то молча, уткнувшись в книгу, проехала пять остановок, и я еще не успел собраться с духом, чтобы подобраться к ней поближе, как она уже выскочила на улицу, и я только глазами проводил ее через окно отъезжающего автобуса. Нет, через бинокль она все-таки была мне гораздо ближе – прямо на расстоянии вытянутой руки! – решил я, возвратившись домой.
Дальше – больше. Постепенно я перестал обедать один – стал оттягивать обед, чтобы потом пообедать вместе с той девчонкой. Когда ей кто-то звонил, я тоже снимал трубку и притворялся, что она разговаривает именно со мной. Когда она шла смотреть телевизор, я тоже шел с биноклем в маманину комнату, включал телевизор и, сидя на спинке кресла, смотрел в окно, представляя, что мы с девчонкой смотрим телевизор вдвоем.
Вот именно так меня и застала маманя, придя однажды домой раньше, чем обычно.
Застала, закатила мне сцену на тему «Подглядывать нехорошо!», отобрала бинокль и решила отдать его кому-то из наших родственников, типа скоро у него день рождения, вот и подарок будет!
Я, как мог, старался сберечь свое чудо – я твердил, что неновые вещи дарить неприлично, а маманя только отмахивалась, мол, он родственник, ему можно. Я упрашивал маманю не отдавать бинокль, а просто спрятать куда-нибудь, чтобы я не смотрел, она только качала головой: «От тебя нигде не спрятать…» Я даже пригрозил, что напрошусь к родственнику в гости и украду свой бинокль, но маманя была непреклонна: «Все, решено!»
Короче, так я свой бинокль сберечь и не смог. Потом я даже как-то записался в школе в астрономический кружок, надеясь, что там нас научат делать телескопы, но наш физик только рассказывал о звездах, и через пару занятий я махнул рукой. А с той девчонкой я еще пару раз потом попробовал прокатиться в автобусе – но нет, это все было совсем не то. Быть такими близкими, какими мы были когда-то раньше, мы уже не смогли.








