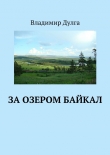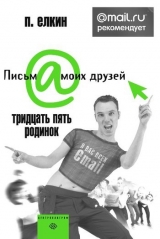
Текст книги "Тридцать пять родинок"
Автор книги: П. Елкин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Конечно же это я сейчас знаю такие слова, как «бюст» и «жабо». А тогда я просто растерялся при виде такой царь-билетерши, да что уж там, столько лет спустя можно признаться откровенно, струхнул я тогда крепко. «Бяше ли лепо, тьфу, лепо ли бяшете…» – только это у меня и получилось промямлить.
– Билет, мальчик? – Билетерша вытянула шею еще больше и стала совсем похожа на курицу, с любопытством рассматривающую найденного червяка и выбирающую место, куда его тюкнуть клювом.
Я мучительно пытался вспомнить вызубренные слова, но кроме дурацкого «бяшете» в голове ничего не было. В отчаянии я начал прикидывать, куда сбежать, но царь-старуха цепко держала меня за бинокль – у такой не вырвешься. Однако, оглянувшись по сторонам, я, к счастью, заметил ту самую заветную табличку на стене возле двери, и меня прорвало.
– У мамы билет, в бельэтаже! – радостно заорал я, для убедительности мотнув головой на указатель.
– Так-так… – Билетерша покачала головой, поставила меня перед собой, ухватила меня стальной рукой за плечо и ввела в зал.
– Бельэтаж, шестой ряд, места 22, 23, – пытаясь вырваться, сквозь слезы шептал я пароль, но старуха крепко держала меня за плечо, и до нее было уже не докричаться.
Когда мы дошли до середины прохода, огромная люстра под потолком уже начала меркнуть, из оркестровой ямы раздавались мяукающие звуки настраиваемых инструментов, похоже, этот звук вызвал какие-то трепетные воспоминания у моей билетерши, наверняка бывшей оперной певицы, и поэтому она пропела «Чей мальчик?» так, что ее услышал весь зал, от партера до галерки.
Я просто вижу эту картину – как в бинокль. Зрители почти все уже расселись по своим местам и теперь переговаривались, шелестя программками, однако при звуках царственного сопрано все уселись, замолчали и уставились на проход бельэтажа. Партер как один обернулся назад. Оркестр вытянул шеи из своей ямы. Балконы и галерка склонились через балюстрады. Бельэтаж сделал пол-оборота налево или направо, смотря кому как повезло усесться в тот исторический день. Люстра почти погасла, и осветители направили на меня горячие лучи своих прожекторов, а я даже не мог поднять руку для того, чтобы заслониться от их слепящего света.
– Чей ма-а-альчик? – Теперь оглушительное сопрано раздалось над моим ухом в полной тишине, и я смог лично убедиться в том, что акустика в Большом театре просто великолепная.
Я услышал.
Я услышал страшное.
Услышал свою фамилию.
Наверное, это очень почетно – стоять в лучах прожекторов в Большом и слышать свое имя, если, конечно, его скандирует публика и при этом кричит «Браво!» и «Бис!».
Но я-то стоял не на сцене, а в центральном проходе бельэтажа. И не толпа кричала «Браво, – к примеру, – Ёлкин!», а один-единственный, знакомый противный голос прошептал: «Ну конечно же Ёлкин, кто ж это еще может быть…»
А потом заскрипели два сиденья, и синхронно, словно кордебалет на сцене, отрепетированный раз двести, поднялись со своих мест одновременно: одесную от меня моя маманя, в заветном шестом ряду, и ошуюю – вы не поверите, моя математичка, ну конечно же это именно ее шепот я слышал…
Мудрый осветитель включил еще два прожектора и направил их в зал.
Покрутив головой между двумя стоящими в лучах света женщинами, билетерша поняла, что без присмотра я не останусь, отпустила мое плечо и даже подтолкнула слегка, в сторону почему-то именно учительницы, наверное, потому, что маманя старалась казаться как можно незаметнее, а математичка, деловито зa*censored*в рукава, уперла руки в бока.
– Забирайте своего ребенка…
– Ага! Милиция пусть его забирает! И вон ту *censored*ганку тоже!
Маманя молча сглотнула, и это – ах, какая акустика в Большом! – услышали все.
– Что, довоспитывались? – продолжала кричать математичка, размахивая пальцем в нашу сторону, не то на меня, не то на маманю. – Получите теперь свое чудо…
– Ну все, разобрались уже, – примирительно пропела билетерша. – Пора начинать, успокаивайтесь…
– Не затыкайте мне рот! – завизжала математичка еще громче. – Я вам все расскажу про эту психованную семейку!
Вот этого уже маманя, до сих пор смиренно переминавшаяся на непривычно высоких каблуках, выдержать не смогла.
– Да ты на себя посмотри, кто еще тут психованный, – негромко, но веско сказала она и начала выбираться со своего места, на ходу извиняясь перед зачарованно следящими за ней зрителями.
– Не пускайте ее ко мне, – запричитала математичка. – Она хочет на меня напасть!!!
– Да нужна ты мне, мочалка драная. – Маманя выбралась в проход из своего ряда и схватила меня за руку. – Пошли отсюда…
– Одну секундочку, – послышался откуда-то из темноты женский голос. – Я тут перевожу… вы сказали «драная» или «сраная»?
– Вообще-то я сказала «драная», но по зрелом размышлении… – Маманя обернулась и обвела широким взглядом рыдающую математичку, темные ряды и неосвещенную сцену, на которой вперемешку толпились половецкие войска и дружина князя Игоря. – Сраная мочалка на сраном спектакле в сраном театре…
Когда маманя, медленно оглядев зал, снова повернулась к выходу, в дверях уже стояли два сотрудника милиции.
– Вот эти две! *censored*ганят! – гордо поманила милиционеров билетерша и, хотя ошибиться было просто невозможно, для верности показала пальцем.
– Ну, раз уж такое дело, все равно в отделение, – вздохнула маманя, – то и тебе тоже скажу словечко, звезда старая. – Маманя встала на цыпочки, дотянулась до уха билетерши, что-то прошептала ей и пошла навстречу милиционерам: – Забирайте, ребята.
– Так-так, – кивала ей вслед билетерша. – Забирайте! А мы начнем, пожалуй… Все, садитесь, пожалуйста, все на свои места!
Выйдя из зала, маманя остановила милиционеров:
– Пойдемте туда, где есть телефон. Вам срочно надо позвонить, ребята…
Несмотря на рыдания математички, ее заперли в каком-то кабинете вместе с маманей. Однако, когда через десять минут сержант дозвонился куда следовало и отпер дверь, женщины вышли оттуда под ручку, словно подружки. Я скромно сидел на стуле возле двери, сложив руки на коленках, слушал, как где-то наверху вольные половцы вовсю танцуют свои пляски, и мечтал оказаться где-нибудь в Золотой Орде во времена Игоря Святославича. Увидев меня, маманя порылась в сумке, бросила мне номерок и сурово велела дожидаться ее дома, а сама потащила математичку в буфет.
Забрав пальто в раздевалке, я его застегивать не стал, не надел я и шарф. Всю дорогу домой я старательно загребал ногами снег и грыз сосульки, надеясь заработать страшную температуру, однако здоровье меня подвело – я не получил даже насморка.
Но зато по заднице я получил крепко, как только маманя, непривычно пахнущая коньяком и сигаретами, вернулась из театра. В школу я потом не ходил целую неделю, а не был бы отец в Париже, мог бы просидеть дома и целый месяц. Так что тесен-то мир тесен, но Париж все-таки далеко, и это – слава богу.
Про деньги
Помню, как в шестом классе я решил деньги зарабатывать.
На самом деле началось все с одного десятиклассника. Миха Жаров был самым популярным парнем в нашей школе. Огромный, под два метра ростом, добродушный Миха, настоящий медведь, в шестнадцать лет – уже кандидат в мастера спорта по гребле, по нему сохли все девчонки в школе, ему завидовали все пацаны.
И вдруг по школе прокатился слух, что наш кумир, наш герой Миха на зиму устроился работать дворником в своем дворе. На самом деле, конечно, дворником была оформлена его бабка, но именно Миха каждое утро разбрасывал снег. Огромными железными лопатами и ломом он размахивал с такой же легкой непринужденностью, как дети в песочнице машут своими совочками, еще больше накачивая свои огромные плечи, и так уже туго набитые тонно-километрами.
Кого-то другого за такое, наверное, стали бы дразнить, но Михе можно было все.
И у нас в школе как-то сразу круто стало козырять друг перед другом и особенно перед девчонками тем, что ты умеешь зарабатывать.
Не, ну деньги-то для парня – это всегда было важно. Но одно дело, например, играть в трясучку, экономить на школьных завтраках, выпрашивать у мамани полтинник, стырить у отца из бумажника рубль или, когда тебя посылают в магазин за килограммом сметаны, купить всего полкило и заболтать в банку еще пол-литра кефира, сэкономить на этом семьдесят копеек, а потом угощать пирожками одноклассниц. А другое дело, приглашая девчонку в кино, – небрежно обронить: «Я тут зарплату получил, пошли?»
И вот, пока ребята из нашей школы судорожно искали способы зарабатывать деньги, я придумал, что делать!
Буквально полгода назад моя любимая тетка, младшая сестра моей мамани, родила первого ребенка. Роды у нее были довольно поздние, ей было уже за тридцать пять, так что не все там было сахарно, ну и молоко у нее пропало почти сразу.
Чем кормили тогда искусственников? Никаких жидких смесей в Советском Союзе в ту пору и в помине не было, а единственная сухая смесь, продававшаяся в магазинах, была так густо пересыпана сахарным песком, что ее перед разведением обязательно надо было просеивать через мелкие ситечки, продававшиеся где-то в Прибалтике, или часами протирать через капроновые колготки – с полукилограммовой банки этой смеси набиралось граммов двести сахарного песка.
Не знаю, как в других городах, но в Москве для мамаш, у которых пропало молоко, при детских поликлиниках были так называемые молочные кухни. С семи и до десяти утра там по рецепту из поликлиники можно было получить по паре пакетиков специального молока для грудничков, по паре пакетиков кефира и по паре коробочек специального детского творожка. Не просто так получить, а по рецепту, да еще и за деньги, конечно. И вот каждое утро у этих молочных кухонь собирались толпы сонных людей, раскачивающихся на ходу что твои зомби. Беда была в том, что эти молочные кухни работали именно в то самое сладкое утреннее время, когда дети, намотылявшись за ночь, засыпали и молодые родители, надергавшись и осоловев, наконец получали возможность уснуть на часок. Ну, или когда дети только просыпались и начинали мотыляться со свежими силами, то есть дома одних их оставлять было нельзя, а одевать и тащить с собой на мороз, перетаптываться в очереди было невыносимо тяжело. Кухня работала до десяти, но уже к восьми часам рядом со входом собиралась толпа родителей, которые в этом месяце не смогли получить в поликлинике рецепт, и где-то в полдесятого все остатки молока, кефира и творога работницы кухни толкали им по завышенной спеццене, под предлогом того, что срок хранения у продуктов очень маленький. Так что опаздывать было нельзя.
И вот, походив в эту кухню для своей тетки, покрутившись среди осоловевших молодых родителей, я понял, что надо делать. Я начал предлагать самым невыспавшимся бегать на молочную кухню за них. Стандартная пайка на одного ребенка обходилась примерно в 90 копеек в день, лишние 10 копеек все равно погоды никому не делали, а я, набрав пятнадцать клиентов, уже через неделю рубил по полтора рубля в день.
Понятно, что сумки таскать приходилось тяжелые, нужно было рано утром мотаться по всему нашему району, но законные полтора рубля в день этого стоили.
Был у меня еще один дополнительный бонус – когда я звонил в дверь, мне почти всегда открывали молодые мамашки. Видимо, они вскакивали с кровати, а после моего ухода отправлялись досыпать, так что обычно они были одеты в небрежно накинутый халатик или просто появлялись в дверях, набросив какой-нибудь платок на ночнушку, все такие заспанные, все такие теплые, что мое молодое мужчинство просто-таки взлетало. Тем более что у меня перед глазами постоянно были неоспоримые доказательства того, что они трахаются – ведь не от святого же духа они родили, и вечерами я сладко вспоминал, как эти женщины выходили мне навстречу, и представлял, как когда-нибудь, когда подрасту, я какой-нибудь женщине принесу молоко и она скажет мне: «Проходи!»
В том, что я буду заниматься этим делом, даже когда подрасту, я не сомневался. Я копил деньги на велосипед, с велосипедом я смогу набрать и тридцать, и сорок клиентов. Да что там сорок. Я готов был забить на школу и постоянно подсчитывал на ходу: шестьдесят клиентов – шесть рублей в день, сто восемьдесят в месяц. Восемьдесят клиентов – восемь рублей в день, двести сорок в месяц! Какая на фиг школа!
Кончилась моя работа примерно через полтора месяца. Мои походы страшно раздражали тех, кто часами толпился возле входа. Когда я выползал из дверей, сгибаясь под тяжестью сумок, им казалось, что я обираю их, уношу то, что могло бы достаться им, если бы люди с рецептами не пришли или опоздали. Короче, кто-то из этих обездоленных нажаловался в поликлинику, и на входе появилось объявление, что больше двух рецептов в одни руки отоваривать нельзя. Я пробовал занимать очередь снова и снова, но тетки из кухни злорадно отправляли меня куда подальше, да и, отстаивая очередь по нескольку раз, я опаздывал в школу – тут уже возмутилась маманя и положила окончательный конец моему бизнесу, мол: «Зачем тебе деньги? Чего тебе не хватает? У тебя все есть!» Как я мог ей объяснить, что мне не хватало именно ощущения не выпрошенных, а заработанных денег.
Ну и, конечно, теплых заспанных женщин, открывающих мне двери в одних ночнушках…
Про 9 Мая
Когда ты школьник, каждый, тем более благопристойный, с точки зрения родителей, повод вырваться куда-нибудь из дому – на вес золота. Для моих одноклассников, измученных надзором со стороны учителей и родителей, три года подряд это был праздник 9 Мая.
В седьмом классе, в самом конце мая, под какую-то годовщину со дня рождения героя войны, имя которого с честью носила наша пионерская дружина, на паре «икарусов» нас свозили в поселок недалеко от станции Монино, откуда родом был тот орел-танкист. Мы в почетном карауле угрюмо постояли возле памятника танкисту во дворе школы, воспитавшей героя, промаршировали под барабаны от школы к дому, в котором родился орел, и там, развернув знамя дружины, дали торжественную клятву всему сбежавшемуся посмотреть на малолетних московских придурков поселку быть такими же, как орел (при этом пара бабулек, еще помнивших безусую, но, несомненно, лихую юность будущего танкиста, испуганно перекрестились: «Свят-свят!»). Потом нас отпустили ненадолго побегать в окрестностях деревни (я так думаю, чтобы приехавшие с нами директор, классные руководители и старшая пионервожатая могли спокойно выпить с дружным коллективом сельской школы). Часа через три, созвав хриплыми гудками все еще остолбенело жмущихся друг к другу пионеров, автобусы отправились обратно в Москву.
Для нас, сугубо городских детей, даже летом выезжавших только в пионерские лагеря, три часа свободы на природе оказались невообразимым открытием чудесного мира. Свобода делать что хочешь и идти куда хочешь, однако, пошатнула некоторые привычные школьные приоритеты.
Многие вещи, важные в мире большого города, такие как навык перебегать дорогу на красный свет или умение втискиваться в переполненный автобус, оказались в деревне бессмысленными. Школьные герои, чьи авторитеты зиждились на умении пробраться в метро без пятачка или украсть рогалик в соседней со школой булочной, чувствовали себя беспомощно перед пасущимся посреди луга быком. (Правда, у кровожадного на вид животного при каждом шаге под брюхом раскачивалось огромное вымя, но городские *censored*ганы никогда не были сильны в зоологии, так что угроза нападения быка для них была абсолютна реальна.)
Неожиданно оказался в лучах всеобщего внимания Костя Волков, единственный наш однокашник, который когда-то давно провел лето в деревне у далекой родни. Он бесстрашно отогнал целую стаю гусей, с грозным гоготом зажавшую пару наших девчонок по дороге на речку. На песчаном берегу реки сбросил сандалии и носки, закатал штанины до колен и вытащил из воды длиннющую пиявку. Костя был единственным, кто посмел попросить у стоявшей за забором старушки «водички попить», получил бидон молока и честно разделил его со всеми, кто решился пить прямо из бидона.
Естественно, на обратном пути в автобусах только и было разговоров что про чистый воздух, голубое небо, страшных животных и отважного Костика.
Когда мы вернулись в Москву, все снова встало на свои места, на всех навалились общественные нагрузки вперемешку с учебой, в классе продолжали верховодить старые герои, и только иногда некоторые девчонки, словно вспомнив что-то, с интересом поглядывали в сторону незаметного Кости Волкова.
Прошел почти год, и тут Костя начал потихоньку подходить к ребятам и девчонкам и, страшно выпучивая глаза, шептаться с ними о чем-то, видимо очень секретном, по сторонам они при этом оглядывались с таким видом, что никакой нормальный мальчишка не смог бы пройти мимо не прислушавшись.
Наконец, дошла очередь и до меня. Отозвав меня в сторонку на перемене, Костя Волков рассказал мне о том, что они (то есть теперь уже «мы», МЫ!! – теперь уже я тоже был в числе избранных!) собирались сделать. Поскольку в прошлом году мы, как лучшие представители пионерской дружины, съездили в Монино, родители легко поверят, что в этом году нас организованно повезут туда же. Только на 9 Мая.
А мы соберем вещи, еду, палатки, мангалы – и поедем туда сами. С НОЧЕВКОЙ! Без старших – никаких учителей, директора и тем более пионервожатой (хотя, должен признаться, тогдашняя наша пионервожатая была очень даже ничего себе, я бы с ней в поход сходил, но, впрочем, о ней потом).
Если родители спросят, почему не все идут в такой поход, надо отвечать, что выбрали самых лучших. Кто ж будет звонить в школу и спрашивать: неужели это правда, что мой ребенок самый лучший, нет ли здесь какой ошибки? Хотя тех ребят, чьи родители могли позвонить классной или директору и проверить, зачем это ученики собираются в поход, Костя не позвал. Этим несчастным конечно же было обидно, но они прекрасно знали своих родителей и понимали, что им свобода не светит.
Я был страшно горд тем, что оказался в числе избранных, поэтому долго не раздумывал и согласился. Операция «Красный следопыт» началась.
Должен напомнить еще раз, что детьми мы были сугубо городскими, да еще, по тогдашнему выражению, «из интеллигентных семей». Что это означало? Да просто к восьмому классу никто из нас ни разу не бывал на улице после одиннадцати часов вечера, за исключением, наверное, Нового года. Дач тогда почти ни у кого не было, поэтому, если кто-то выбирался на природу, это была поездка на метро в Ботанический сад, на автобусе в пионерский лагерь или всей школой на электричке для проведения пионерской военно-спортивной игры «Зарница».
Кстати, именно из «Зарницы» мы и почерпнули большинство сведений про то, что нужно брать с собой в лес – из нее, родимой, военно-спортивной, – ну конечно, и из популярных тогда пионерских фильмов вроде «Отряд Трубачева сражается». Так что, если с нами и приключилась вся эта фигня, так только потому, что ни «Зарница», ни тем более кино не научили нас реальной правде жизни.
Естественно, все время, пока мы собирали свои дурацкие рюкзаки, мы боялись, что нас спалит кто-нибудь из родителей или какой-нибудь одноклассник, которого мы с собой не позвали. Но больше всего, конечно, страшно и обидно было бы спалиться в самый последний момент, где-нибудь на станции, в ожидании электрички. Поэтому мы договорились встречаться не в своем районе, а на какой-то пустынной платформе, от любопытствующих знакомых и родственников подальше. Потом, конечно, выяснилось, что именно нужная нам электричка именно на этой платформе не останавливается – пришлось делать пару лишних пересадок, и в итоге мы приехали на свою станцию, когда уже начало смеркаться.
Автобусы ходили редко, но мы, юные оптимисты, решили, что восемнадцать километров – это фигня, тем более что если идти через поле и лес (вон туда, как нам безразлично махнули рукой), то получится гораздо меньше. Обувь у нас была совсем не спортивная, я, например, был обут в кирзовые сапоги, которые придавали мне очень мужественный вид, но для ходьбы по полю не годились. Шли мы по какой-то недавно поднятой целине, переступая через огромные валы земли, естественно, мы сдохли через пятнадцать минут, пройдя всего, наверное, километр. Тем более что рюкзаки у нас были набиты под завязку железными консервными банками. (Эх-х-х, помню, как мне потом влетело за уворованную ужасно дефицитную банку шпротов, приберегаемую маманей к Новому году.) Ну и поэтому, как только на горизонте показались деревья, мы рванули туда, решив переночевать в лесу, а утром отправиться дальше в путь, в неведомые дали.
Деревья, словно мираж, убегали от нас – к опушке, до которой было, казалось, рукой подать. Мы добирались часа два.
Но подстава оказалась в том, что между полем и лесом был неприступный ров метров двадцать шириной. Какая сволочь прорыла эту дурацкую канаву и, главное, зачем – я просто представить не могу. Но канава тянулась и налево и направо, пока хватало глаз, правда, глаз хватало не намного – потому что на дворе уже была беспросветная ночь. Мы попробовали было перейти канаву вброд, но глубина там оказалась метра полтора, то есть многим ребятам по самое горло, а вода была невыносимо холодной, так что девчонки, попробовав воду кончиками пальцев, залезать в нее категорически отказались. Протащившись вдоль берега минут двадцать, но так и не увидев никакого мостика или даже места поуже, мы решили переправляться на другой берег следующим образом: сначала парни переносят все вещи и переправляются сами, потом самый высокий, которому вода доходила до груди, перетаскивает на плечах девчонок.
То есть, как вы уже, наверное, догадались, почетная обязанность перетаскивать девчонок на своих плечах досталась именно мне. Не то чтобы я был ужасно этому рад, но я действительно оказался самым высоким и устал так, что готов был перенести на своей шее куда угодно и кого угодно, чтобы только поскорей устроиться на ночевку.
Я думаю, что все остальные ребята тоже готовы были на что угодно, потому что они все немедленно разделись, и мы за пару ходок перетащили на другой берег все вещи. Дело оставалось за малым – перенести девчонок. Я вернулся к берегу со стороны поля, но эти дуры вдруг как одна категорически отказались лезть мне на плечи.
Мне-то что прикажете делать? Я стоял по грудь в ледяной воде, я каждую секунду мог поскользнуться на илистом дне и окунуться с головой – какая у меня в тот момент могла быть сила убеждения?
Да никакой.
Я уже не помню, сколько времени мне понадобилось на то, чтобы переправить шесть дурех на другой берег. Спасло меня только то, что, поболев где-то час за меня, ребята плюнули на все, забрались поглубже в лес и развели там костер. Завидев трехметровое пламя, девчонки одна за другой сдавались и соглашались переправиться туда, где были все их вещи и еда. Правда, за последней дурехой я гонялся чуть ли не по всему полю. Побегав минут десять в темноте, я в сердцах закричал: «Да пошла ты, дура!» – и отправился к костру. Заметив это, девчонка возвратилась на берег и начала рыдать в голос, что твоя Ярославна. Послушав ее истерику, я опять забрался в воду, но, увидев меня, эта психованная снова убежала в темноту.
Этот цирк не кончился бы до утра, если бы во время одной из таких погонь эта дура не добежала бы до мостика, до которого, кстати, мы не дошли всего каких-то метров триста.
В то время как я гонялся за девчонками, ребята разобрали рюкзаки, и, когда я все-таки присоединился к компании у костра, меня ожидали кое-какие разочарования.
Во-первых, никто не догадался захватить с собой консервный нож, и вместо плотного ужина консервами «Минтай в томате» и «Завтрак охотника» пришлось хрустеть пожаренным на костре хлебом, что было конечно же ужасно вкусно, но что-то совсем не питательно. Как-бы-печеную картошку оголодавшие походники сожрали полусырой, в то время как я скакал по пашне. Обещание «завтрака назавтра» меня не устроило, поэтому я решил варить кашу. Но среди вещей не оказалось ни одного котелка или кана, а в эмалированном чайнике заваривался чай, поэтому пришлось укладываться спать на полуголодный желудок. Единственное, что утешало, – та дура, которую я пытался догнать в темноте, осталась даже без хлеба.
Укладываться спать – пожалуй, слитком сильно сказано. Естественно, спальников у нас не было, единственную, непонятно у кого позаимствованную палатку заняли девчонки, хотя как они набились вшестером в двухместное чудо, я просто не представляю. А суровым мужчинам предстояло коротать ночь, прижимаясь к костру.
Наутро, естественно, пришлось считать потери. Двое из десяти ребят проснулись с температурой, еще одного парня и одну девчонку скрутило к полудню.
На самом деле, может быть, это было к лучшему. Мы все в первый раз в жизни вырвались на такую абсолютную свободу, через пару часов ничегонеделания мы бы обязательно начали страдать какой-нибудь фигней.
А так наша поляна превратилась в походный госпиталь. Все были заняты каким-нибудь делом: или болели, или ухаживали за немощными товарищами. Девчонки впятером суетились вокруг палатки, в которой стонала наша подруга, мы крутились вокруг мужской температурящей троицы.
Повышенная активность привела к новым жертвам. Поскольку жрать хотелось всем, а вся еда, кроме консервов, была уничтожена еще ночью, решено было все-таки вскрыть банки, чего бы это ни стоило. Единственный более или менее годный для «вскрывания» инструмент нашелся – топорик. Только это был не тот топорик, который вы представили себе, это было кухонное чудо на тоненькой ручке, с култышкой на обратной стороне лезвия, да-да, та самая штука, которой хозяйки отбивают мясо. Можете догадаться, как вытянулись лица у всех присутствующих, когда парень, обещавший взять топорик, выудил это из рюкзака. Его оправдания: «Ну это же и есть топорик!» – никого не убедили. С первого взгляда было ясно, что рубить дрова или, например, отбиться от медведей такой приблудой нельзя.
Впрочем, надежда расковырять банку-другую «Завтрака охотника» оставалась.
Недолго.
При первом же ударе со всего маху по консервной банке приблуда подтвердила свое гордое наименование «топорик», ловко скользнув по жестянке и попав прямо в ногу машущего товарища. Впрочем, если бы это и вправду был настоящий топорик, удар такой силы снес бы половину пальцев, а так пострадавший отделался хоть и глубоким, но одним-единственным порезом. Кровь остановить удалось довольно быстро, но раненый вынужден был присоединиться к температурящим и теперь тоже лежал, жалобно постанывая.
Но жрать-то нам все равно хотелось. Собрав по всем карманам последние копейки, мы отправили гонцов в поселок, чтобы купить хотя бы хлеба. Ну и бинтов, конечно. И таблеток от температуры. И открывашку для консервов – обязательно!
Без рюкзаков, при ясном свете, наши засланцы слетали в поселок просто мухой, вернулись через каких-то пару часов, но вернулись практически ни с чем – по причине великого праздника Победы поселковый магазин оказался закрыт. Пару раз они попытались выпросить хоть немного хлебушка у местных жителей, но народ от них испуганно отшатывался и поесть никто не дал. Честно говоря, я понимаю тех пугливых пейзан. Хоть наши засланцы и постарались привести себя в порядок, выглядели они страшенно – все перемазанные в золе и засохшей крови, в рваных и живописно прожженных в разных местах свитерах и штанах.
Лишившись последней надежды, мы, признаюсь, загрустили, потому что будущее казалось совсем непраздничным. Вытерпеть еще день до открытия магазина без еды было просто невозможно, к тому же наши заболевшие товарищи никак не собирались выздоравливать.
Грустили мы грустили и решили отправить в деревню пару девчонок, в надежде на то, что уж им-то удастся разжалобить местных жителей.
Девчонки отсутствовали недолго, буквально через полчаса прибежали с выпученными глазами и доложили, что в нашем направлении через лес едут две милицейские машины.
Собрались мы быстро.
То есть, если не считать чайника, топорика и палатки, собирать нам было особенно нечего. Про консервы мы, честно говоря, даже и не подумали, а больше у нас с собой не было ничего. Уже через пару минут все-все-все, включая и самых-самых больных, похватав свои пустые рюкзаки, бежали к мосту. О, чудо, от моста в сторону станции через поле вела протоптанная дорога, по которой мы и рванули изо всех сил.
Время от времени мы на бегу оглядывались туда, где дымил наш брошенный костер, и буквально через несколько минут недалеко от того места, где мы переправлялись вброд, на берегу появились фигуры в форме.
Мост через канаву был узенький, пешеходный, мы понимали, что машины нас преследовать не будут. Ужасно страшно было, что милиционеры могут за нами побежать, но органы правопорядка, похоже, уже отметили великий праздник, поэтому гоняться за нами пешком им не хотелось. А может быть, они были слишком заняты дележом брошенных нами консервов, не знаю. Короче, погони не было, и мы немного сбавили скорость.
Теперь засада могла ждать нас только на самой станции, но и тут пронесло. То ли в милицейских машинах не было раций, то ли главной задачей сотрудников было предотвратить лесной пожар, и они посчитали, что миссию свою выполнили полностью. Может быть, милиционеры прикинули, что, если нас задержат, огромную кучу консервов придется возвращать. Не важно.
Главное, что возле станции нас никто не поджидал, но мы все равно не рисковали, а подходили к перрону со всей возможной осторожностью, словно настоящие лесные братья, решившие пустить под откос какой-нибудь особо ценный эшелон.
На наше счастье, электричка пришла очень быстро. Хоть мы и пытались скупой слюной оттереть самые большие пятна сажи, вид у нас был совсем не цивильный, страшный, прямо сказать, был видок.
Пока мы ехали в Москву, мы подготовили легенду, почему мы вернулись на день раньше, чем планировали. Договорились врать так: каждый температурящий стоит твердо на том, что только у него одного наутро поднялась температура и поэтому его привезла домой учительница из другого класса. Она довела его до подъезда, и, поскольку ей еще надо было возвращаться в лес к остальным походникам, она не стала подниматься к родителям, которых она и в глаза не знает, а отправилась на электричку.
Те, у кого температура держалась в норме, должны были врать, что из всех походников кто-то один из другого класса заболел, и учительница из другого класса повезла его домой, и они, верный сын или нежная дочь, соскучившись по родителям, решили вернуться домой заодно с больным. Мы посчитали, что ни ту ни другую легенду никто проверять не будет – так и получилось.