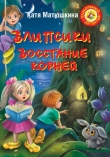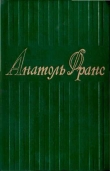Текст книги "Восстание ангелов в конце эпохи большого модерна"
Автор книги: Отто Дитрих цур Линде
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
Что предпочтительнее и доходнее в этих условиях: власть над природой или власть над обществом? Новая конфигурация Мирового Севера и Мирового Юга базируется на тесном взаимодействии, а подчас и фактическом слиянии экономических и политических функций. Трансформация собственно экономической деятельности плавно перерастает в социотопологию – особую, неолиберальную глобализацию, придающую мировому сообществу желаемую форму, закрепление и поддержание которой обеспечивается затем всеми имеющимися в распоряжении современной цивилизации средствами. При этом явственно просматривается тенденция разделения де-факто суверенитета государств на разные классы. А место утраченного идеала мирового гражданства, общества «свободы, равенства и братства» занимает, кажется, символ Великой иммиграционной стены. Так что на пороге Нового мира в глобальном сообществе стран и народов возникает парадоксальный на первый взгляд геном новой сословности XXI века и его неодемократической иерархии.
Магические лабиринты новой экономики, неоавгурическое искусство «chart reading», финансовый герметизм ставят перед нами те же проблемы, что и философские проявления постмодерна в иных областях. Подобно тому, как мы оставляем открытым вопрос о последнем значении постмодерна, нельзя заранее вынести окончательный приговор и зреющей мутации экономической модели, переходу от капитализма к посткапитализму. Постмодерн не просто отказывается от модерна, он иронично уравнивает модерн с премодерном, но с таким премодерном, который взят в качестве фрагмента и выхолощенного знака. Новая финансовая система, в которой «технический анализ» и магические спекуляции трейдеров соросовского типа будут занимать все более центральные позиции, также не исключает механизмы классического капитализма, она их вбирает в себя в снятом виде, уравнивая при этом с фрагментами экстравагантных принципов, заимствованных из совершенно иных историко-культурных и экономических контекстов. При этом весьма вероятно, что, преодолев социализм и иные, еще более архаичные формы хозяйства, новый финансовый строй в дальнейшем включит в себя отдельные, экзотические элементы, заимствованные из альтернативных экономических моделей. Нельзя априорно исключить, что на каком-то этапе посткапиталистическая реальность снова введет в моду «марксизм», как модной становится одежда 50-х, 60-х или 70-х в молодежной стилистике Нью-Вэйв. Мы стоим на пороге «чудесного нового мира», мира биржевого волшебства, герметических заклинаний брокеров, электронного движения автономного капитала. У этого мира много различных черт – гротескных, ироничных, экстравагантных, экзотических и зловещих. Однако история, которая есть бытие в действии, в своих построениях оказывается шире умозрительных конструкций, непредсказуемее политически мотивированных прогнозов. С ростом значимых для человечества видов риска все чаще возникает вопрос: не станет ли геоэкономический универсум очередной преходящей версией Нового мира, убедительной утопией, прикрывающей истинное, гораздо более драматичное развитие событий на планете? И вот уже наряду с моделью исторически продолжительного североцентричного порядка (во главе с Соединенными Штатами) с пристальным вниманием рассматривается пока еще смутный облик следующего поколения сценариев грядущего мироустройства. А их в футурологическом ящике Пандоры совсем не мало: вероятность контрнаступления мобилизационных проектов; перспективы развития глобального финансово-экономического кризиса с последующим кардинальным изменением основ социального строя; радикальный отход некоторых ядерных держав от существующих «правил игры», демонстрационное использование оружия массового поражения и растущая вероятность той или иной формы ядерного инцидента; будущая универсальная децентрализация международного сообщества…
Существуют и гораздо менее распространенные в общественном сознании ориенталистские схемы обустройства мира Постмодерна – от исламских, квазифундаменталистских проектов до конфуцианских концептов, связанных с темой приближения «века Китая». С ростом числа несостоявшихся государств проявилась также вероятность глобальной альтернативы цивилизации: возможность распечатывания запретных кодов антиистории, освобождения социального хаоса, выхода на поверхность и легитимации мирового андеграунда, утверждающего на планете причудливый строй новой мировой анархии… ХХ век уходит со сцены как великий актер, провожаемый не шквалом аплодисментов, а звуками реквиема, имеющими свою национальную окраску, для каждого Дивного Нового Мира, потерпевшего крушение. Собрания обломков, оставшихся после катастрофы, становятся лексиконами ушедшей эпохи, а люди, ведомые томлением духа, принимаются за возведение лесов для строительства очередного Дивного Нового Мира, на этот раз мира эпохи постмодерна. Век завершается, демонстрируя неведомые ранее возможности мгновенного «перемещения событий», глобального информационного мониторинга, прямой и действенной проекции властных решений практически в любой регион земли, обеспечивая единство рода человеческого уже не только в пространстве, но и в реальном времени. К тому же многие угрозы и вызовы, вставшие в полный рост перед нами на пороге третьего миллениума от Рождества Христова, также носят глобальный характер.
Возможно, однако, что сближение столь отдаленных по времени эпох содержит в себе нечто большее, чем просто внешнюю аналогию. Социальный бульон, бурлящий сейчас на планете, явно готов породить на свет новое мироустройство, открыв заново главу всемирной истории. Пружина и внутренняя логика траектории уходящего века – исчерпание исторического пространства Нового времени, фатальный кризис его цивилизационной модели. Нестабильность, изменчивость социального калейдоскопа парадоксальным образом становятся чуть ли не наиболее устойчивой характеристикой современности. Происходит интенсивная трансформация общественных институтов, изменение всей социальной, культурной среды обитания человека и параллельно – его взглядов на смысл и цели бытия.
Подобный сдвиг времен и мешанина событий, естественно, усиливают интерес к эффективному стратегическому прогнозу, повышая роль общественных наук, являясь не только социальным, но также интеллектуальным вызовом эпохи (не говоря уже о его духовном содержании). Однако вопреки ожиданиям современная теоретическая мысль продемонстрировала изрядную растерянность и неадекватность требованиям времени, упустив из поля зрения нечто качественно важное, определившее в конечном счете реальный ход событий. И тому были свои веские причины.
На протяжении ряда десятилетий общественные науки (а равно и стратегический анализ, прогноз, планирование в этой сфере) были разделены как бы на два русла. Интеллектуальная деятельность коммунистического Востока, отмеченная печатью явного утопизма, оказалась в прокрустовом ложе догмы и конъюнктуры (прикрытом к тому же пеленой расхожей мифологии и лишенных реального содержания лозунгов), а следовательно, не готовой к неординарному вызову времени. Но ведь и западная социальная наука, особенно североамериканская футурология, связанная с именами Даниела Белла и Маршалла Мак – Люена, Германа Кана и Олвина Тоффлера, Джона Несбита и Фрэнсиса Фукуямы, также в значительной степени пребывала в плену стереотипов постиндустриальной политкорректности, обобщенных в образах эгалитарной «глобальной деревни» и благостного, либерального «конца истории».
Впрочем, все эти иллюзии и клише имели единое фундаментальное основание: они являлись двумя вариантами единой идеологии Нового времени, базируясь на ее ценностных установках и парадигме прогресса. Но так уж сложилось: именно этот фундамент и подвергся существенному испытанию на прочность в конце ХХ века, именно данная концептуалистика и переживает ныне серьезный кризис. В то же время в недрах европейской по преимуществу социологии назревал серьезный поворот, связанный с критической оценкой самих начал современного общества, переходом к анализу новой реальности как самостоятельного исторического периода, эры социального Постмодерна. И что отнюдь не то же самое – к ее рассмотрению с позиций философии и культурологии постмодернизма.
В 90-е годы, после исчезновения с политической карты СССР, вопреки многочисленным прогнозам и ожиданиям глобальная ситуация отнюдь не стала более благостной. Напротив, став другой, она обнажила какие – то незалеченные раны, незаметные прежде изломы и теснины. Мир словно бы заворочался, привстал на дыбы… На фоне неумолимо приближающегося fin de millennium меркнут многие несбывшиеся мечты и ложные зори. Сохранение миропорядка становится все более актуальной, но и более трудновыполнимой задачей. Наряду с рациональным оптимизмом в духе упомянутого «окончания истории» начал приоткрываться сумеречный горизонт неизжитого, первобытного ужаса перед ее разверзающимися глубинами.
Различные интеллектуальные и духовные лидеры, влиятельные общественные фигуры от Збигнева Бжезинского до Сэмюеля Хантингтона, от папы Иоанна Павла II до современного «алхимика» Джорджа Сороса заговорили о наступлении периода глобальной смуты, о грядущем столкновении цивилизаций, о движении общества к новому тоталитаризму, о реальной угрозе демократии со стороны неограниченного в своем «беспределе» либерализма и рыночной стихии… События последнего десятилетия, когда столь обыденным для нашего слуха становится словосочетание «гуманитарная катастрофа», разрушают недавние футурологические догмы и социальные клише, предвещая весьма драматичный образ наступающего XXI века.
В XI энциклике папы Иоанна Павла II «Евангелие жизни» (март 1995года) современная цивилизация подверглась интенсивной и суровой критике как колыбель специфической «культуры смерти». Государства западного мира, констатирует Иоанн Павел II, изменили своим демократическим принципам и движутся к тоталитаризму, а демократия стала всего лишь мифом и прикрытием безнравственности. Или другой пример – если не исторического пессимизма, то отчетливой обеспокоенности. Известный, а главное, хорошо информированный финансист Джордж Сорос в статье «Свобода и ее границы», опубликованной в начале 1997 года в американском журнале «Atlantic Monthly», приходит к следующему настораживающему и для многих, вероятно, неожиданному из данных уст выводу: «Я сделал состояние на мировых финансовых рынках и тем не менее сегодня опасаюсь, что бесконтрольный капитализм и распространение рыночных ценностей на все сферы жизни ставят под угрозу будущее нашего открытого и демократического общества. Сегодня главный враг открытого общества – уже не коммунистическая, но капиталистическая угроза».
…Так что на наших глазах происходит серьезная переоценка ситуации, складывающейся на планете, пересмотр актуальных по сей день концептов, уверенно предлагавшихся еще совсем недавно прогнозов и решений, их ревизия с неклассических, фундаменталистских, радикальных, эсхатологических, экологических и качественно новых мировоззренческих позиций. Новый международный порядок постепенно начинает восприниматься не столько как оптимистичная схема грядущего мироустройства, но скорее как постмодернистская idea fixa века ХХ (не без стойкого привкуса утопизма), на протяжении всего уходящего столетия в различных обличиях смущавшая умы и охватывавшая народы.
Социальная организация предшествовавшего периода достигла своей вершины, глобализации (хотя это определение и не получило в ту пору распространения) где – то около Первой мировой войны. После которой, собственно, и возникла проблема нового порядка как по – своему неизбежная череда вариаций на тему формы и содержания новой планетарной конструкции. В ее ли версальском варианте с приложением в виде Лиги Наций; большевистской версии перманентной революции и планов создания всемирного коммунистического общества; германского краткосрочного, но глубоко врезавшегося в историческую память человечества Ordnung’а; ялтинско – хельсинкского «позолоченного периода» ХХ века, увенчанного ООН и прошедшего под знаком биполярной определенности…
И наконец, в конце века возникла устойчивая тема Нового мирового порядка с заглавной буквы в русле американоцентричных схем современной эпохи. (Отражая, впрочем, не только наличествующие тенденции истории, но и попытки подправить их политически мотивированной стратегией глобального обустройства.) «Это поистине замечательная идея – новый мировой порядок, в рамках которого народы могут объединиться друг с другом ради общей цели, для реализации единой устремленности человечества к миру и безопасности, свободе и правопорядку», – заявлял в 1991 году сорок первый президент США Джордж Буш, добавив при этом, что «лишь Соединенные Штаты обладают необходимой моральной убежденностью и реальными средствами для поддержания его (нового миропорядка. – А. Н.)». А в 1998 году на торжествах, посвященных 75-летию журнала «Тайм», нынешний, сорок второй, президент США Уильям Клинтон уточнил: «Прогресс свободы сделал это столетие Американским веком. С Божьей помощью… мы сделаем XXI век Новым Американским веком». Черта была подведена на самом краю уходящего столетия – в марте 1999 года, когда явно просел каркас политического и правового мироустройства Нового времени, определенного еще триста пятьдесят лет назад Вестфальским миром 1648 года.
Однако история, которая есть бытие в действии, в своих построениях оказывается шире умозрительных социальных конструкций, непредсказуемее политически мотивированных прогнозов. И наряду с моделью исторически продолжительного североцентричного порядка (во главе с Соединенными Штатами) сейчас с пристальным вниманием рассматривается смутный облик следующего поколения сценариев грядущего. Среди них: вероятность контрнаступления мобилизационных проектов; господство постхристианских и восточных цивилизационных схем; перспективы развития глобального финансово – экономического кризиса с последующим кардинальным изменением основ мирового строя; будущая универсальная децентрализация либо геоэкономическая реструктуризация международного сообщества… Существуют и гораздо менее распространенные в общественном сознании ориенталистские схемы обустройства мира эпохи Постмодерна – от исламских, фундаменталистских проектов до конфуцианских концептов, связанных с темой приближения «века Китая».
Зримо проявилась также вероятность глобальной альтернативы цивилизационному процессу: возможность распечатывания запретных кодов мира антиистории, освобождения социального хаоса, выхода на поверхность и легитимации мирового андеграунда.
Что касается отечественных строителей Дивного Нового Мира эпохи Постмодерна, они в очередной раз пошли «своим» путем и использовали в качестве строительных лесов лианы джунглей дикого капитализма. На вооружение из арсенала постмодерна был взят лишь принцип аморфности формы высшей власти. Новая функция старого божества, именуемого Протеем. Страна, также лишенная формы, вернулась экономически в февраль 1917, а политически к похабному Брестскому миру. Пройденный путь и достигнутый результат наиболее емко можно описать, пользуясь поэтическими метафорами Збигнева Херберта, стихом которого мы начали это введение:
Рапорт из осажденного города
Слишком стар чтоб носить оружие и сражаться как другие – назначили мне из милости маловажную роль летописца. Я записываю – для кого неизвестно – историю осады. Я должен быть точен, но не знаю когда началось нашествие: двести лет назад в декабре, сентябре, может быть, вчера на рассвете. Все тут больны потерей чувства времени. Осталось нам только место. Привязанность к месту. Еще мы удерживаем руины храмов, призраки садов и домов. Если утратим руины, не останется ничего.
Я пишу как умею в ритме бесконечных недель.
Понедельник. Склады пусты, единицей обмена стала крыса.
Вторник. Бургомистра убили какие-то неизвестные.
Cреда. Говорят о перемирии, противник интернировал послов, мы не знаем их местопребывания, то есть места казни.
Четверг. После бурного собрания большинством голосов отвергли предложение торговцев пряностями о безоговорочной капитуляции.
Пятница. Начало чумы.
Суббота. покончил самоубийством N.N. – непоколебимый защитник.
Воскресенье. Нет воды. Мы отбили штурм восточных ворот именуемых Вратами Завета. Понимаю это все монотонно. Никого не взволнует. Я избегаю комментариев, сдерживаю эмоции пишу о фактах. Кажется их только и ценят на зарубежных рынках но с известной гордостью я хотел бы поведать миру что мы воспитали благодаря войне новую разновидность детей. Наши дети не любят сказок, играют только в убийство наяву и во сне мечтают о супе, хлебе и кости, совсем как собаки и кошки вечерами. Люблю побродить по границам Города вдоль рубежей ненадежной нашей свободы. Сверху смотрю на гигантский муравейник войск их огни слушаю стук барабанов варварский визг поистине непонятно что Город все еще держится осада длится так долго враги должно быть меняются ничего у них общего кроме жажды нашей погибели готы татары шведы войска Императора полки Преображенья Господня кто их сочтет цвет их знамен меняется как лес на горизонте деликатная птичья желтизна по весне зелень багрянец зимняя чернь вечером освободившись от фактов я могу подумать о давних далеких делах например о наших союзниках за морем знаю сочувствуют искренне шлют нам муку и мешки ободренья жир и мудрые советы даже не знают что нас предали их отцы наши союзники времен второго Апокалипсиса сыновья не виноваты заслуживают благодарности и мы благодарны они не переживали долгой как вечность осады те кого коснулось несчастье всегда одиноки защитники далай-ламы курды афганские горцы сейчас когда я это пишу сторонники соглашенья получили некоторый перевес над партией непоколебимых обычная неустойчивость настроений судьбы еще решаются все больше могил все меньше защитников но оборона не сломлена мы будем стоять до конца и если Город падет и кто-то один уцелеет он понесет в себе Город по дорогам изгнанья он будет Город глядим в лицо огня и голода и смерти и в худшее из всех – в лицо измены И только наши сны не покорены.
От автора
Меня зовут Отто Дитрих цур Линде. Один из моих предков, Кристоф цур Линде, пал в кавалерийской атаке, решившей победный исход боя при Цорндорфе. Прадед с материнской стороны Ульрих Форкель погиб в Маршенуарском лесу от пули французского ополченца в последние дни 1870 года; капитан Дитрих цур Линде, мой отец, в 1914-м отличился под Намюром, а двумя годами позже – при форсировании Дуная 1. Что до меня, я буду расстрелян как изверг и палач. Суд высказался по этому поводу с исчерпывающей прямотой, я с самого начала признал себя виновным. Утром, лишь только тюремные часы пробьют девять, я вступлю во врата смерти; естественно, я думаю сейчас о своих предках, ведь я уже почти рядом с их тенями, в известном смысле я и есть они. Пока – к счастью, недолго – шел суд, я не произнес ни слова; оправдываться тогда значило бы оттягивать приговор и могло показаться трусостью. Теперь – другое дело: ночью накануне казни можно говорить, не опасаясь ничего. Я не мечтаю о прощении, поскольку не чувствую за собой вины, – я всего лишь хочу быть понят. Тот, кто сумеет меня услышать, постигнет историю Германии и будущее мира. Убежден: такие судьбы, как моя, непривычные и поразительные сегодня, завтра превратятся в общее место. Утром я умру, но останусь символом грядущих поколений. Я родился в 1908 году в Мариенбурге. Две теперь уже почти угасшие страсти – музыка и метафизика – помогли мне с достоинством и даже торжеством перенести самые мрачные годы. Не сумею перечислить всех, кому признателен, но о двоих умолчать не вправе. Это Брамс и Шопенгауэр. Многим обязан я и поэзии; прибавлю к названным еще одно широко известное германское имя – Уильям Шекспир. Вначале меня занимала теология, но от этой фантастической науки (и христианской веры как таковой) мой ум навсегда отвадили Шопенгауэр – с помощью прямых доводов, а Шекспир и Брамс – неисчерпаемым разноооразием своих миров, пусть же тот, кто, дрожа любви и благодарности, замрет, потрясенный, над тел или иным пассажем в сочинениях этих счастливцев/ знает, что и я, мерзостный, тоже замирал над ними. Году в 1927-м в мою жизнь вошли Ницше и Шпенглер. Один автор XVIII века считает, что слыть должником своих современников никому не по нраву; чтобы освободиться от гнетущего влияния, я написал статью под заглавием «Abrechnung mil Spengler»[1]1
«Расчет со Шпенглером» (нем.)
[Закрыть], в которой отметил, что самое последовательное воплощение черт, именуемых этим литератором фаустианскими, – не путанная драма Гете (Иные нации живут в полной невинности, в себе и для себя, подобно минералам или метеорам; Германия же – это всеобъемлющее зеркало вселенной, сознание мира (Weltbewusstsein). Гете – прототип этой вселенской отзывчивости. Я не критикую, но при всем желании не узнаю в нем фаустианского человека модели Шпенглера), а созданная за двадцать веков до нее поэма «De return natura»[2]2
«О природе вещей» (лат.)
[Закрыть] Тем не менее я отдал должное откровенности историософа, его истинно немецкому (kerndeutsch) воинственному духу. В 1929 году я вступил в Партию.
Не стану задерживаться на годах моего учения. Они мне достались тяжелей, чем многим; не лишенный твердости, я не создан для насилия. Однако я понял, что мы стоим на пороге новых времен, и эти времена – как некогда начальные эпохи ислама или христианства – требуют людей нового типа. Лично мне мои сотоварищи внушали только отвращение, и напрасно я уверял себя, будто ради высокой объединившей нас цели должно жертвовать всем личным. Богословы утверждают, что, стоит Господу на миг оставить попечение хотя бы вот об этой моей пишуг руке, и она тут же обратится в ничто, словно вспыхн) незримым огнем. Никто, добавлю от себя, не смог существовать, никто не сумел бы выпить воды и отломить хлеба, не будь всякий наш шаг оправдан. Для каждого это оправдание свое: я жил, ожидая беспощадной войны, которая утвердит нашу веру. И мне было достаточно знать свое место – место простого солдата этих грядущих битв. Я только боялся порой, как бы из-за трусости Англии или России все не рухнуло. Случай – или судьба? – соткали мне иное будущее: вечером первого марта 1939 года в Тильзите разразились беспорядки, о которых не сообщала пресса; в улочке за синагогой мне двумя пулями раздробило бедро, ногу пришлось ампутировать 2. Через несколько дней наши войска вступили в Богемию; когда об этом объявили сирены, я полусидел на госпитальной койке, пытаясь потонуть и забыться в томике Шопенгауэра. Символ моей бесплодной судьбы, на подоконнике дремал огромный пушистый кот.
Я перечитывал то место в «Parerga und Paralipornena», где сказано: все, что может приключиться с человеком от рождения до смерти, предрешено им самим. Поэтому всякое неведение – уловка, всякая случайная встреча – свидание, всякое унижение – раскаяние, всякий крах – тайное торжество, всякая смерть – самоубийство. Ничто так не утешает, как мысль, будто все наши несчастья добровольны; эта индивидуальная телеология обнаруживает в мире подспудный порядок и чудесно сближает нас с богами. Какой неведомый предлог (ломал я голову) заставил меня искать в тот вечер пули и увечья? Не страх перед боем, нет; уверен, причина глубже. В конце концов я, кажется, понял. Погибнуть за веру легче, нежели жить ей одною; сражаться с хищниками в Эфесе не так тяжело (ведь столько безымянных мучеников прошли через это), как стать Павлом, слугой Иисусу Христу; поступок короче человеческого века. Битва и победа – своего рода льготы; быть Наполеоном проще, чем Раскольниковым. 7 февраля 1941 года меня назначили заместителем коменданта концентрационного лагеря в Тарновицах. Служба не доставляла мне радости, но я исполнял долг. Трус проверяется под огнем; милосердие и жалость ищут темниц и чужой боли. По сути, нацизм – моральное учение, призывающее совлечь с себя прогнившую плоть ветхого человека, чтобы облечься в новую. гнившую плоть ветхого человека, чтобы облечься в новую. В бою, под окрик командиров и общий рев, это превращение испытывал каждый; иное дело – отвратный застенок, где предательская жалость искушает нас давно забытой любовью. Я не случайно пишу эти слова: жалость высшего – последний грех Заратустры. И я, признаюсь, почти совершил его, когда к нам перевели из Бреслау известного поэта Давида Иерусалема. Это был мужчина лет пятидесяти. Обойденный благами этого мира, гонимый, униженный и поруганный, он посвятил свой дар воспеванию счастья. Помнится, Альберт Зёргель в книге «Dichtung der Zeit»[3]3
«Современная поэзия» (нем.)
[Закрыть] сравнил его с Уитменом. Сближение не слишком удачное: Уитмен славит мир наперед, оптом, почти безучастно; Иерусалем радуется каждой мелочи со страстью ювелира. Он никогда не впадает в перечисления, в каталогизацию. Я и сегодня могу, строка за строкой, повторить гекзаметры его великолепного «Живописца Цзы Яна, мастера тигров», чьи стихи напоминают разводы тигровой шкуры и полнятся неисчислимыми и безмолвными пересекающими их тиграми. Не забыть мне и монолога «Розенкранц беседует с ангелом», где лондонский процентщик XVI века пытается на смертном одре вымолить отпущение грехов и не знает, что втайне оправдан, внушив одному из клиентов (которого и видел-то всего раз и, конечно, не помнит) образ Шейлока. Мужчина с незабываемыми глазами, пепельным лицом и почти черной бородой, Давид Иерусалем выглядел типичным сефардом, хоть и принадлежал к ничтожным и бесправным ашкенази. Я был с ним строг, не поддаваясь ни сочувствию, ни уважению к его славе. Я давно понял, что адом может стать все: лицо, слово, компас, марка сигарет в состоянии свести с ума, если нет сил вычеркнуть их из памяти. Разве не безумец тот, кто днем и ночью видит перед собой карту Венгрии? Я применил этот принцип к дисциплинарному режиму в нашем лагере и…3 К концу 1942 года Иерусалем сошел с ума, 1 марта 1943-го он покончил с собой 4. Не знаю, понял ли Иерусалем, что я убил его, убивая в себе жалость. Для меня он не был ни человеком, ни даже евреем; он стал символом всего, что я ненавидел в своей душе. Я пережил вместе с ним агонию, я умер вместе с ним, я в каком-то смысле погубил себя вместе с ним; так я сделался неуязвимым.
А над нами проносились великие дни и великие ночи военных удач. Мы вдыхали воздух, пьянивший, как любовь. Сердце замирало от ужаса и восторга, словно захлестнутое прибоем. Все в ту пору было иным, новым, даже сны. (Может быть, я просто никогда не знал настоящего счастья, а бедам, как известно, нужен свой потерянный рай.) Не было тогда человека, который не вбирал бы жизнь полной грудью, дорожа всем, что только способен вместить и перечувствовать; и не было таких, кто не страшился бы потерять это бесценное сокровище. Но моему поколению предстояло пережить все: сначала – победу, потом – гибель. В октябре – ноябре 1942 года во втором бою у Эль Аламейна пал в египетских песках мой брат Фридрих; несколько месяцев спустя воздушный налет стер с лица земли наш родовой особняк; другой в конце 43-го – мою лабораторию. Осажденный всем миром, погибал Третий рейх: он был один против всех, и все – против него. И тогда случилось то, что я, кажется, осознал только теперь. Я верил, будто способен испить чашу гнева, но обнаружил на дне неожиданный вкус – странный, почти пугающий вкус счастья. «Я рад поражению, – думалось мне, – поскольку втайне чувствую себя виновным и только так могу искупить содеянное». «Я рад поражению, – думалось мне, – потому что конец близок и у меня нет больше сил». «Я рад поражению, – думалось мне, – поскольку оно настало, поскольку им проникнуто все, что было, есть и будет, поскольку исправлять или оплакивать случившееся – значит покушаться на ход вещей». Я перебирал эти объяснения, пока не пришел к единственно верному.
Давно сказано, что люди рождаются на свет последователями либо Аристотеля, либо Платона. Иными словами, всякий более или менее отвлеченный спор входит в давнюю и бесконечную полемику Аристотеля и Платона; через века и пространства сменяются имена, наречия, лица, но не извечные противники. Эта скрытая преемственность есть и в истории народов. Громя в болотной грязи легионы Вара, Арминий не думал, что закладывает основы Германской империи; переводя Библию, Лютер не подозревал, что выковывает народ, который уничтожит Библию навсегда; настигнутый русской пулей в 1758 году, Кристоф цур Линде в каком-то смысле предвозвестил наши победы в 1914-м. Гитлер считал, что сражается ради одной страны, а сражался во имя всех, даже тех, кого преследовал и ненавидел. И не важно, что сам он не ведал об этом: это знала его кровь, его воля. Мир погибал от засилья евреев и порожденного ими недуга – веры в Христа; мы привили ему беспощадность и веру в меч. Теперь этот меч обратился против нас, и мы подобны искуснику, соткавшему лабиринт и обреченному блуждать в нем до конца дней, или царю Давиду, осудившему чужака и обрекшему его на смерть, но вдруг в озарении слышащему: «Этот человек – ты». Чтобы воздвигнуть новый порядок, нужно многое разрушить; теперь мы знаем, что среди этого многого – наша Германия. Мы пожертвовали не просто жизнью: мы пожертвовали судьбой любимой Отчизны. Пусть другие клянут и плачут; моя радость в том, что наша жертва не знает пределов и не имеет равных.
Сегодня на землю нисходит безжалостная эпоха. Ее выковали мы – мы, павшие первыми. Разве дело в том, что Англия послужит молотом, а мы – наковальней? Главное, на земле будет царить сила, а не рабий христианский страх. Если победа, неподсудность и счастье не на стороне Германии, пусть они достаются другим. Да будет благословен рай, даже если нам уготован ад. Я всматриваюсь в зеркало, чтобы понять, кто я и каким стану через несколько часов перед лицом смерти. Плоть моя может содрогнуться, я – нет.