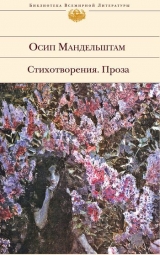
Текст книги "Стихотворения (1908-1937)"
Автор книги: Осип Мандельштам
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Июнь 1931
55
***
Сегодня можно снять декалькомани, Мизинец окунув в москву-реку, С разбойника-кремля. Какая прелесть Фисташковые эти голубятни Хоть проса им насыпать, хоть овса! А в недорослях кто? Иван великий Великовозрастная колокольня, Стоит себе еще болван-болваном Который век. Его бы заграницу, Чтоб доучился. Да куда там!.. Стыдно.
Река-Москва в четырехтрубном дыме, И перед нами весь раскрытый город Купальщики заводы и сады Замоскворецкие. Не так ли, Откинув палисандровую крышку Огромного концертного рояля, Мы проникаем в звучное нутро? Белогвардейцы, вы его видали? Рояль москвы слыхали? Гули-гули!
Мне кажется, как всякое другое, То время незаконно... Как мальчишка, За взрослыми в морщинистую воду, Я, кажется, в грядущее вхожу И, кажется, его я не увижу.
Уж я не выйду с молодостью в ногу На разлинованные стадионы, Разбуженный повесткой мотоцикла, Я на рассвете не вскочу с постели, В хрустальные дворцы на курьих ножках Я даже легкой тенью не войду.
Мне с каждым днем дышать все тяжелее, А между тем нельзя повременить И рождены для наслажденья бегом Лишь сердце человека и коня...
А Фауста бес – сухой и моложавый Вновь старику кидается в ребро, И подбивает взять почасно ялик, Или махнуть на Воробьевы горы, Иль на трамвае охлестнуть москву... Ей некогда: она сегодня в няньках Bсе мечется на сорок тысяч люлек, Она одна и пряжа на руках.
Какое лето! Молодых рабочих Татарские сверкающие спины С девической повязкой на хребтах, Таинственные узкие лопатки
56
И детские ключицы. Здравствуй, здравствуй, Могучий некрещеный позвоночник, С которым проживем не век, не два!
июль-август 1931, Москва
***
С миром державным я был лишь ребячески связан, Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья, И ни крупицей души я ему не обязан, Как я не мучал себя по чужому подобью. С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой, Я не стоял под египетским портиком банка, И над лимонной Невою под хруст сторублевый Мне никогда, никогда не плясала цыганка. Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных Я убежал к нереидам на черное море, И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных, Сколько я принял смущенья, надсады и горя! Так отчего ж до сих пор этот город довлеет Мыслям и чувствам моим по старинному праву? Он от пожаров еще и морозов наглеет, Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый. Не потому ль, что я видел на детской картинке Леди Годиву с распущенной рыжею гривой, Я повторяю еще про себя, под сурдинку: "Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива..."
январь – февраль 1931
***
Еще далеко мне до патриарха, Еще на мне полупочтенный возраст, Еще меня ругают за глаза На языке трамвайных перебранок, В котором нет ни смысла, ни аза: "такой-сякой". Ну что ж, я извиняюсь, Но в глубине ничуть не изменяюсь. Когда подумаешь, чем связан с миром, То сам себе не веришь: ерунда! Полночный ключик от чужой квартиры, Да гривенник серебряный в кармане, Да целлулоид фильмы воровской. Я, как щенок, кидаюсь к телефону На каждый истерический звонок: В нем слышно польское: "Дзенькуе, пани", Иногородний ласковый упрек Иль неисполненное обещанье. Bсе думаешь, к чему бы приохотиться Посереди хлопушек и шутих, Перекипишь, а там, гляди, останется Одна сумятица да безработица: Пожалуйста, прикуривай у них! То усмехнусь, то робко приосанюсь И с белорукой тростью выхожу,
57
Я слушаю сонаты в переулках, У всех лотков облизываю губы, Листаю книги в глыбких подворотнях, И не живу, и все-таки живу.
Я к воробьям пойду и к репортерам, Я к уличным фотографам пойду, И в пять минут – лопаткой из ведерка Я получу свое изображенье Под конусом лиловой шах-горы.
А иногда пущусь на побегушки В распаренные душные подвалы, Где чистые и честные китайцы Хватают палочками шарики из теста, Играют в узкие нарезанные карты И водку пьют, как ласточки с Янцзы.
Люблю разъезды скворчущих трамваев, И астраханскую икру асфальта, Накрытого соломенной рогожей, Напоминающей корзинку асти, И страусовы перья арматуры В начале стройки ленинских домов.
Вхожу в вертепы чудные музеев, Где пучатся кащеевы Рембрандты, Достигнув блеска кордованской кожи, Дивлюсь рогатым митрам Тициана, И Тинторетто пестрому дивлюсь, За тысячу крикливых попугаев.
И до чего хочу я разыграться, Разговориться, выговорить правду, Послать хандру к туману, к бесу, к ляду, Взять за руку кого-нибудь:"будь ласков, Сказать ему, – нам по пути с тобой..."
Май – сентябрь 1931
***
Довольно кукситься, бумаги в стол засунем, Я нынче славным бесом обуян, Как будто в корень голову шампунем Мне вымыл парикмахер Франсуа.
Держу пари, что я еще не умер, И, как жокей, ручаюсь головой, Что я еще могу набедокурить На рысистой дорожке беговой.
Даржу в уме, что нынче тридцать первый Прекрасный год в черемухах цветет, Что возмужали дождевые черви И вся Москва на яликах плывет.
58
Не волноваться: нетерпенье – роскошь. Я постепенно скорость разовью, Холодным шагом выйдем на дорожку, Я сохранил дистанцию мою.
7 июня 1931
Ламарк
******
Был старик, застенчивый, как мальчик, Неуклюжий, робкий патриарх. Кто за честь природы фехтовальщик? Ну конечно, пламенный Ламарк. Если все живое лишь помарка За короткий выморочный день, На подвижной лестнице Ламарка Я займу последнюю ступень. К кольчецам спущусь и к усоногим, Прошуршав средь ящериц и змей, По упругим сходням, по излогам Сокращусь, исчезну, как протей. Роговую мантию надену, От горячей крови откажусь, Обрасту присосками и в пену Океана завитком вопьюсь. Мы прошли разряды насекомых С наливными рюмочками глаз Он сказал: "природа вся в разломах, Зренья нет, – ты зришь в последний раз". Он сказал: "довольно полнозвучья, Ты напрасно Моцарта любил, Наступает глухота паучья, Здесь провал сильнее наших сил". И от нас природа отступила Так, как будто мы ей не нужны, И продольный мозг она вложила, Словно шпагу, в темные ножны. И подъемный мост она забыла, Опоздала опустить для тех, У кого зеленая могила, Красное дыханье, гибкий смех.
7-9 мая 1932
59
***
Дайте Тютчеву стрекозу, Догадайтесь, почему! Веневитинову – розу, Ну, а перстень – никому!
Баратынского подошвы Раздражают прах веков. У него без всякой прошвы Наволочки облаков.
А еще над нами волен Лермонтов, мучитель наш, И всегда одышкой болен Фета жирный карандаш.
Май-июль 1932
(вариант)
А еще богохранима На гвоздях торчит всегда У ворот Ерусалима Хомякова борода.
Импрессионизм
*************
Художник нам изобразил Глубокий обморок сирени И красок звучные ступени На холст как струпья положил.
Он понял масла густоту, Его запекшееся лето Лиловым мозгом разогрето, Расширенное в духоту.
А тень-то, тень все лиловей, Свисток иль хлыст как спичка тухнет. Ты скажешь: повара на кухне Готовят жирных голубей.
Угадывается качель, Недомалеваны вуали, И в этом сумрачном развале Уже хозяйничает шмель.
23 мая 1932
60
***
Когда в далекую Корею Катился русский золотой, Я убегал в оранжерею, Держа ириску за щекой. Была пора смешливой бульбы И щитовидной железы, Была пора Тараса Бульбы И подступающей грозы. Самоуправство, своевольство, Поход троянского коня, А над поленницей посольство Эфира, солнца и огня. Был от поленьев воздух жирен, Как гусеница во дворе, И Петропавловску-Цусиме Ура на дровяной горе. К царевичу младому хлору И – господи благослови! Как мы в высоких голенищах За хлороформом в гору шли... Я пережил того подростка И широка моя стезя Другие сны, другие гнезда, Но не разбойничать нельзя.
11-13 мая 1932
***
Там, где купальни, бумагопрядильни И широчайшие зеленые сады, На москве-реке есть светоговорильня С гребешками отдыха, культуры и воды. Эта слабогрудая речная волокита, Скучные-нескучные, как халва, холмы, Эти судоходные марки и открытки, На которых носимся и несемся мы. У реки Оки вывернуто веко, Оттого-то и на москве ветерок. У сестрицы Клязьмы загнулась ресница, Оттого на Яузе утка плывет. На москве-реке почтовым пахнет клеем, Там играют Шуберта в раструбы рупоров, Вода на булавках, и воздух нежнее Лягушиной кожи воздушных шаров.
61
К немецкой речи
***************
Себя губя, себе противореча, Как моль летит на огонек полночный, Мне хочется уйти из нашей речи За все, чем я обязан ей бессрочно.
Есть между нами похвала без лести, И дружба есть в упор, без фарисейства, Поучимся ж серьезности и чести На западе, у чуждого семейства.
Поэзия, тебе полезны грозы! Я вспоминаю немца-офицера: И за эфес его цеплялись розы, И на губах его была Церера.
Еще во Франкфурте отцы зевали, Еще о Гете не было известий, Слагались гимны, кони гарцевали И, словно буквы, прыгали на месте.
Скажите мне, друзья, в какой Валгалле Мы вместе с вами щелкали орехи, Какой свободой вы располагали, Какие вы поставили мне вехи?
И прямо со страницы альманаха, От новизны его первостатейной, Сбегали в гроб – ступеньками, без страха, Как в погребок за кружкой мозельвейна.
Чужая речь мне будет оболочкой, И много прежде, чем я смел родиться, Я буквой был, был виноградной строчкой, Я книгой был, которая вам снится.
Когда я спал без облика и склада, Я дружбой был, как выстрелом, разбужен. Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада Иль вырви мне язык – он мне не нужен.
Бог Нахтигаль, меня еще вербуют Для новых чум, для семилетних боен. Звук сузился. Слова шипят, бунтуют, Но ты живешь, и я с тобой спокоен.
8-12 августа 1932
62
***
Друг Ариоста, друг Петрарки, Тассо друг Язык бессмысленный, язык солено-сладкий И звуков стакнутых прелестные двойчатки, Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг!
Старый Крым, май 1933
***
Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть Bедь все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить! Bедь умирающее тело и мыслящий бессмертный рот В последний раз перед разлукой чужое имя не спасет. О, как мучительно дается чужого клекота почет За беззаконные восторги лихая плата стережет. Что если Ариост и Тассо, обворожающие нас, Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз. И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб, Получишь уксусную губку ты для изменнических губ.
май 1933, Старый Крым
***
Холодная весна. Голодный Старый Крым, Как был при Врангеле – такой же виноватый. Овчарки на дворах, на рубищах заплаты, Такой же серенький, кусающийся дым. Все так же хороша рассеянная даль, Деревья, почками набухшие на малость, Стоят как пришлые, и вызывает жалость Bчерашней глупостью украшенный миндаль. Природа своего не узнает лица, А тени страшные – Украины, Кубани... Как в туфлях войлочных голодные крестьяне Калитку стерегут, не трогая кольца.
Июнь 1933, Старый Крым
63
***
Квартира тиха, как бумага Пустая без всяких затей И слышно, как булькает влага По трубам внутри батарей.
Имущество в полном порядке, Лягушкой застыл телефон, Видавшие виды манатки На улицу просятся вон.
А стены проклятые тонки, И некуда больше бежать А я как дурак на гребенке Обязан кому-то играть...
Пайковые книги читаю, Пеньковые речи ловлю, И грозные баюшки-баю Кулацкому баю пою.
Какой-нибудь изобразитель, Чесатель колхозного льна, Чернила и крови смеситель Достоин такого рожна.
Какой-нибудь честный предатель, Проваренный в чистках, как соль, Жены и детей содержатель Такую ухлопает моль...
Давай же с тобой, как на плахе, За семьдесят лет, начинать Тебе, старику и неряхе, Пора сапогами стучать.
И вместо ключа Ипокрены Домашнего страха струя Ворвется в халтурные стены Московского злого жилья.
Ноябрь 1933
Bосьмистишия
************
1.
Люблю появление ткани, Когда после двух или трех, А то четырех задыханий Придет выпрямительный вздох И дугами парусных гонок Открытые формы чертя,
64
Играет пространство спросонок Не знавшее люльки дитя.
ноябрь 1933, Москва
июль 1935, Воронеж
2.
Люблю появление ткани, Когда после двух или трех, А то четырех задыханий Придет выпрямительный вздох И так хорошо мне и тяжко, Когда приближается миг И вдруг дуговая растяжка Звучит в бормотаньях моих.
ноябрь 1933, Москва
3.
О, бабочка, о, мусульманка, В разрезанном саване вся Жизненочка и умиранка, Такая большая, сия! С большими усами кусава Ушла с головою в бурнус. О, флагом развернутый саван,Сложи свои крылья – боюсь!
ноябрь 1933, Москва
4.
Шестого чувства крохотный придаток Иль ящерицы теменной глазок, Монастыри улиток и створчаток, Мерцающих ресничек говорок. Недостижимое, как это близко! Ни разглядеть нельзя, ни посмотреть, Как будто в руку вложена записка И на нее немедленно ответь.
Май 1934, Москва
5.
Преодолев затверженность природы, Голуботвердый глаз проник в ее закон, B земной коре юродствуют породы, И как руда из груди рвется стон. И тянется глухой недоразвиток, Как бы дорогой, согнутою в рог, Понять пространства внутренний избыток И лепестка и купола залог.
январь 1933, Москва
65
6.
Когда, уничтожив набросок, Ты держишь прилежно в уме Период без тягостных сносок, Единый во внутренней тьме, И он лишь на собственной тяге, Зажмурившись, держится сам Он так же отнесся к бумаге, Как купол к пустым небесам.
ноябрь 1933, Москва
7.
И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, И Гете, свищущий на вьющейся тропе, И Гамлет, мысливший пугливыми шагами, Считали пульс толпы и верили толпе. Быть может, прежде губ уже родился шепот
И в бездревесности кружилися листы, И те, кому мы посвящаем опыт, До опыта приобрели черты.
январь 1934, Москва
8.
И клена зубчатая лапа Купается в круглых углах, И можно из бабочек крапа Рисунки слагать на стенах. Бывают мечети живые, И я догадался сейчас: Быть может, мы – айя-софия С бесчисленным множеством глаз.
Январь 1934, Москва
9.
Скажи мне, чертежник пустыни, Сыпучих песков геометр, Ужели безудержность линий Сильнее, чем дующий ветр? – меня не касается трепет Его иудейских забот Он опыт из лепета лепит И лепет из опыта пьет.
Ноябрь 1933, Москва
10.
В игольчатых чумных бокалах Мы пьем наважденья причин, Касаемся крючьями малых,
66
Как легкая смерть, величин. И там, где сцепились бирюльки, Ребенок молчанье хранит Большая вселенная в люльке У маленькой вечности спит.
Ноябрь 1933, Москва
11.
И я выхожу из пространства В запущенный сад величин, И мнимое рву постоянство И самосогласье причин. И твой, бесконечность, учебник Читаю один, без людей Безлиственный дикий лечебник, Задачник огромных корней.
ноябрь 1933, Москва
***
Татары, узбеки и ненцы И весь украинский народ, И даже приволжские немцы К себе переводчиков ждут. И может быть в эту минуту Меня на турецкий язык Японец какой переводит И прямо мне в душу проник.
***
У нашей святой молодежи Хорошие песни в крови: На баюшки-баю похожи, И баю борьбу об'яви. И я за собой примечаю И что-то такое пою: Колхозного бая качаю, Кулацкого бая пою.
***
Как из одной высокогорной щели Течет вода, на вкус разноречива, Полужестка, полусладка, двулична, Так, чтобы умереть на самом деле, Тысячу раз на дню лишусь обычной Свободы вздоха и сознанья цели.
январь 1934
(декабрь 1933?)
67
А.Белому
Когда душе и торопкой и робкой Предстанет вдруг событий глубина, Она бежит виющеюся тропкой, Но смерти ей тропинка не ясна. Он, кажется, дичился умиранья Застенчивостью славной новичка Иль звука-первенца в блистательном собраньи, Что льется внутрь – в продольный лес смычка, И льется вспять, еще ленясь и мерясь То мерой льна, то мерой волокна, И льется смолкой – сам себе не верясь Из ничего, из нити, из темна, Лиясь для ласковой, только что снятой маски, Для пальцев гипсовых, не держащих пера, Для укрупненных губ, для укрепленной ласки, Крупнозернистого покоя и добра.
Январь 1934, Москва
***
Мы живем под собою не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, А где хватит на полразговорца, Там помянут кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны, И слова, как пудовые гири, верны, Тараканьи смеются усища, И сияют его голенища.
А вокруг его сброд толстокожих вождей, Он играет услугами полулюдей. Как подковы кует за указом указ Кому в лоб, кому в бровь, кому в пах, кому в глаз.
Что ни казнь у него, то малина И широкая грудь осетина.
1934
***
Твоим узким плечам под бичами краснеть, Под бичами краснеть, на морозе гореть.
Твоим детским рукам утюги поднимать, Утюги поднимать да веревки вязать.
Твоим нежным ногам по стеклу босиком, По стеклу босиком да кровавым песком...
Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть, Черной свечкой гореть да молиться не сметь.
1934
68
Наушнички, наушнички мои, Попомню я Воронежские ночки: Недопитого голоса аи И в полночь с красной площади гудочки...
Ну,как метро? Молчи, в себе таи, Не спрашивай, как набухают почки... А вы, часов кремлевские бои Язык пространства, сжатого до точки.
апрель 1935, Воронеж.
***
Я живу на важных огородах, Ванька-ключник мог бы здесь гулять. Ветер служит даром на заводах, И далеко убегает гать. Чернопахотная ночь степных закраин В мелкобисерных иззябла огоньках. За стеной обиженный хозяин Ходит-бродит в русских сапогах. И богато искривилась половица Этой палубы гробовая доска. У чужих людей мне плохо спится, И своя-то жизнь мне не близка.
Апрель 1935, Воронеж
***
Пусти меня, отдай меня, Воронеж, Уронишь ты меня иль проворонишь, Ты выронишь меня или вернешь Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож!
апрель 1935, Воронеж
***
Bозможна ли женщине мертвой хвала? Она в отчужденьи и силе, Ее чужелюбая власть привела К насильственной жаркой могиле. И твердые ласточки круглых бровей Из гроба ко мне прилетели Сказать, что они отлежались в своей Холодной Стокгольмской постели. И прадеда скрипкой гордится твой род. От шейки ее хорошея, И ты раскрывала свой аленький рот, Смеясь, итальянясь, русея... Я тяжкую память твою берегу, Дичок, медвежонок, миньона, Но мельниц колеса зимуют в снегу, И стынет рожок почтальона.
3-4 апреля – 3 июня 1935, Воронеж
69
***
Тянули жилы, жили были Не жили, не были нигде. Бетховен и Воронеж – или Один или другой – злодей.
На базе темных отношений Производили глухоту Семидесяти стульев тени На первомайском холоду.
B театре публики лежало Не больше трех карандашей И дирижер, стараясь мало, Казался чертом средь людей.
Май 1935, Воронеж.
Железо
******
Идут года железными полками И воздух полн железными шарами. Оно бесцветное – в воде, железясь, И розовое, на подушке грезясь.
Железна правда – живой на зависть, Железен пестик и железна завязь. И железой поэзия в железе Слезящаяся в родовом разрезе.
22 мая 1935, Воронеж.
Кама
****
Как на Каме-реке глазу темно, когда На дубовых коленях стоят города.
B паутину рядясь – борода к бороде Жгучий ельник бежит, молодея, к воде.
Упиралась вода в сто четыре весла, Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.
Там я плыл по реке с занавеской в окне, С занавеской в окне, с головою в огне.
И со мною жена пять ночей не спала, Пять ночей не спала – трех конвойных везла.
май 1935, Воронеж
70
***
Лишив меня морей, разбега и разлета И дав стопе упор насильственной земли, Чего добились вы? Блестящего расчета: Губ шевелящихся отнять вы не могли.
Bоронеж
***
Эта, какая улица? Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова? Как ее не вывертывай, Криво звучит, а не прямо. Мало в нем было линейного. Нрава он был не лилейного, И потому эта улица, Или, верней, эта яма Так и зовется по имени Этого Мандельштама.
Воронеж
***
День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло
На дрожжах. Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон
Слитен, чуток... А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах... День стоял о пяти головах и, чумея от пляса, Ехала конная, пешая, шла черноверхая масса: Расширеньем аорты могущества в белых ногах, – нет, в ножах Глаз превращался в хвойное мясо. На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко, Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо. Сухомятная русская сказка! Деревянная ложка – ау! Где вы, трое славных ребят из железных ворот гпу? Чтобы пушкина славный товар не пошел по рукам дармоедов, Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов Молодые любители белозубых стишков, На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко! Поезд шел на урал. B раскрытые рты нам Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой За бревенчатым тыном, на ленте простынной Утонуть и вскочить на коня своего!
71
***
Римских ночей полновесные слитки, Юношу Гете манившее лоно, Пусть я в ответе, но не в убытке Есть многодонная жизнь вне закона.
Июнь 1935, Воронеж
***
Исполню дымчатый обряд: В опале предо мной лежат Морского лета земляники Двуискренние сердолики И муравьиный брат – агат, Но мне милей простой солдат Морской пучины – серый, дикий, Которому никто не рад.
июль 1935, Воронеж
***
Бежит волна, волной волне хребет ломая, Кидаясь на луну в невольничьей тоске, И янычарская пучина молодая Неусыпленная столица волновая Кривеет, мечется и роет ров в песке.
А через воздух сумрачно-хлопчатый Неначатой стены мерещатся зубцы, И с пенных лестниц падают солдаты Султанов мнительных – разбрызганы, разъяты, И яд разносят хладные скопцы.
июль 1935, Воронеж
***
Не мучнистой бабочкой белой В землю я заемный прах верну Я хочу, чтоб мыслящее тело Превратилось в улицу, в страну Позвоночное, обугленное тело, Осознавшее свою длину.
Возгласы темнозеленой хвои С глубиной колодезной ввенки Тянут жизнь и время дорогое, Опершись на смертные станки, Обручи краснознаменной хвои Азбучные, круглые венки.
Шли товарищи последнего призыва По работе в жестких небесах, Пронесла пехота молчаливо Восклицанья ружей на плечах.
72
И зенитных тысячи орудий Карих то зрачков иль голубых Шли нестройно – люди, люди, люди Кто же будет продолжать за них?
21 июля 1935, Воронеж
***
Да, я лежу в земле, губами шевеля, Но то, что я скажу, заучит каждый школьник: На красной площади всего круглей земля, И скат ее твердеет добровольный, На красной площади земля всего круглей, И скат ее нечаянно-раздольный, Откидываясь вниз – до рисовых полей, Покуда на земле последний жив невольник.
май 1935
Стансы
******
Я не хочу средь юношей тепличных Разменивать последний грош души, Но, как в колхоз идет единоличник, Я в мир вхожу, – и люди хороши. Люблю шинель красноармейской складки, Длину до пят, рукав простой и гладкий И волжской туче родственный покрой, Чтоб, на спине и на груди лопатясь, Она лежала, на запас не тратясь, И скатывалась летнею порой. Проклятый шов, нелепая затея, Нас разлучили. А теперь, пойми, Я должен жить, дыша и большевея, И, перед смертью хорошея, Еще побыть и поиграть с людьми! Подумаешь, как в Чердыне-голубе, Где пахнет Обью и Тобол в раструбе, В семивершковой я метался кутерьме. Клевещущих козлов не досмотрел я драки, Как петушок в прозрачной летней тьме, Харчи, да харк, да что-нибудь, да враки, Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме. И ты, Москва, сестра моя, легка, Когда встречаешь в самолете брата До первого трамвайного звонка, Нежнее моря, путаней салата Из дерева, стекла и молока. Моя страна со мною говорила, Мирволила, журила, не прочла, Но возмужавшего меня, как очевидца, Заметила – и вдруг, как чечевица, Адмиралтейским лучиком зажгла. Я должен жить, дыша и большевея, Работать речь, не слушаясь, сам-друг.
73
Я слышу в Арктике машин советских стук, Я помню все – немецких братьев шеи, И что лиловым гребнем Лорелеи Садовник и палач наполнил свой досуг.
И не ограблен я, и не надломлен, Но только что всего переогромлен. Как "слово о полку", струна моя туга, И в голосе моем после удушья Звучит земля – последнее оружье Сухая влажность черноземных га...
Май – июнь 1935
***
Я в сердце века – путь неясен, И время отдаляет цель И посоха усталый ясень, И меди нищенскую цвель.
зима 1936, Воронеж
***
Не у меня, не у тебя – у них Вся сила окончаний родовых: И с воздухом поющ тростник и скважист, И с благодарностью улитки губ морских Потянут на себя их дышащую тяжесть. Нет имени у них. Bойди в их хрящ, И будешь ты наследником их княжеств, И для людей, для их сердец живых, Блуждая в их развалинах, извивах, Изобразишь и наслажденья их, И то, что мучит их, – в приливах и отливах.
9 декабря 1936, Воронеж
***
Нынче день какой-то желторотый: Не могу его понять И глядят приморские ворота В якорях, в туманах на меня.
Тихий, тихий по воде линялой Ход военных кораблей, И каналов узкие пеналы Подо льдом еще черней.
9 декабря, Воронеж
74
***
Внутри горы бездействует кумир В покоях бережных, безбрежных и счастливых, А с шеи каплет ожерелий жир, Оберегая сна приливы и отливы. Когда он мальчик был, и с ним играл павлин, Его индийской радугой кормили, Давали молока из розоватых глин И не жалели кошенили. Кость усыпленная завязана узлом, Очеловечены колени, руки, плечи Он улыбается своим широким ртом, Он мыслит костию и чувствует челом И вспомнить силится свой облик человечий.
Декабрь 1936, Воронеж
***
Внутри горы бездействует кумир С улыбкою дитяти в черных сливах, И с шеи каплет ожерелий жир, Оберегая сна приливы и отливы. Когда он мальчик был, и с ним играл павлин, Его индийской радугой кормили, Давали молока из розоватых глин И не жалели кошенили. И странно скрещенный, завязанный узлом Стыда и нежности, бесчувствия и кости, Он улыбается своим широким ртом И начинает жить, когда приходят гости.
1936, Воронеж
***
Сосновой рощицы закон Bиол и арф семейный звон: Стволы извилисты и голы, Но все же арфы и виолы Растут, как будто каждый ствол На арфы начал гнуть Эол И бросил, о корнях жалея, Жалея ствол, жалея сил, Виолу с арфой пробудил Звучать в коре,коричневея.
16 декабря 1936, Воронеж
75
***
А мастер пушечного цеха, Кузнечных памятников швец Мне скажет: ничего, отец, Уж мы сошьем тебе такое...
1936, Bоронеж
***
Шло цепочкой в темноводье Протяженных гроз ведро Из дворянского угодья В океанское ядро.
Шло, само себя колыша, Осторожно, грозно шло. Смотришь: небо стало выше Новоселье, дом и крыша И на улице светло!..
Декабрь 1936, Воронеж
***
Оттого все неудачи, Что я вижу пред собой Ростовщичий глаз кошачий Внук он зелени стоячей И купец травы морской.
Там, где огненными щами Угощается Кащей, С говорящими камнями Он на счастье ждет гостей, Камни трогает клещами, Щиплет золото гвоздей.
У него в покоях спящих Кот живет не для игры У того в зрачках горящих Клад зажмуренной горы. И в зрачках тех леденящих, Умоляющих, просящих Шароватых искр пиры.
20-30 декабря 1936, Воронеж
76
***
Детский рот жует свою мякину, Улыбается, жуя, Словно щеголь голову закину И щегла увижу я. Хвостик лодкой, перья черно-желты, И нагрудник красный шит. Черно-желтый, до чего щегол ты, До чего ты щегловит! Подивлюсь на мир еще немного, На детей и на снега, Но улыбка неподдельна, как дорога, Непослушна, не слуга.
1936, Bоронеж
***
Мой щегол, я голову закину, Поглядим на мир вдвоем. Зимний день, колючий, как мякина, Так ли жестк в зрачке твоем? Хвостик лодкой, перья черно-желты, Ниже клюва в краску влит, Сознаешь ли, до чего щегол ты, До чего ты щегловит? Что за воздух у него в надлобье Черн и красен, желт и бел! В обе стороны он в оба смотрит – в обе! Не посмотрит – улетел!
9-27 декабря 1936, Воронеж
***
Когда щегол в воздушной сдобе Вдруг затрясется, щегловит, Ученый плащик перчит злоба, А чепчик черным красовит. Клевещет жердочка и планка, Клевещет клетка сотней спиц И все на свете наизнанку, И есть лесная саламанка Для непослушных умных птиц.
Зима 1936, Воронеж
77
Рождение улыбки
***************
Когда заулыбается дитя С развилинкой и горести и сласти, Концы его улыбки, не шутя, Уходят в океанское безвластье.
Ему невыразимо хорошо, Углами губ оно играет в славе И радужный уже строчится шов Для бесконечного познанья яви.
На лапы из воды поднялся материк Улитки рта наплыв и приближенье И бьет в глаза один атлантов миг: Явленья явного в число чудес вселенье.
И цвет и вкус пространство потеряло, Хребтом и аркою поднялся материк, Улитка выползла, улыбка просияла, Как два конца их радуга связала, И в оба глаза бьет атлантов миг.
9 декабря 1936 – 11 января 1937,Воронеж
*** Вехи дальние обоза Сквозь стекло особняка. От тепла и от мороза Близкой кажется река. И какой там лес, – еловый? Не еловый, а лиловый, И какая там береза, Не скажу наверняка, Лишь чернил воздушных проза Неразборчива, легка...
26 декабря 1936
***
Эта область в темноводье Хляби хлеба, гроз ведро, Не дворянское угодье Океанское ядро. Я люблю ее рисунок, Он на Африку похож. Дайте свет, – прозрачных лунок На фанере не сочтешь... Анна, россошь и гремячье, Я твержу их имена. Белизна снегов гагачья Из вагонного окна.
Я кружил в полях совхозных, Полон воздуха был рот,
78
Солнц подсолнечника грозных Прямо в очи оборот. Bъехал ночью в рукавичный, Снегом пышущий Тамбов, Видел цны – реки обычной Белый, белый, бел-покров. Трудодень страны знакомой
Я запомнил навсегда, Воробьевского райкома Не забуду никогда. Где я? Что со мной дурного? Степь беззимняя гола. Это мачеха Кольцова. Шутишь – родина щегла! Только города немного В гололедицу обзор, Только чайника ночного Сам с собою разговор... B гуще воздуха степного Перекличка поездов Да украинская мова Их растянутых гудков.
23-29 декабря 1936
***
Как подарок запоздалый Ощутима мной зима, Я люблю ее сначала Неуверенный размах. Хороша она испугом, Как начало грозных дел. Перед всем безлесным кругом Даже ворон оробел. Но сильней всего непрочноBыпуклых голубизна, Полукруглый лед височный Речек, бающих без сна...
29-30 декабря 1936
***
Я около Кольцова, Как сокол закольцован, И нет ко мне гонца, И дом мой без крыльца. К ноге моей привязан Сосновый синий бор, Как вестник, без указа Распахнут кругозор. B степи кочуют кочки И все идут, идут Ночлеги, ночи, ночки Как бы слепых везут...
1 (9) января 1937, Воронеж
79
***
Дрожжи мира дорогие Звуки, слезы и труды Словно вмятины, впервые Певчей полные воды, Подкопытные наперстки Бега сжатого следы Раздают не по разверстке: На столетья – без слюды.
Брыжжет в зеркальцах дорога Утомленные следы Постоят еще немного Без покрова, без слюды. И уже мое родное Отлегло, как будто вкось По нему прошло другое И на нем отозвалось...
12 января 1937, Воронеж
***
Дрожжи мира дорогие Звуки, слезы и труды Ударенья дождевые Закипающей беды И потери звуковые Из какой вернуть руды?
B нищей памяти впервые Чуешь вмятины слепые, Медной полные воды И идешь за ними следом, Сам себе не мил, неведом И слепой и поводырь.
12-18 января 1937, Воронеж
***
Влез бесенок в мокрой шерстке Ну, куда ему? Куды? B подкопытные наперстки, В торопливые следы По копейкам воздух версткий Обирает с слободы.
Брыжжет в зеркальцах дорога Торопливые следы Постоят еще немного Без покрова, без слюды. Колесо брюзжит отлого Отлегло – и полбеды!
80
Скушно мне – мое прямое Дело тараторит вкось: По нему прошло другое, Надсмеялось, сбило ось!
12-18 января 1937, Воронеж
***
О, этот медленный одышливый простор Я им пресыщен до отказа! И отдышавшийся распахнут кругозор Повязку бы на оба глаза! Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав На берегах зубчатых Камы, Я б удержал ее застенчивый рукав, Ее круги, края и ямы. Я б с ней сработался – на век, на миг один Стремнин осадистых завистник Я б слушал под корой текущих древесин Ход кольцеванья волокнистый.








