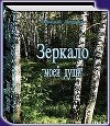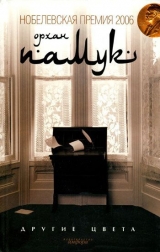
Текст книги "Другие цвета"
Автор книги: Орхан Памук
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава 32
ДЕВЯТЬ ЗАМЕЧАНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО КНИЖНЫХ ОБЛОЖЕК
• Если писатель не представляет себе обложку своей будущей книги, это означает, что он уже состоялся как зрелый, всесторонне образованный человек, он сформировался как личность, но утратил простодушие и наивность, которые как раз и делают его писателем.
• Вспоминая о прочитанных книгах, мы всегда вспоминаем, как выглядят их обложки.
• Нам, писателям, очень нужны читатели, которые покупают книги из-за обложек, и критики, которые не будут ругать книги, написанные для таких читателей.
• Изображение лица героя на обложке – это недопустимая прямая атака на воображение читателя и писателя.
• Когда художник решает сделать обложку романа «Красное и черное» красной с черным, изобразить на обложке «Голубого дома» голубой дом, а на обложке «Замка» – замок, создается впечатление, что художник не то чтобы проявляет небрежность по отношению к книге, нет, – он ее просто не читал.
• Если спустя много лет обложка некогда прочитанной нами книги случайно попадается на глаза, мы сразу вспоминаем о том, как сидели в сторонке с этой книгой, погружаясь в ее мир.
• Обложка книги – это некий мистический знак, символизирующий переход из реального мира, в котором мы живем, в мир книги.
• Витрины книжных магазинов обязаны своей привлекательностью не книгам, а многообразию их обложек.
• Названия книг сродни именам людей: они помогают выделить книгу из миллионов ей подобных. А обложки книг – лица людей: они либо напоминают нам о пережитом счастье, либо сулят предстоящее. Поэтому мы так же жадно вглядываемся в обложки книг, как в лица людей.
Глава 33
ЧИТАТЬ ИЛИ НЕ ЧИТАТЬ: «СКАЗКИ ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ»
Впервые я прочитал «Сказки тысячи и одной ночи» сорок с лишним лет назад, когда мне было семь лет. Я только что закончил первый класс начальной школы, а на летних каникулах мы поехали в Швейцарию, в Женеву, куда переехали родители после того, как отец получил там работу. Среди детских книжек, которые нам с братом подарила тетя перед отъездом, чтобы мы за лето как следует освоили чтение, был сборник сказок из «Тысячи и одной ночи». Это была прекрасно изданная, толстая книга, отпечатанная на хорошей бумаге; я помню, что прочитал ее за лето четыре или пять раз. Когда было слишком жарко, после обеда я шел к себе в комнату и растягивался на кровати. Наш дом располагался через улицу от Женевского озера, из открытого окна дул легкий ветерок, и, пока из внутреннего дворика, куда выходило окно, доносились звуки аккордеона бродячего музыканта, я вновь и вновь перечитывал одни и те же истории, теряясь в волшебной стране Али-Бабы и сорока разбойников или Аладдина.
В какую же страну я отправлялся? Мои первые впечатления подсказывали мне, что она была далекой, чужой, более примитивной, чем наш мир, но и чарующей одновременно. Героев звали так же, как людей, которых можно встретить на улицах Стамбула, и это делало их ближе, хотя их истории были далеки от моего мира, от моей стамбульской жизни. Поэтому, когда я впервые прочитал «Сказки тысячи и одной ночи», я прочитал их глазами европейского ребенка, изумленного чудесами Востока. Тогда я еще не понимал, что эти истории пришли в мою культуру из Индии, Ирана и Аравии; что загадки и тайны Стамбула, где я родился, имеют много общего со структурой и атмосферой и настроением этой великой, поразительной книги, а традиции сказок, полных лжи, переодеваний, головоломок, мошенничества и лукавства, любви и предательства, причудливо переплетены с историями, разыгрывающимися на улицах Стамбула. И лишь позднее, из других книг, узнал, что этих первых сказок, прочитанных в старинной рукописи Антуана Галлана, французского переводчика и первого составителя книги, который, как считается, получил ее из Сирии, не было. О сказке об Али-Бабе и сорока разбойниках и волшебной лампе Аладцина Галлан узнал не из книги; ему рассказал их араб-христианин по имени Ханна Дияб, а Галлан позднее включил их в книгу.
Это подводит нас к главному: «Сказки тысячи и одной ночи» – чудо восточной литературы. Но так как мы живем в культуре, утратившей связи с собственным литературным наследием, переплетавшимся с культурой Ирана и Индии, и находимся под влиянием потрясающих произведений западной литературы, эта чудесная книга вернулась к нам из Европы. Книга была издана на многих европейских языках, – ее переводили и величайшие переводчики своего времени, и всякие случайные, иногда сумасшедшие, иногда чрезмерно дотошные люди, – самым лучшим и наиболее известным является французский перевод Антуана Галлана, впервые изданный в 1704 году во Франции – блестящий, классический, признанный во всем мире. Можно сказать, что именно благодаря этому переводу бесконечная цепочка историй приобрела целостность и «Сказки тысячи и одной ночи» стали известны. В переводе Галлана эта книга оказала сильнейшее влияние на европейскую литературу восемнадцатого и последующих веков. Это влияние ощущается в произведениях Стендаля, Колриджа, Де Куинси и По. Правда, по прочтении книги возникает ощущение, что это влияние на самом деле несколько ограничено: нас впечатляет только то, что можно отнести к «загадкам Востока», – истории полны чудес, странных, сверхъестественных событий, страшных сцен… Но в «Сказках тысячи и одной ночи» есть еще нечто важное.
Я понял это, когда я читал книгу второй раз, в двадцать лет. Тогда я читал турецкий перевод Раифа Карадага, который вышел в 1950-е годы. Конечно же, как и многие читатели, я читал книгу не подряд, а по частям, наобум, перескакивая от истории к истории. И во время второго прочтения «Сказки тысячи и одной ночи» показались мне провокационными, они встревожили меня. Хотя я перелистывал страницу за страницей, жадно глотая истории, я был возмущен и иногда по-настоящему ненавидел то, что читал. Правда, я никогда не чувствовал, что читаю по необходимости, как бывает, когда мы читаем классику: я читал с большим интересом, ненавидя себя за этот интерес.
Сегодня, спустя тридцать лет, я знаю, что не давало мне тогда покоя: в большинстве сказок мужчины и женщины постоянно обманывают друг друга. Меня раздражали их бесконечные козни и интриги. В мире «Сказок тысячи и одной ночи» женщинам никогда нельзя доверять. Нельзя верить их речам – они только и делают, что обманывают мужчин и строят мелкие козни. Обман начинается с первых страниц, когда Шахерезада начинает рассказывать истории одинокому, жаждавшему любви мужчине, чтобы избежать казни. Поскольку обман прочно поселился на страницах этой книги, становится понятно, насколько глубок и силен был страх мужчин перед женщинами, живущими в той же культуре, что создала эту книгу. И страх этот только усиливался, потому что, строя интриги и козни, женщины пользовались главным своим оружием – женственностью. В этом смысле «Сказки тысячи и одной ночи» – зеркало, в котором отражены самые сильные страхи мужчин того времени: женщина может бросить, она может сделать тебя рогоносцем или оставить в одиночестве. Самая страшная история, которая тем не менее доставляет какое-то мазохистское наслаждение, – сказка о падишахе, наблюдающем за тем, как наложницы его гарема изменяют ему с чернокожими рабами. Эта сказка олицетворяет основные мужские страхи и базисные предрассудки о женском коварстве, поэтому отнюдь не случайно популярные современные турецкие писатели, которых иногда называют «соцреалистами» – с политическим подтекстом, как, например, Кемаль Тахир, пишут всевозможные адаптации и вариации этой истории. Но когда мне было двадцать лет, этот мир, полный мужских страхов и женской лжи, казался мне слишком душным, слишком «восточным» и каким-то обыденным. В те времена мне казалось, что в «Сказках тысячи и одной ночи» очень уж много провинциальных предпочтений и сентиментальности. В большинстве сказок зло, двуличие и заурядность представлялись не как вынужденное человеческое уродство, – напротив, эти поразительно уродливые проявления демонстрировались нам снова и снова только ради удовольствия рассказчицы.
Возможно, моя неприязнь «Сказок тысячи и одной ночи» была вызвана тем, что «европеизацию» и «модернизацию» текста я воспринимал как некое пуританство, но не я один не понимал написанного. В те времена молодым туркам вроде меня, любившим все современное, большинство классических произведений восточной литературы казалось темным, непроходимым лесом. Сейчас я думаю, что у нас просто не было ключа, который позволил бы проникнуть в эту литературу и сохранить ее современное восприятие, одновременно позволяя оценить восточную вязь слога, тонкий юмор и монументальную красоту.
И только после третьего прочтения «Сказок» я стал относиться к ним теплее. Теперь я хотел понять, что нашли в этой книге западные писатели и что сделало ее шедевром мировой литературы. Она казалась мне безбрежным океаном историй, меня поражали ее претенциозность и скрытая внутренняя геометрия. Как и прежде, я перескакивал от истории к истории, бросал те, что казались мне скучными, и переходил к другим. Хотя я решил, что меня привлекают не сюжет книги, а ее структура, формат и эмоциональный накал, в конце концов именно сюжетные перипетии помогли мне не зацикливаться на неприятных моментах и подробностях, некогда так раздражавших меня. К тому же, наверное, я теперь по собственному опыту знал, что жизнь и в самом деле полна странных сюрпризов и вероломства. Так что во время третьего прочтения я наконец был готов оценить литературные достоинства «Сказок тысяча и одной ночи», наслаждаясь по-прежнему актуальными хитроумными головоломками, бесконечными переодеваниями и жульничеством героев. В романе «Черная книга» я исследовал поразительную историю Гаруна аль-Рашида, в которой тот, переодевшись однажды ночью, наблюдает за своим двойником, фальшивым Гаруном аль-Рашидом, переплетая ее с атмосферой стамбульского черно-белого кино 1940-х годов. К сорока годам благодаря обычным изданиям и аннотированным справочным пособиям на английском я смог ощутить безграничность этой книги, ее скрытую логику, завуалированные шутки, странность и очарование ее красоты, ее уродство и ее бесстыдства, ее заурядность и глупость – она медленно раскрывалась передо мной, как сказочная сокровищница. Прежняя моя любовь и ненависть к «Сказкам тысячи и одной ночи» была вызвана тем, что сначала я читал книгу глазами ребенка, не умевшего принимать жизнь такой, как есть, без иллюзий, позднее – глазами возмущенного юноши. А сейчас я постепенно начал понимать, что, если я не буду воспринимать «Сказки тысячи и одной ночи» такими, какие они есть, они по-прежнему будут причинять мне боль и доставлять неприятности, как жизнь, если не воспринимать ее во всей полноте. Мне кажется, что эту книгу стоит читать без предубеждений или надежд, читать свободно, следуя логике собственной прихоти. Но мне бы не хотелось поучать читателя, взявшегося за «Сказки тысячи и одной ночи», мне кажется, это чересчур смело с моей стороны.
И все-таки я хочу воспользоваться случаем и сказать несколько слов о чтении и о смерти. Существуют два очень распространенных поверья, связанных со «Сказками тысячи и одной ночи». Первое – о том, что до сегодняшнего дня никто не смог прочитать эту книгу от начала до конца. А второе – о том, что тот, кто сумеет прочитать «Сказки тысячи и одной ночи» от начала до конца, умрет. Конечно же, внимательный читатель, зная о внутренней логике, связывающей эти два предупреждения, будет осторожен. Но слишком бояться не стоит. Прочитаем мы «Сказки тысячи и одной ночи» от начала до конца или нет, мы все равно когда-нибудь умрем.
Глава 34
У КАЖДОГО ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАКОЙ ДЯДЯ
Предисловие
к турецкому переводу романа Л. Стерна
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»
Все мы хотим иметь такого дядю, как Тристрам Шенди. Дядю, который все время что-то рассказывает, постоянно забывая, о чем говорит, который смешит нас милыми шутками, каламбурами, болтливостью, неосмотрительностью, странностями, глупостями, наивностью, навязчивыми идеями и жеманством; который, несмотря на образованность, ум, культуру и жизненный опыт, все равно в душе остается шаловливым ребенком. Когда дядина болтовня затягивается, наш отец или тетя обязательно скажут: «Ну все, хватит! Ты пугаешь детей. Им надоело слушать тебя». А между тем не только дети, но и взрослые уже привыкли слушать его неиссякаемые рассказы, они жадно ловят каждое слово. Однажды привыкнув к голосу дяди, нам хочется слышать его всегда.
В жизни бывают ситуации, когда мы привыкаем к голосу рассказчика, к его словам. Мы узнаем этих людей прежде всего по окраске тембра их голоса в переполненных офисах, в школе, на встрече старых друзей. Мы настолько привыкаем к ним, что нам хочется просто услышать их голос, не обращая внимания на то, что они говорят. Дядя напоминает нам то актера, который, выйдя на сцену, и рта не успел раскрыть, а зрители уже начали смеяться, то всезнайку-соседа, у которого есть собственное мнение по всем вопросам. Он похож на турецких журналистов – они ведут постоянные рубрики в ежедневных газетах и способны написать статью обо всем, что происходит вокруг. В повседневной жизни нам больше всего хочется услышать от любимого рассказчика о хорошо известных событиях, произошедших с нами, но рассказанных его голосом и с его точки зрения. Иногда его голос кажется таким же привычным, как родственник, живущий этажом выше, которого обязательно видишь раз в день; порой возникает ощущение, что мир существует лишь потому, что он рассказывает. У нас должен быть такой дядя.
Но такого дядю, как Стерн, можно встретить раз в сорок лет. Когда мы были маленькими, мой дядя развлекал нас, но не литературные ребусами, а математическими. Мне очень не нравилось, что мне устраивают экзамен, но я все равно старался ответить верно, стремясь доказать, какой я умный. Но было и еще нечто важное: у дяди была очень красивая жена. Когда мне было пять лет, я иногда приходил к ней, чтобы полюбоваться ее красотой, не увядавшей даже в темноте и мраке бабушкиного дома, забитого старой мебелью, пыльными вещами и тюлевыми занавесками. С тех пор прошло сорок лет, а тетя до сих пор вспоминает, как я приходил к ней. Оба ее сына сейчас, слава богу, стали стоматологами, у них частные зубоврачебные кабинеты в Нишанташи. Однажды, когда я вышел из кабинета старшего из сыновей, я заметил, что дверь дома заперта снаружи. Я стоял, смакуя привкус гвоздики, оставшийся во рту, и смотрел, как полосатый кот вылез в дырку в железной решетке и пошел в бакалейную лавку через дорогу, в которой до сих пор продаются лучшие в Нишанташи острые закуски к выпивке, – особенно хороша долма на оливковом масле.
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ
Последние строки рассказа о дяде называются «отступлением от темы». В качестве связующего звена всех историй Тристрам Шенди использует то, что в английском языке именуется словом «digression» («отклонение от темы») и что является для нас абсолютно знакомым и привычным. В книге «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» до жизни и мнений Тристрама Шенди дело не доходит никогда. Где-то в конце повествования мы слышим о рождении Тристрама, но он тут же исчезает со сцены, едва мы успеваем его заметить. До рождения герой Стерна обстоятельно рассказывает, как и когда он был зачат, о взглядах его отца на рождение и на жизнь в целом. Но ни на одном из этих моментов он не задерживается. Он все время перепрыгивает от темы к теме, как проворный веселый воробей – с ветки на ветку. Читателю все время кажется, что Стерн не знает, в каком направлении пойдет его рассказ. Но некоторые известные критики, как, например, Виктор Шкловский, анализируя отдельные фрагменты структуры книги, взялись доказать наличие определенных связей в тексте, они считают, что роман Стерна логичен и продуман. Давайте посмотрим, что говорит об этом наш рассказчик во второй главе восьмого тома:
«Я убежден, что из всех различных способов начинать книгу, которые нынче в употреблении в литературном мире, мой способ наилучший, – я уверен также, что он и самый благочестивый – ведь я начинаю с того, что пишу первую фразу, – а в отношении второй всецело полагаюсь на господа Бога» [5]5
Перевод А. Франковского.
[Закрыть].
Все произведение преследует ту же логику – логику постоянного отступления от темы, настолько частого, что напрашивается вывод: темой этой книги и является отступление от темы. Если бы Стерн знал, что найдется какой-нибудь умник вроде меня, который додумается, что есть тема его произведения, он бы непременно придумал что-нибудь другое.
ТОГДА О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ?
Когда писатель отступает темы, нам становится скучно. А когда нам становится скучно, мы говорим, что автор сделал отступление от темы. С другой стороны, каждый читатель скучает по-своему. Кто-то начинает зевать от длинных живописаний природы, кто-то не переносит свадьбы, кто-то грустит от недостатка любовных сцен или от их изобилия; кого-то сердит мастерство иллюстраторов, кого-то – нудные подробности о запутанных семейных и родственных узах. Все вышеперечисленное не является темой, это лишь искусные приемы писателя, призванные сделать роман более привлекательным и динамичным. Другими словами, книга может быть о чем угодно и обо всем. «Тристрам Шенди» – именно такая книга; она обо всем.
Давайте только не будем забывать, что это «всё» следует определенной логике. Наверное, темой можно считать все то, о чем пишет автор; читатель же мгновенно замечает утомительные длинноты, лишние фрагменты и места, где автор отклонился от темы, – и он начинает томиться нетерпением и скукой. (Нетерпение – важная составляющая «Тристрама Шенди»; Стерну нравилось подчеркивать, что он написал свой роман от скуки.) А необычный голос рассказчика у Стерна, о котором я упомянул выше, позволяет автору писать о чем угодно и, несмотря на необычную повествовательную форму, вызывает безусловный интерес. Эта книга – гармоничное чередование абсурдных историй и иронических проповедей; мы читаем о том, как отец героя заводит большие часы, стоявшие в их доме на верхней площадке черной лестницы, читаем о приключениях дяди Тоби; и по мере того, как происходит постепенное отождествление еще не родившегося Тристрама с автором романа, мы постигаем происходящее, погружаясь в мысли писателя и мысли Тристрама, повествующего о своей жизни.
РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О ЖИЗНИ АВТОРА
Лоренс Стерн был сыном обедневшего унтер-офицера. Он родился в Ирландии в 1713 году, детские годы провел с родителями в гарнизонных городках Англии и Ирландии. С тех пор, как ему исполнилось десять лет, он больше никогда не бывал в Ирландии. В год его восемнадцатилетия умер отец, и семья практически обнищала, но помощь пришла от дальнего родственника, который согласился финансово поддержать юношу при условии, что он станет священником. Лоренс закончил Кембридж по специальности богословие и классическая литература. После окончания университета он был принят в лоно англиканской церкви и быстро поднялся по службе благодаря родственникам, именитым духовным лицам. Когда ему исполнилось двадцать восемь лет, он женился на Элизабет Ламли; из детей у них выжила только дочь, Лидия. И до 1760 года, до тех пор пока он не опубликовал «Тристрама Шенди», в его жизни не происходило ничего значительного. В тот год ему исполнилось сорок семь лет.
Не сложно догадаться, что бесконечные поучительные наставления рассказчика в «Тристраме Шенди» исходят от проповедника. Для Стерна проповеди значили так много, что некоторые он опубликовал, некоторые включил в свой роман. А сейчас давайте еще раз обратим внимание на одну особенность романа, благодаря которой он актуален и сегодня.
Любая проповедь – англиканского священника или суннита – опирается на систему ценностей и четких предписаний, проистекающих из Писания, поэтому речи проповедников имеют одну-единственную цель – как и наши критики, ориентированные на мораль и социальные устои. Имам Нуруллах-эфенди преподает нам урок нравственности, читая пятничную проповедь, и его взволнованная речь, его слезы, заставляющие плакать и нас, его убедительность, путающая нас, являются проявлением его мастерства, его таланта. А новаторство и поразительное своеобразие Стерна заключаются в следующем: будучи проповедником, Стерн изобрел своего рода литературный прием, или, если хотите, формат, который можно было бы назвать «рассказом без цели». Он ведет повествование не ради какой-то цели, не из желания преподать урок, – ему просто нравится сам процесс. Он сознательно отдается этой страсти: отсутствие цели у Стерна и есть цель. Именно это делает роман романом, а не просто болтовней, хотя стилистика повествования очень напоминает пустую болтовню.
Понятно, что англиканский священник, написавший и издавший в Лондоне якобы бессмысленный роман, благосклонно принятый читателями, вызывает гнев, раздражение и зависть в обществе. Возмущенные недоброжелатели, не оценившие юмор и плутовство Стерна, обрушились на него с нападками: его обвиняли в том, что он написал неприличную, слишком легкомысленную книгу, недостойную священника; в том, что его роман невозможно понять; в том, что он смеется над религией; что он страдает неприятием ортодоксальных норм грамматики и стилистики, злоупотребляет непонятными, им же выдуманными словами.
Именно в это время у Стерна начались неприятности в семье и резко ухудшилось здоровье (в преклонном возрасте он заболел туберкулезом), но он никогда не унывал и всегда воспринимал жизнь с юмором.
Стерна радовали известность и слава, и после успеха первой книги он с удовольствием написал новые. Стерну наверняка было бы приятно узнать, что он оказал определенное влияние на ряд писателей и что есть читатели, способные оценить «Тристрама Шенди» (тем более что речь идет о Турции, известной религиозными консерваторами, традиционалистами и националистами, у которых отсутствует чувство юмора, а также непонимающими шуток «просветителями»).
ХОРОШО, НО КАКОВ СЮЖЕТ «ТРИСТРАМА ШЕНДИ»?
Знаете что? Если вы так нетерпеливы, вы не то что книгу, вы даже эту вступительную статью не дочитаете. Но, уступая вашим просьбам, я расскажу содержание первого тома романа:
Итак, том первый:
1. Рассказчик – нечто среднее между Тристрамом Шенди и автором – повествует о печальных обстоятельствах своего рождения.
2. Автор рассказывает о маленьком Существе – Гомункуле, прообразе сперматозоида, от которого он был зачат.
3. Мы узнаем о том, что история из следующей главы была рассказана автору дядей Тоби.
4. «Я очень доволен, что начал историю моей жизни так, как я это сделал», – говорит автор и рассказывает о ночи, когда он был зачат.
5. Автор сообщает нам, что родился пятого ноября 1718 года.
6. В этой главе автор предостерегает читателя: «Дорогой друг и спутник, <…> если мне случится время от времени порезвиться дорогой – или порой надеть на минутку-другую шутовской колпак с колокольчиком, – не убегайте, – но любезно вообразите во мне немного больше мудрости, чем то кажется с виду…»
7. Здесь рассказывается о том, как священник и его жена искали повивальную бабку.
8. Речь идет об увлечениях в свободное время. «О вкусах не спорят – это значит, что о коньках не следует спорить; сам я редко это делаю, да и не мог бы сделать пристойным образом, будь я даже их заклятым врагом; ведь и мне случается порой, в иные фазы луны, бывать и скрипачом, и живописцем, смотря по тому, какая муха меня укусит», – говорит герой и приводит посвящение.
9. Нам объясняют суть посвящения из предыдущей главы.
10. Автор опять возвращается к истории о повивальной бабке.
11. Рассказ о священнике по имени Йорик, взявшем имя шекспировского шута Йорика.
12. Рассказ о легкомыслии Йорика, о том, как печален был его конец.
13. Автор снова возвращается к повивальной бабке.
14. В этой главе автор объясняет, почему он не может добраться до конца своей истории, а все время отвлекается; это отклонение от темы на тему об отклонении от темы.
15. Рассказ о брачном договоре матери автора и ее история.
16. История о возвращении из Лондона отца героя.
17. Повествование о намерениях отца после возвращения домой.
18. Тема подготовки к родам в провинции и различные лирические отступления.
19. Рассказ о причинах неприятия отцом имени Тристрам и его философские взгляды.
20. Автор ругает невнимательных читателей – именно так поступает в подобных случаях и автор этого предисловия. Что, конечно, не означает, что сам он – внимательный писатель.
21. Все ближе и ближе день рождения, хотя многочисленные отступления не прекращаются.
22. Рассуждения автора о структуре его произведения: «Словом, произведение мое отступательное, но и поступательное в одно и то же время».
23. «Я чувствую сильную склонность начать эту главу самым нелепым образом и не намерен ставить препятствий своей фантазии». Об обрисовке характера.
24. Рассказ о увлечении и характере дяди Тоби.
25. Первый том заканчивается рассказом о ране в паху, которую дядя Тоби получил на войне, и хвастливыми словами автора: «…поскольку я вменяю себе в особенную заслугу именно то, что мой читатель ни разу еще не мог ни о чем догадаться. И в этом отношении, сэр, я настолько щепетилен и привередлив, что, считай я вас способным составить сколько-нибудь приближающееся к истине представление или мало-мальски вероятное предположение о том, что произойдет на следующей странице, – я бы вырвал ее из моей книги» [6]6
В данной главе цитаты из романа Стерна приводятся в переводе А. Франковского.
[Закрыть].
ТАК О ЧЕМ ЖЕ ЭТА КНИГА?
Эта книга, судя по всему, о том, что она никак не может обратиться к какому-либо сюжету, к сути, центру повествования. Бессистемность, беспорядочность и хаотичность повествования (вспомните, насколько важно для автора, чтобы читатель не догадался, что произойдет дальше); отсутствие логики, сумбурность и чрезмерная болтливость героев – все в романе, включая содержание и структуру «Тристрама Шенди», очень напоминает саму жизнь.
ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ, ЧТО ЖИЗНЬ ТАКОВА?
Этот вопрос является лучшей похвалой роману – именно потому, что задан с гневом, и я рекомендую авторам, пишущим книги, всегда провоцировать читателя на подобную реакцию. Ценность произведений определяется тем, насколько глубоко они затрагивают вопросы о природе и смысле жизни. Великие писатели (увы, их очень мало) пробуждают наше сознание не потому, что их герои задаются вопросами на эти темы, нет; они описывают повседневную жизнь во всем многообразии ее проявлений, и, используя настроение, стиль и язык романов, они заставляют нас задавать себе эти вопросы. У каждого из нас есть свой взгляд на жизнь, подтверждение которому мы черпаем из «проходной» литературы (мелодраматические любовные романы, которые берут на себя смелость взывать к истинной любви; политические романы, проигрывающие жизненные ситуации на фоне политических интриг; назидательные мелодрамы, убеждающие нас уже тысячу лет, что хороших людей, когда-то живших на земле, сменили мерзавцы и корыстолюбцы), – но в великом романе настоящего писателя нас призывают по-новому взглянуть на жизнь.
На первый взгляд «Тристрам Шенди» труден для чтения, как и все книги, которые противоречат нашим взглядам на жизнь. Они раздражают нас, вызывают недоумение: «Я ничего не понимаю!» Такова реакция и умных читателей, и глупых. «Эту книгу невозможно читать, в жизни все не так!» – говорят они возмущенно. Пока недалекий читатель заявляет, что он ничего не понял, и осуждает книгу за то, что она противоречит его ограниченным взглядам (много было написано о путанице в романе Стерна, о ее безнравственности и несоответствии правилам грамматики), проницательный читатель начинает испытывать некое беспокойство. За раздражением и досадой скрыто смутное понимание предназначения настоящей литературы, которая позволяет человеку найти свое место в жизни, и, напоминая себе о глубине и скрытом таинстве литературы, человек вновь берет книгу. Искренность книг такого рода позволяет им встретить настоящего читателя, но ее никогда не смогут понять легкомысленные читатели. И хотя разумные читатели, выбирающие для чтения великие романы, тоже недолюбливают их причудливость, именно они способны оценить достоинства и блестящие идеи произведения – в отличие от узколобых занудных законодателей. Даже остроумный Самуэль Джонсон, один из самых блестящих представителей английской литературы, порицал этот роман тоном школьного учителя: «Ничто странное не может быть вечным. „Тристрама Шенди“ не будут читать вечно». Спустя двести сорок лет после выхода первого английского издания «Тристрама Шенди» я с большой радостью и гордостью пишу предисловие к его турецкому переводу.
ЧЕМУ НАУЧИЛА МЕНЯ ЭТА КНИГА?
Я часто напоминаю себе (прошу прощения, что напоминаю об этом и вам), что живу в бедной стране, где люди привыкли читать книги не ради удовольствия, а ради пользы. И я вижу лишь один, весьма сомнительный способ внушить читателям любовь к книгам: начать писать о том, чему книги могут научить читателей. Например: как и все гениальные романы, «Тристрам Шенди» повествует о жизни, об обычаях и нравах, о метаниях души и ее хрупкости. Таким образом, «Война и мир» подробно знакомит нас с ходом Бородинского сражения, «Моби Дик» дает энциклопедические сведения об охоте на китов, а «Тристрам Шенди» рассказывает, как проходило детство и как воспитывали ребенка, родившегося в Ирландии восемнадцатого века и переехавшего в Англию, чтобы впоследствии стать священником. Кроме того, «Тристрам Шенди» сродни «Анатомии меланхолии» Роберта Бертона, «Дон Кихоту» Сервантеса и «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Рабле, – их отличают «академическое остроумие» и «философский юмор». Энциклопедические сведения, которые нетерпеливые читатели назовут отступлениями, философские размышления и необычные проявления эрудиции, исследования человеческой души и анализ характеров – все в этой книге уравновешивается милым остроумием и насмешками автора, а также самим героем, который шутя выворачивает наизнанку философские догмы, подвергая их сомнению. Все достойные, энциклопедически насыщенные произведения написаны, прежде всего, о самих книгах, они призывают нас к чтению, убеждая, что глубокие, фундаментальные знания о жизни можно получить только из книг, из их бесконечного, многовекового спора. Первый философский роман о человеке, чья жизнь была отравлена книжными фантазиями, – «Дон Кихот», герой которого пал жертвой рыцарских романов; последний (и, возможно, первый реалистический роман) – «Мадам Бовари», героиня которого, пресытившись любовными романами, ищет настоящую любовь, но, не найдя ее, решает отравиться.
Замечательная «реалистичная» сцена в конце романа «Мадам Бовари» (в которой она гибнет от яда, не от книги) оказала огромное влияние на мировую литературу; эта передозировка «реализма», возможно, отравила бы и турецкую литературу, обрекая ее на однородную осязаемую реальность. Между тем спустя шестьдесят лет, когда был издан «Улисс», мы, жители окраины мира, восхищались Европой, считая ее источником незыблемых истин; мы поверили, что единственно достойный жанр романа – реализм, и мы забыли о своих литературных традициях, методах и вариантах восприятия слова, – лишь бы овладеть этим легким, на первый взгляд, методом реализма. В конце концов, мы даже забыли, что подобный жанр чужд нашим традициям, являясь новой художественной формой, привнесенной с Запада и заимствованной нами у Флобера, посетившего Стамбул в 1850 году. Сейчас у нас полно ограниченных, унылых критиков-националистов, которые с сарказмом осуждают любые стили повествования, отличные от поверхностного реализма, так как они «чужды национальным традициям». Если бы «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле и «Тристрам Шенди» Стерна были переведены раньше, они хотя бы как-то повлияли на наш тесный мир литературы, ориентированный на однообразный, «западный» реализм, и слабенький турецкий роман, возможно, стал бы более восприимчив к многообразию жизни. (Вы уже не должны сердиться на Орхана, который посвятил исследованию этого вопроса всю свою жизнь и теперь говорит правду.) (Бедняжка турецкий роман, выбирайся наконец из клетки своего реализма, надевай крылья традиций и фантазии и лети, лети!)