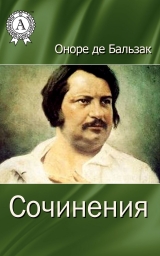
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Оноре де'Бальзак
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
По другую сторону камина сидела в кресле восьмидесятилетняя сестра барона, вылитый его портрет, и слушала чтенье газеты, не переставая вязать чулки, единственную работу, какую ей дозволяла делать слепота. На глазах у нее были бельма, но, несмотря на упорные настояния невестки, она ни за что не хотела согласиться на операцию. Никто, кроме нее самой, не знал истинной причины ее упорства: она сваливала всю вину на недостаток мужества, но в действительности ей очень не хотелось тратить на себя двадцать пять луидоров: это значило бы ввести новый расход в бюджет. Но все же ей очень бы хотелось видеть брата. Рядом с этими двумя стариками, красота баронессы выступала особенно рельефно. Да и какая женщина не казалась бы красивой и молодой между г-ном дю Геником и его сестрой? Мадемуазель Зефирина, благодаря своей слепоте, не могла судить об изменениях, которым подверглась ее наружность к восьмидесяти годам. Ее бледное, морщинистое лицо походило на мертвое; такое же страшное впечатление производили ее неподвижные белые глаза, оставшиеся три-четыре зуба выдались вперед, придавая ей какой-то зловещий вид; глаза глубоко запали и были обведены красными кругами, на подбородке и около губ пробивались седые волоски.
На голове ее красовался стеганый ситцевый чепчик с рюшем, завязанный под подбородком каким-то порыжевшим шнурком. Под платьем она носила толстую суконную юбку, в которой, как в матрасе, покоились двойные луидоры, а к поясу были пришиты внутренние карманы; пояс этот она снимала каждый вечер, чтобы на утро снова подвязать его. Поверх юбки был надет суконный казакин, национальный бретонский корсаж, который заканчивается у шеи воротником, сложенным в мелкие складочки. Из-за стирки этого воротника у нее были вечные ссоры с невесткой: ей казалось, что его довольно менять только раз в неделю. Из-под широких ватных рукавов казакина виднелись сухие, но мускулистые белые руки с красноватыми оконечностями. От постоянного вязанья пальцы ее скрючились и были вечно в движении, точно чулочно-вязальная машина, так что было бы даже странно видеть их в покое. Время от времени мадемуазель дю Геник брала длинную вязальную спицу, воткнутую на груди, и проводила ею по своим седым волосам. Со стороны было странно видеть, как уверенно, не боясь уколоться, втыкала она спицу на свое место. Пряма она была, как колокольня. В этой манере держаться сказывалось старческое кокетство, доказывавшее лишний раз, что тщеславие тоже необходимо в жизни. Улыбка у нее была веселая: она тоже исполнила свой долг в жизни.
Фанни, увидав, что барон заснул, прекратила чтение. В комнату ударил солнечный луч и, золотым снопом разделив пополам эту старинную залу, заиграл на темной мебели. Солнце проникло даже в уголки, позолотило скульптурные украшения комнаты; на старинных шкафах замелькали зайчики, дубовый стол казался покрытым золотой скатертью; вся комната, темноватая, однотонная, вдруг точно повеселела от солнца, так же, как веселела душа восьмидесятилетней старушки при звуках голоса Фанни. Между тем лучи стали из золотых красновато-огненными и, постепенно темнея, возвещали наступление сумерек. Баронесса впала в глубокую задумчивость и погрузилась в молчанье, что за последние две недели случалось с ней не раз, к удивлению золовки; хотя она и не стала допрашивать баронессу о причине этой озабоченности. Но, тем не менее, ей очень хотелось самой узнать, в чем дело, руководствуясь развитым в ней, как у всех слепых, чутьем, благодаря которому они различают белые буквы на черных страницах книги и в прозорливой душе которых всякий звук отдается правильным эхом. Старушка, для которой темнота не была помехой, продолжала вязать, и среди глубокого молчанья раздавался стук ее спиц.
– Вы уронили газету, сестра, хотя, кажется, не спите, – заметила старушка с некоторым лукавством в голосе.
Стало совсем темно, Мариотта зажгла лампу и поставила ее на квадратный стол у камина; затем она принесла прялку, моток ниток и маленькую табуретку; сев около окна, выходившего на двор, принялась прясть, как всегда по вечерам.
Гасселен возился еще во дворе, заглянул к лошадям барона и Калиста – все ли в порядке в конюшне, покормил двух великолепных охотничьих собак. Радостный лай их был последним звуком, который эхом раскатился по старому темному дому. Собаки и лошади были последними остатками великолепия рыцарских времен. Лай собак, сопровождаемый лошадиным ржаньем и топотом, удивил бы мечтателя, который, сидя на ступеньках крыльца, погрузился бы в созерцание поэтических образов, которыми, казалось, еще был полон этот замок.
Гасселен представлял собой тип маленького, толстенького, приземистого бретонца, черноволосого, с лицом темно-бурого цвета, он был очень молчалив, медлителен, упрям, как мул, но неуклонно шел по раз начертанному пути. Ему было сорок два года, а в замке он жил уже двадцать пять лет. Барышня взяла в услужение пятнадцатилетнего Гасселена, когда стала известна женитьба барона и явилось предположение, что он, может быть, вернется на родину. Этот слуга считал себя членом семьи: он играл прежде с Калистом, любил лошадей и собак, говорил с ними и ласкал их, точно они принадлежали ему. Одет он был в синюю полотняную куртку с маленькими карманами, болтавшимися около бедер; жилет и панталоны были из той же материи, на ногах были синие чулки и толстые, подкованные гвоздями башмаки. Когда было холодно или шел дождь, то он надевал на себя, по обычаю страны, козью шкуру. Мариотта, которой было тоже за сорок, представляла собой такой же тип, но женский. Трудно было найти лучшую пару для запряжки: тот же рост, тот же цвет лица, те же быстрые черные глазки. Для всех казалось непонятным, как это они не поженились; но, быть может, это было бы преступлением, до того они походили на брата с сестрой. Мариотте платили тридцать экю, а Гасселену сто ливров; но предложи ему кто-нибудь тысячу ливров, он ни за что не расстался бы с семейством дю Геников. Оба они были под командой старой барышни, которая с начала войны в Вандее и до возвращения брата правила всем домом. Узнав, что барон привезет с собой молодую хозяйку, она очень взволновалась, думая, что ей придется сложить с себя бразды правления и передать их баронессе дю Геник, а самой стать ее верноподданной.
Мадемуазель Зефирина поэтому была приятно удивлена, увидев, что мисс Фанни О’Бриен, как дочь высокопоставленных родителей, не терпела никаких домашних хлопот и, как все возвышенные души, предпочитала черствый хлеб роскошному обеду, если бы ей пришлось самой приготовить его; она готова была на все трудные обязанности материнства, на всякое лишение, но у нее не хватало мужества заниматься таким прозаичным делом, как хозяйство. Так что, когда барон от имени своей робкой супруги попросил сестру взять на себя весь дом, то старая девица поцеловала баронессу с нежностью матери. Она стала обращаться с ней, как с дочерью, боготворила ее и была вполне счастлива, что может не оставлять своих хлопот по хозяйству, которое она вела с необыкновенной строгостью и удивительной экономией, от которой отступала только в важных случаях, например, во время родов невестки, когда обращалось особенное внимание на ее питанье. Ничего не жалела она и для Калиста, которого боготворил весь дом. Хотя прислуга была приучена к строгому порядку и ни в чем нельзя ее было упрекнуть, так как оба, и Мариотта, и Гасселен, больше заботились об интересах хозяев, чем о своих собственных, мадемуазель Зефирина продолжала неутомимо смотреть за всем.
Так как все внимание ее было посвящено исключительно хозяйству, то она могла безошибочно определить одним взглядом, какой запас орехов был на чердаке, и сколько осталось овса в закромах конюшни. У пояса ее казакина висел на синем шнурке свисток: одним свистком она звала Мариотту, двумя – Гасселена. Высшим наслаждением для Гасселена было ходить за садом и разводить хорошие овощи и плоды. Дел у него было так мало, что, не будь этой работы, ему было бы скучно. Почистив утром лошадей, он натирал полы и убирал две комнаты первого этажа: около своих хозяев дел у него было мало. Но зато в саду нельзя было увидать ни одной сорной травки, ни одного вредного насекомого или зверька. Иногда он долго стоял под солнцем с открытой головой, подкарауливая полевую мышь или отыскивая личинку майского жука, и с какой детской радостью бежал он затем показать своим господам зверька, которого он подстерегал целую неделю. Для него было также большое удовольствие ходить в постные дни за рыбой в Круазиг, где она была дешевле, чем в Геранде. Вообще едва ли можно было еще где встретить такую единодушно сплоченную семью, как это святое достойное семейство. Господа и слуги были точно созданы друг для друга. В продолжение двадцати пяти лет в доме не было ни ссоры, ни сильного волнения. Беспокойство вызывали только болезни ребенка, а ужас – только события 1814 и 1830 годов. Все здесь совершалось всегда в определенные часы и кушанья за столом только зависели от смены времен года. Но сама эта монотонность, похожая на монотонность в природе, где попеременно чередуются то дождь, то солнце, то тьма, дышала той любовью, которой были полны сердца, и тем сильнее и плодотворнее была эта любовь, что она опиралась на законы природы.
Когда совсем стемнело, в залу вошел Гасселен и почтительно осведомился, не будет ли он нужен на что-нибудь.
– Ты можешь идти со двора или, если хочешь, ложись спать после молитвы, – сказал, проснувшись, барон, – если только моя супруга или сестра…
Обе дамы в знак согласия кивнули головой. Гасселен встал на колени, видя, что господа привстали со своих мест для коленопреклонения. Мариотта, со своей стороны, также опустилась на колени. Старая девица дю Геник произнесла громким голосом вечернюю молитву. Когда она была окончена, раздался стук у наружной двери; Гасселен пошел открыть ее.
– Это, вероятно, священник, он почти всегда приходит первым, – сказала Мариотта.
И действительно, по звуку шагов по гулким ступеням крыльца все узнали священника. Войдя в комнату, он почтительно поклонился трем находившимся в ней лицам, обратившись затем к барону и к обеим дамам с елейно-любовными словами, какие умеют говорить только священники. Хозяйка дома рассеянно поздоровалась с ним, и он посмотрел на нее инквизиторским оком.
– Вы чем-то озабочены, баронесса, или, быть может, нездоровы? – спросил он.
– Благодарю вас, ничего, – отвечала она.
Г. Гримон среднего роста, ему пятьдесят лет. Одет он в черную рясу, из-под которой видны его ноги, обутые в толстые башмаки с серебряными пряжками. Из-за брыжей воротника выглядывает полное лицо, обыкновенно белое, а теперь слегка загоревшее. Руки у него пухлые. Он похож отчасти на голландского бургомистра, благодаря белому цвету лица и кожи, а отчасти напоминает бретонского крестьянина, благодаря плоским черным волосам и живым черным глазам, блеск которых он старался смягчить из уважения к своему духовному сану. Характера он был веселого и, как все люди со спокойною совестью, любил пошутить. Вообще в нем ничто не напоминало бедных, вечно беспокойных и угрюмых священников, авторитет которых обыкновенно очень слаб среди прихожан. Вместо того, чтобы быть, как говорил Наполеон, нравственными руководителями своей паствы и миротворцами, такие священники находятся с приходом в вечно враждебных отношениях. Но довольно было увидать г. Гримона шествующим по Геранде, чтобы даже самый недоверчивый турист понял, что перед ним полновластный господин этого католического городка. Но он покорно уступал первое место феодальному верховенству дю Геник и в этой зале держал себя, как капеллан вперед своим господином. В церкви, благословляя народ, он прежде всего простирал руки по направлению часовни дю Геников, где над фронтоном изображена была вооруженная рука.
– Я думал, что мадемуазель де Пен-Холь уже здесь, – сказал священник, поцеловав у баронессы руку и усаживаясь на место. – Она стала неаккуратна. Уж не заразилась ли и она легкомыслием? Вот и молодой шевалье до сих пор не вернулся от Туш.
– Не говорите ничего о его визитах к ним при мадемуазель де Пен-Холь, – тихо сказала старая девица.
– Ах, барышня, – возразила Мариотта, – разве можно всему городу запретить болтать об этом?
– А что же болтают? – спросила баронесса.
– Все – и молодые девушки, и кумушки, одним словом, все думают, что он влюблен в барышню из Туш.
– Такой молодой человек, как Калист, должен влюблять в себя, – сказал барон.
– А вот и мадемуазель де Пен-Холь, – сказала Мариотта.
Действительно, по песку слышались осторожные шаги этой девицы, впереди которой шел с фонарем маленький слуга. Увидав его, Мариотта перенесла свою резиденцию в большую залу, чтобы поболтать с ним при свете осмоленной свечи, которую она нарочно не потушила, чтобы сэкономить хозяйское освещение и попользоваться от богатой и скупой гостьи.
Это была худая и высохшая старая дева, желтая, как старый пергамент, вся в морщинах, точно озеро, покрытое рябью. У нее были серые глаза, длинные выдавшиеся вперед зубы, руки совершенно мужские; роста она была небольшого, немного крива и даже горбата. Но никто никогда не интересовался вообще ее достоинствами и недостатками. Одета она была похоже на старуху дю Геник, и всякий раз, как ей надо было попасть в карман, она долго шарила рукой, не будучи в состоянии скоро разобраться в бесчисленных своих юбках, причем все время раздавалось звяканье ключей и звон мелких денег. С одного бока у нее висели все ключи по дому, а с другой – серебряная табакерка, наперсток, вязанье и тому подобные предметы, которые и производили этот шум. Вместо чепчика, как у девицы дю Геник, на голове ее красовалась зеленая шляпа, служившая ей и на огороде. Цвет ее из зеленого стал рыжим, а формой она напоминала шляпы биби, какие спустя двадцать лет снова вошли в моду в Париже. Шляпу эту делали ее племянницы под ее наблюдением: сделана она была из зеленой тафты, купленной в Геранде; что касается каркаса, то она покупала его в Нанте раз в пять лет, так что он возобновлялся при каждом законодательном собрании. Платья, всегда одного неизменного фасона, ей шили также племянницы. В руках у нее была тросточка с маленьким наконечником, как носили дамы в начале царствования Марии-Антуанетты. Девица происходила из одного из самых благородных семейств Бретани. На ее гербе была герцогская корона. Она с сестрой была последним отпрыском славной бретонской фамилии Пен-Холь.
Младшая сестра вышла замуж за Кергаруэта, который, не обращая внимания на общее неодобрение, прибавлял к своей фамилии и имя Пен-Холь и велел себя именовать виконтом де Кергаруэт-Пен-Холь.
– Небо наказало его, – говорила старая девица, – у него только дочери, так что имя Кергаруэтов-Пен-Холь должно прекратиться.
У мадемуазель де Пен-Холь были поместья, приносившие до семи тысяч ливров годового дохода. С тридцати шести лет она сама управляла своим именьем, верхом объезжала поля и проявляла в своих делах большую энергию, которой отличаются обыкновенно горбатые. Ее скупость была известна в окружности на десять лье и нигде не возбуждала порицания. Весь ее домашний штат состоял из одной женщины и маленького лакея. Тратила она, если не считать налогов, не более тысячи франков в год. Благодаря всему этому, за ней сильно ухаживали Кергаруэты-Пен-Холь, проводившие зиму в Нанте, а лето в своем имении на берегу Луары, немного ниже Индра. Они знали, что тетка откажет свой капитал и все свои сбережения той племяннице, которая ей больше придется по сердцу. И вот раз в три месяца, одна из четырех девиц де Кергаруэт – из которых младшей было десять, а старшей двадцать лет – приезжала на несколько дней к старушке. Жакелина де Пен-Холь, старинная подруга Зефирины дю Геник, была воспитана в благоговейном преклонении перед величием дю Геников и с самого рождения Калиста строила планы о том, чтобы завещать все свое имущество молодому шевалье, женив его на будущей дочери виконтессы де Кергаруэт. Она подумывала также выкупить некоторые лучшие владения дю Геников, выплатив их стоимость арендаторам. Раз скупость имеет какую-нибудь определенную цель, она перестает уже быть пороком и ее можно считать почти добродетелью: все лишения превращаются в добровольные пожертвования и под ничтожными мелочами скрывается одна главная Цель. Может быть, Зефирина была посвящена в тайные мечты Жакелины. И баронесса со своей стороны в своей беспредельной любви к сыну и нежности к его отцу тоже отдала кое-что, видя, с какой коварной настойчивостью мадемуазель де Пен-Холь приводила к ним каждый день свою любимицу пятнадцатилетнюю Шарлотту де Кергаруэт. Священник Гримов был тоже в заговоре: не даром он давал старой девице советы, как выгоднее помещать деньги. Но если бы у мадемуазель де Пен-Холь было не только триста тысяч франков золотом – цифра ее сбережений, а имей она поместий в десять раз больше, все-таки дю Геники ни за что не стали бы ей оказывать особого внимания, чтобы она не могла подумать, что на ее деньги имеют виды. Напротив, Жакелина де Пен-Холь, как истая бретонка, была счастлива благоволением, которое ей выказывали дю Геники и ее старая приятельница Зефирина, и ощущала большую гордость после всякого посещения, которым удостаивали ее дочь Ирландских королей и Зефирина. Она не показывала вида, что для нее немалая жертва каждый вечер позволять своему лакею жечь у дю Геников свечку, цветом напоминавшую пряник: такие свечи употребляются в некоторых местностях на западе. Итак, эта старая богатая девица представляла олицетворение родовитости, гордости и величия души. Для дополнения ее характеристики может послужить болтливость аббата Гримона, благодаря которой мы узнаем, что в тот самый вечер, когда старик барон с молодым шевалье и Гасселеном, вооружившись саблями и охотничьими ружьями, собирались уехать в Вандею, к великому ужасу Фанни и к радости бретонцев, и присоединиться там к королеве, в тот самый вечер мадемуазель де Пен-Холь вручила барону десять тысяч ливров золотом. К этой сумме, отдать которую стоило ей немало мужества, она прибавила еще десять тысяч ливров, собранных священником: старый партизан должен был вручить эту последнюю сумму матери Генриха V от имени Пен-Холь и от прихожан Геранды.
Старая девица считала, что имеет права над Калистом, сообразно с этим и вела себя по отношению к нему и зорко следила за ним. Хотя она, как все старые люди монархического правления, смотрела снисходительно на сердечные похождения, но зато не выносила революционного духа. Так что Калист мог своими романами с бретонками только выиграть в ее мнении, но вдайся он в новшества, он сразу упал бы в ее глазах. Мадемуазель де Пен-Холь наскребла бы откуда-нибудь денег, чтобы задобрить обесчещенную им девушку, но, увидев его в тильбюри или услыхав, что он поговаривает о поездке в Париж, она сочла бы Калиста мотом. Застань она его за чтением безбожных книг или журналов – кто знает, на что она была способна. По ее мнению, новые идеи – это конец земельной собственности, это разорение под фирмой каких-то улучшений и систем, которые в результате приведут владельцев к залогу имений. Только путем благоразумия, говорила она, можно себе составить состояние. А для этого надо хорошо управлять своим имением, т. е. складывать в амбары гречиху, рожь и коноплю, а затем ждать хороших цен и, не боясь прослыть алчной, сидеть на своих мешках. До сих пор ее теория всегда приводила к блестящим результатам; вероятно, потому общественное мнение признало ее очень ловкой и хитрой. В действительности она была просто глупа, но такого лестного отзыва удостоилась благодаря своей чисто голландской аккуратности, своей кошачьей осторожности и, наконец, благодаря настойчивости, достойной духовного лица: это последнее качество особенно упрочило за ней репутацию ума.
– Увидим ли мы сегодня г-на дю Хальга? – спросила старая девица, снимая свои вязаные шерстяные митенки после обмена приветствий.
– Как же, мадемуазель, я видел его: он водил свою собачку погулять, – отвечал священник.
– Ага! Значит, наша мушка будет сегодня в полном составе. Вчера нас было только четверо.
Услышав слово «мушка», священник встал со своего места и направился к шкафчику. Из ящика он вынул маленькую соломенную корзинку с костяными кружками, которые от двадцатилетнего употребления стали желтыми, как турецкий табак, и карты, до того засаленные, что, вероятно, такими же играют таможенные служащие в С.-Назере. Аббат сам разложил на столе кружки для каждого игрока, поставил корзину около лампы и проделывал все это с детской поспешностью, и видно было, что ему это случалось делать не впервые. Сильный, по-военному, стук в дверь вдруг нарушил безмолвие старинного замка. Маленький лакей мадемуазель де Пен-Холь с важным видом пошел отворять дверь. Вслед затем на полутемном фоне двери показалась высокая, худая фигура шевалье дю Хальга, отставного капитана судна, которым командовал адмирал Кергаруэт.
– Скорее, шевалье, – закричала мадемуазель Пен-Холь.
– Жертвенник уже готов, – сказал священник.
Шевалье отличался очень слабым здоровьем и потому постоянно носил от своих ревматизмов фланель, на голове черную шелковую шапочку и, кроме того, спенсер, который предохранял его драгоценную грудь от ветров, которые сразу иногда охлаждают атмосферу в Геранде. В его руках всегда была трость с золотым яблоком в виде набалдашника: он ей отгонял собак, которые имели дерзость ухаживать за его собачкой. Этот господин, теперь мелочный, как женщина, старавшийся обойти всякое встречающееся ему на пути препятствие, говоривший постоянно тихим голосом, чтобы сохранить уцелевшие остатки его, считался в свое время одним из самых ученых и храбрых морских офицеров. Он пользовался большим уважением судьи Суфферена и был удостоен дружбы графа де Портандюэр. Впрочем, лицо его, все покрытое шрамами от ран, достаточно ясно говорило о подвигах капитана. А теперь, увидев его, нельзя было бы поверить, что его зоркое око видело все далеко вокруг, что этот бретонский моряк не имел себе соперников в храбрости. Он не курил, не употреблял в разговоре бранных слов и своею кротостью и спокойствием походил на молодую девушку; за своей любимицей, собачкой Тизбе, он ухаживал так умело и заботливо, как истая старая барыня. Здесь сказывалась его прежняя галантность к женщинам. Сам он никогда ничего не рассказывал о своих славных деяниях, которые вызвали восхищение графа д’Эстенга. Хотя он теперь выглядел совершенным инвалидом, двигался так осторожно, как будто с каждым сделанным шагом ему угрожала опасность раздавить под своими ногами яйца, хотя он постоянно жаловался то на холодный ветер, то на палящий зной солнца, то, наконец, на сырой туман, тем не менее, его белые зубы с красными деснами красноречиво протестовали против его болезни, стоившей ему к тому же очень дорого, так как, благодаря ей, он должен был есть непременно четыре раза в день и не как-нибудь, а очень сытно. Фигура его была крепкая, хотя худая; как и фигура барона, она состояла из одних костей, обтянутых кожей, желтой, как пергамент и крепко обтягивающей кости, точно кожа арабского скакуна, блестящая на солнце. Цвет лица у него был темно-бурый и стал таким после его путешествий в Индию, откуда он не привез никаких впечатлений, никаких новых воззрений. В свое время он эмигрировал, потерял состояние, потом получил крест Св. Людовика и пенсион в две тысячи франков, вполне заслужив его своей службой и получая его из кассы моряков-инвалидов. Когда-то он служил в морском флоте в России, до тех пор, пока император Александр не вознамерился заставить его воевать с Францией; тогда он подал в отставку и поселился в Одессе с герцогом Ришелье, с которым и вернулся на родину; герцог выхлопотал ему пенсион, как славному представителю старинного бретонского флота. После смерти Людовика XVIII, т. е. приблизительно вскоре после того, как шевалье дю Хальга вернулся в Геранду, его назначили городским мэром. Священник, шевалье и мадемуазель де Пен-Холь пятнадцать лет подряд проводили вечера в отеле дю Геников, куда нередко собирались и другие дворяне из города и окрестностей. Дю Геники были во главе С.-Жерменского предместья этого городка и к ним не имело доступа ни одно должностное лицо, посланное новой администрацией государства. Уже шесть лет, как священник начинает усиленно кашлять за обедней при щекотливых словах: Боже, спаси короля! Вот в каком положении была в Геранде политика.
Мушка – это игра, в которой играющим сдают по пять карт, а шестую открывают. Открытая карта определяет козыри. При всякой сдаче играющий может по желанию пасовать или принять участие в игре. В первом случае он проигрывает только свою ставку, так как пока в корзине нет ремизов, каждый играющий вносит небольшую сумму. Если играющий принимает участие в игре, то он должен взять взятку, стоимость которой является сообразно со ставкой: если в корзине набралось пять су, то взятка оценивается в одно су. Если он взятки не возьмет, то он попадает в мушку, т. е. он должен заплатить всю ставку, так что при следующей сдаче содержимое корзины значительно увеличивается. Все мушки записываются, и жетоны, которыми производится временная расплата, складываются в корзину, причем жетоны, означающие более крупную стоимость, кладутся раньше. Те играющие, которые спасовали, тоже сбрасывают карты, но это не идет в расчет. Карты, оставшиеся после сдачи, раздаются играющими, как и в экарте, но в мушке соблюдается очередь. Все берут столько карт, сколько хотят, так что может случиться, что карт хватит только на двух играющих. Открытая карта принадлежит сдававшему, т. е. последнему в очереди: он имеет право обменять на нее какую-нибудь свою карту. Особенно большое значение имеет одна карта, под названием Мистигри: валет треф. Игра эта, очень в сущности простая, не лишена занимательности. В ней может проявиться у игроков свойственная людям алчность, и тонкая дипломатия, и выразительная игра лица. В замке дю Геников играющие брали по двадцать жетонов всего на сумму пять су, что составляло ставку в пять лиардов, сумму крупную в глазах игроков. При очень большом счастье можно было выиграть пятьдесят су, т. е. столько, сколько никто не тратил в Геранде в день. Поэтому не удивительно, что мадемуазель де Пен-Холь относилась к этой игре, которая по своим невинным свойствам может быть приравнена, если верить словам Академии, только к игре в пьяницу, со всей страстью, которую может проявить охотник по какой-нибудь очень интересной охоте. Мадемуазель Зефирина, участвовавшая в половине ставки баронессы, относилась к мушке с таким же интересом. Поставить один лиард с шансами выиграть сразу пять, это для старой скопидомки была целая сложная финансовая операция, и она решалась на нее с таким же душевным трепетом, какое может разве испытать жадный биржевой спекулянт на бирже при игре на понижение и повышение. По дипломатическому договору, состоявшемуся в сентябре 1825 г., после одного вечера, когда мадемуазель де Пен-Холь проиграла тридцать семь су, было постановлено, что игра прекращается, как только проигравший десять су изъявит на то желание. Вежливость не позволяла причинять другому игроку неприятность видеть, что игра в мушку продолжается без его участия. Но всякая страсть ведет к обходу закона. Шевалье и барон, эти два престарелых политикана, нашли способ обойти постановление. Если у игроков будет сильное желание продолжать интересную партию, то отважный шевалье дю Хальга, очень расточительный и щедрый на то, что не касалось лично его издержек, всегда предлагал вперед десять жетонов мадемуазель де Пен-Холь или Зефирине. Если только одна из них или обе вместе успевали проиграть по пяти су при первом выигрыше, они должны ему уплатить долг. Старый холостяк может позволить такую любезность по отношению к барышням. Барон со своей стороны также предлагал жетоны старым девам, чтобы продолжать партию. Обе скупые старухи всегда соглашались на это, но предварительно, по обычаю барышень, долго заставляли себя упрашивать. Особенно была оживленна мушка, когда у тетки гостила одна из девиц Кергаруэт – просто Кергаруэт: здесь никто из них не мог добиться, чтобы их называли Кергаруэт де Пен-Холь, даже слуги получили на этот счет такое приказание раз навсегда. Тетка брала ее с собой на мушку к дю Геникам, как на какое-нибудь величайшее веселье. Молодой девушке при этом внушалось, чтобы она была как можно любезнее, что, впрочем, ей не было трудно, если тут находился красавец Калист, обожаемый всеми четырьмя барышнями де Кергаруэт. Молодые девицы эти, воспитанные по-новому, нисколько не дорожили пятью су и за ними записывались мушка за мушкой: иногда за ними числилось до ста су, суммами от двух с половиной су до десяти. Эти вечера очень волновали старую слепую. Взятки именовались в Геранде руками. Баронесса пожимала ногу своей золовки столько раз, сколько по ее картам можно было рассчитывать взять верных взяток. Играть или не играть, особенно когда корзина была полна, было вопросом очень важным и в душе играющих жадность наживы и боязнь рискнуть производили мучительную тревогу. Каждый спрашивал остальных: «Будете ли вы ходить?» и при этом с завистью смотрел на тех, у кого карты были достаточно хороши, чтобы попытать счастья, и чувствовал отчаяние, если самому приходилось пасовать. Если Шарлотта де Кергаруэт, слывшая у них за отчаянную благодаря смелой игре, рисковала счастливо, то на возвратном пути ее тетка, в случае, если сама не была в выигрыше, обращалась с ней холодно и читала ей наставление: у нее характер слишком решительный, молодая особа не должна так идти напролом, играя с почтенными и уважаемыми особами; и манера схватывать корзину, и бросать карты у нее слишком резка; для молодой девушки нужно побольше сдержанности и скромности; над чужим несчастьем нельзя смеяться и т. д. Тысячу раз в год повторялись в их кружке одни и те же, но всякий раз казавшиеся новыми шуточки о том, кого надо запрячь в корзинку, если она слишком была полна: один предлагал запрячь быков, другой – слонов, лошадей или ослов, собак. И за двадцать лет никому не пришло в голову, что эти шутки повторяются изо дня в день. Такие предложения всегда встречались улыбкой. Повторялись каждый раз и слова сожаления, вырывавшиеся у тех, кто оставался посторонним зрителем, когда полная корзина доставалась одному из игроков. Карты сдавались очень медленно, размеренными движениями. Разговаривали играющие между собой не иначе, как прижав карты к груди. Эти благородные и уважаемые люди имели очаровательную слабость – не доверять друг другу в игре. Мадемуазель де Пен-Холь почти всегда укоряла священника в плутовстве, если он брал себе корзину.








