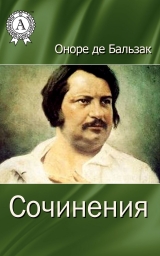
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Оноре де'Бальзак
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 38 страниц)
– Я не хочу лишать вас удовольствия, – объяснила она.
Его сейчас же подозвала к себе Дельфина, радуясь своему успеху и горя желанием сложить к ногам Эжена дань поклонения, собранную ею в высшем свете, где она теперь надеялась быть принятой.
– Как вы находите Нази? – спросила она.
– Она пустила в оборот все, даже смерть своего отца, – ответил Растиньяк.
К четырем часам утра толпа в гостиных начала редеть. Вскоре умолкли звуки музыки. В большой гостиной сидели только герцогиня де Ланже и Растиньяк. Виконтесса, в надежде встретить Эжена одного, пришла туда, простившись с виконтом де Босеаном, который, уходя спать, сказал ей еще раз:
– Напрасно, дорогая, вы в вашем возрасте хотите стать затворницей! Оставайтесь с нами.
Увидев герцогиню, г-жа де Босеан невольным возгласом выразила удивление.
– Клара, я догадалась, – сказала герцогиня де Ланже. – Вы уезжаете и больше не вернетесь. Но вы не уедете, пока не выслушаете меня и пока мы не поймем друг друга.
Она взяла свою приятельницу под руку, увела в соседнюю гостиную и там, со слезами на глазах, крепко обняв ее, поцеловала в обе щеки.
– С вами, дорогая, я не могу расстаться холодно, это было бы для меня чересчур тяжким укором. Вы можете положиться на меня, как на самое себя. Сегодня вечером вы показали ваше величие, я почувствовала, что вы мне близки по душе, и мне хотелось бы вам это доказать. Я виновата перед вами, я не всегда хорошо относилась к вам; простите мне, дорогая; я осуждаю в себе все, что вам могло причинить боль, я бы хотела взять обратно все прежние свои слова. Одинаковое горе породнило наши души, и я не знаю, кто из нас будет несчастнее. Генерал де Монриво не приехал сюда вечером, – вы понимаете, что это значит? Кто видел вас на этом бале, Клара, тот не забудет вас никогда. А я? Я делаю последнюю попытку. Если меня постигнет неудача, уйду в монастырь! Но куда вы едете?
– В Нормандию, в Курсель, любить, молиться до того дня, когда господь возьмет меня из этого мира.
– Господин де Растиньяк, идите сюда, – сердечно сказала виконтесса, вспомнив, что Эжен ждет.
Растиньяк стал на одно колено, взял руку виконтессы и поцеловал.
– Прощайте, Антуанетта, – сказала г-жа де Босеан, – будьте счастливы. Что касается до вас, то вы счастливы и так, – обратилась она к студенту, вы молоды, вы еще можете во что-то верить. Как некоторые счастливцы в их смертный час, я в час ухода своего от светской суеты нашла здесь около себя святые, чистые волненья близких мне людей.
Растиньяк ушел около пяти часов утра, когда г-жа де Босеан уже села в дорожную карету и простилась с ним в слезах, доказывавших, что и самые высокопоставленные люди подчинены законам чувства и знают в жизни горе, хотя есть личности, которые, чтобы угодить толпе, стараются доказать обратное. В холодную, ненастную погоду Эжен пешком вернулся в «Дом Воке». Его образование завершалось.
– Нам не спасти беднягу Горио, – сказал Бьяншон, когда Эжен вошел к своему соседу.
– Друг мой, слушай, – обратился к нему Эжен, взглянув на спавшего старика, – иди к той скромной цели, которой ты ограничил свои желания. Я попал в ад и в нем останусь. Всему плохому, что будут говорить тебе о высшем свете, верь! Нет Ювенала, который был бы в силах изобразить всю его мерзость, прикрытую золотом и драгоценными камнями.
На следующий день, часов около двух, Растиньяка разбудил Бьяншон: ему было необходимо выйти из дому, и он просил Эжена побыть с папашей Горио, так как состояние больного сильно ухудшилось за утро.
– Старичку осталось жить дня два, а может быть, только часов шесть, сказал медик, – и все-таки нельзя прекращать борьбу с болезнью. Надо будет применять лечение, которое стоит недешево. Конечно, мы останемся сиделками при старике, но у меня самого нет ни одного су. Я вывернул все его карманы, перерыл все шкапы, а в итоге – ноль. Я спрашивал его, когда он был в сознании, и получил ответ, что у него нет ни лиара. Сколько у тебя?
– У меня осталось двадцать франков, – ответил Растиньяк, – но я пойду сыграю на них и выиграю.
– А если проиграешь?
– Потребую денег от его зятьев и дочерей.
– А если не дадут? – спросил Бьяншон. – Впрочем, сейчас самое нужное не добывать деньги, а обложить ему ноги горячими горчичниками, от ступней до половины ляжек. Если он начнет кричать, значит есть надежда. Как ставить горчичники, ты знаешь. Да и Кристоф тебе поможет. А я пойду к аптекарю и поручусь, что будет уплачено за все лекарства, которые нам придется забирать. Жаль, что беднягу нельзя перенести в нашу больницу, там ему было бы лучше. Ну, идем, я все объясню тебе на месте, а ты не отлучайся, пока я не вернусь.
Молодые люди вошли в комнату, где лежал старик. Взглянув на его искаженное болью, бледное, резко осунувшееся лицо, Растиньяк ужаснулся такой перемене.
– Ну, как, папа? – спросил он, наклоняясь над постелью.
Горио поднял тусклые глаза и очень внимательно посмотрел на Эжена, но не узнал его. Студент не выдержал, и слезы выступили на его глазах.
– Бьяншон, не надо ли завесить окна?
– Нет, внешняя среда на него уже не действует. Было бы очень хорошо, если бы он чувствовал тепло и холод; но все равно придется топить печь, чтобы приготовлять отвары, да и для других надобностей. Я пришлю тебе несколько вязанок дров, будем их жечь, пока не раздобудем еще. Вчера и сегодня ночью я сжег твои дрова и весь торф, какой нашел у этого бедняги. Сырость была такая, что капало со стен. Насилу я просушил комнату. Кристоф подмел ее, а то была настоящая конюшня. Я покурил можжевельником, уж чересчур воняло.
– Боже мой! А его дочери?! – воскликнул Растиньяк.
– Слушай, если он попросит пить, дай ему вот этого, – сказал медик, указывая на большой белый кувшин. – Если услышишь, что он жалуется на боль, а живот будет твердый и горячий, тогда пускай Кристоф поможет поставить ему… ты знаешь что. Если он ненароком придет в возбужденное состояние, начнет много говорить, даже будет чуточку не в своем уме и понесет чушь, не останавливай. Это неплохой признак. Но все-таки пошли Кристофа в больницу Кошена. Наш врач, я сам или мой товарищ придем сделать ему прижигания. Сегодня утром, пока ты спал, мы собрали большой консилиум с участием одного ученика Галля, а также главного врача из нашей больницы и главного врача из Отель-Дье. Им кажется, что они установили очень интересные симптомы, и мы будем следить за развитием болезни для уяснения ряда вопросов, весьма важных с научной стороны. Один из этих врачей уверяет, что если давление серозной жидкости действует на один орган сильнее, чем на другой, то это может вызвать совершенно особые явления. В случае, если он заговорит, прислушайся внимательно, чтобы определить, в каком кругу понятий станут вращаться его разговоры: чем они будут вызываться – воспоминанием, мыслями о будущем или суждением о настоящем, занимают ли его вопросы чувства или материального порядка, не делает ли он подсчетов, не возвращается ли к прошлому: короче говоря, ты должен дать нам совершенно точный отчет. Возможно, что сразу произошло кровоизлияние в мозг, тогда он умрет в состоянии того же слабоумия, какое у него сейчас. В болезнях подобного рода все необычно. Когда удар случается вот в этом месте, – сказал Бьяншон, указывая на затылок больного, – то бывают примеры странных явлений: работа мозга частично восстанавливается, и тогда смерть наступает позже. Кровоизлияние может и не дойти до мозга, а избрать другие пути, но направление можно установить только при вскрытии. В больнице для неизлечимых есть слабоумный старик, у него кровоизлияние пошло вдоль позвоночника; страдает он ужасно, но живет.
– Хорошо они повеселились? – спросил папаша Горио, узнав Эжена.
– Он только и думает о дочерях, – сказал Бьяншон. – За эту ночь он повторил раз сто: «Они танцуют! На ней новое платье!» Звал их по именам. Черт подери! Своими причитаниями он и меня заставил прослезиться: «Дельфина, моя Дельфина! Нази!» Честное слово, было от чего расплакаться.
– Дельфина тут, правда? Я так и знал, – вымолвил старик.
И глаза его с какой-то неестественной живостью оглядывали дверь и стены.
– Я сойду вниз и велю Сильвии приготовить горчичники, момент благоприятный, – крикнул Бьяншон.
Растиньяк остался вдвоем со стариком и, сидя у него в ногах, уставился глазами на старческую голову: ему и жутко и горько было на нее смотреть.
«Виконтесса де Босеан бежала, этот умирает, – подумал Растиньяк. – Люди с тонкой душой не могут долго оставаться в этом мире. Да и как благородным, большим чувствам ужиться с мелким, ограниченным, ничтожным обществом?»
Картины великосветского бала, где он был гостем, возникли в его памяти разительным контрастом с этим смертным одром. Неожиданно вошел Бьяншон.
– Слушай, Эжен, я сейчас виделся с нашим главным врачом и во весь дух понесся сюда. Если у больного появятся признаки рассудка, если он заговорит, поставь ему продольный горчичник, так чтобы охватить спину от шеи до крестца, и пошли за нами.
– Какой ты милый, Бьяншон, – сказал Эжен.
– О, тут дело касается науки! – ответил медик со всем пылом новообращенного.
– Значит, только я ухаживаю за бедным стариком из любви? – спросил Растиньяк.
– Ты бы этого не говорил, если бы видел меня сегодня утром, – возразил Бьяншон, не обижаясь на это замечание. – Врачи уже привычные видят только болезнь, а я, братец мой, пока еще вижу и больного.
Он оставил со стариком Эжена и ушел, предчувствуя близкий кризис, действительно не замедливший наступить.
– А-а! Это вы дитя мое! – сказал папаша Горио, узнав Эжена.
– Вам лучше? – спросил студент, беря его руку.
– Да, мне сдавило голову, точно тисками, но теперь стало отпускать. Видели вы моих дочек? Скоро они придут сюда, прибегут сейчас же, как только узнают, что я болен. Как они ухаживали за мной на улице Жюсьен! Боже мой! Мне бы хотелось, чтобы к их приходу в комнате было чисто. Тут ходит один молодой человек, он сжег у меня весь торф.
– Я слышу, Кристоф тащит сюда по лестнице дрова, их вам прислал этот молодой человек.
– Это хорошо! Только чем заплатить за дрова? У меня, сынок, ни одного су. Я все отдал, все. Я нищий. Платье-то с блестками, по крайности, было ли красиво? (Ах, как болит!) Спасибо, Кристоф, бог вам воздаст, а у меня нет ничего.
– Я заплачу за все и тебе и Сильвии, – шепнул Эжен на ухо Кристофу.
– Кристоф, дочки говорили, что сейчас приедут, – ведь правда? Сходи к ним еще раз, я дам тебе сто су. Скажи, что я чувствую себя плохо, хочу перед смертью обнять их и повидать еще разок. Скажи им это, только не очень их пугай.
Растиньяк сделал знак Кристофу, и тот вышел.
– Они приедут, – снова заговорил старик. – Я-то их знаю. Добрая моя Фифина, какое горе я причиню ей, ежели умру! Нази тоже. Я не хочу смерти, чтобы они не стали плакать. Милый мой Эжен, умереть – ведь это больше не видеть их. Там, куда уходят все, я буду тосковать. Разлука с детьми – вот ад для отца, и я уже приучался к нему с той поры, как они вышли замуж. Улица Жюсьен – вот был рай! Скажите, а если я попаду в рай, смогу ли я, как дух, вернуться на землю и быть с ними? Я слышал разговоры о таких вещах. Правда ли это? Вот сейчас я будто наяву их вижу, какими они были на улице Жюсьен. По утрам дочки сходили вниз. «Доброе утро, папа», – говорили они. Я сажал их к себе на колени, всячески их подзадоривал, шутил. Они были так ласковы со мной. Всякий день мы завтракали вместе, вместе обедали, – словом, я был отцом, я наслаждался близостью ко мне детей. Когда мы жили на улице Жюсьен, они не умничали, ничего не понимали в жизни и очень меня любили. Боже мой! Зачем не остались они маленькими? (О, какая боль! Вся голова трещит!) Ай, ай, простите меня, детки, мне ужасно больно; значит, это уж по-настоящему мучительно, а то ведь выучили меня терпеть боль. Боже мой! Только бы держать в своих руках их руки, и я бы не чувствовал никакой боли. Как вы думаете, они придут? Кристоф такой дурак! Следовало бы пойти мне самому. Вот он увидит их. Да-а! Вчера вы были на балу. Расскажите же мне про них, как и что? Они, конечно, ничего не знали о моей болезни? Бедные девочки не стали бы, пожалуй, танцовать! Я не хочу больше болеть. Я им еще очень нужен. Их состояние под угрозой. Каким мужьям они достались! Вылечите меня! Вылечите! (Ох, как больно! Ай, ай, ай!) Вы сами видите, нельзя меня не вылечить: им нужны деньги, а я знаю, куда поехать, где их заработать. Я поеду в Одессу делать чистый крахмал. Я дока, я наживу миллионы. (Ох, уж очень больно!)
С минуту Горио молчал, видимо изо всех сил стараясь преодолеть боль.
– Будь они здесь, я бы не жаловался, – сказал он. – С чего бы я стал жаловаться?
Он стал дремать и почти уснул. Кристоф вернулся. Растиньяк думал, что Горио спит, и не остановил Кристофа, начавшего громко рассказывать о том, как выполнил он поручение.
– Сударь, сперва пошел я к графине, только поговорить с ней нельзя было никак: у нее нынче большие нелады с мужем. Я все настаивал, тогда вышел сам граф и сказал мне этак: «Господин Горио умирает, ну так что же! И хорошо делает. Мне нужно закончить с графиней важные дела, она поедет, как все кончится». Видать, что он был в сердцах. Я было собрался домой, а тут графиня выходит в переднюю, – а из какой двери, я и не приметил, – и говорит: «Кристоф, скажи отцу, что у меня с мужем спор, я не могу отлучиться: дело идет о жизни или смерти моих детей. Как все закончится, я приеду». А что до баронессы, тут история другая! Ее я вовсе не видал, так что и говорить с ней не пришлось, а горничная мне сказала: «Ах, баронесса вернулась с бала в четверть шестого и сейчас спит; коли разбужу ее раньше двенадцати, она забранит. Вот позвонит мне, тогда я ей и передам, что отцу хуже. Плохую-то весть сказать всегда успеешь». Как я ни бился, все зря. Просил поговорить с бароном, а его не оказалось дома.
– Так не приедет ни одна из дочерей? – воскликнул Растиньяк. – Сейчас напишу обеим.
– Ни одна! – отозвался старик, приподнимаясь на постели. – У них дела, они спят, они не приедут. Я так и знал. Только умирая, узнаешь, что такое дети. Ах, друг мой, не женитесь, не заводите детей! Вы им дарите жизнь, они вам – смерть. Вы их производите на свет, они вас сживают со свету! Не придут! Мне это известно уже десять лет. Я это говорил себе не один раз, но не смел этому верить.
На воспаленные края его век скатились две слезы и так застыли.
– Ах, кабы я был богат, кабы не отдал им свое богатство, а сохранил у себя, они были бы здесь, у меня бы щеки лоснились от их поцелуев. Я бы жил в особняке, в прекрасных комнатах, была бы у меня прислуга, было бы мне тепло; дочери пришли бы все в слезах, с мужьями и детьми. Так бы оно и было! А теперь ничего. За деньги купишь все, даже дочерей. О, мои деньги, где они?! Если бы я оставлял в наследство сокровища, дочери ходили бы за мной, лечили меня; я бы и слышал и видел их. Ах, мой сынок, единственное мое дитя, я предпочитаю быть бесприютным, нищим. По крайности, когда любят бедняка, он может быть уверен, что любим сам по себе. Нет, я хотел бы быть богатым, тогда бы я их видел… Хотя, правда, как знать? У них обеих сердца каменные. Я чересчур любил их, чтобы они меня любили. Отец непременно должен быть богат, он должен держать детей на поводу, как норовистых лошадей. А я стоял перед ними на коленях. Негодницы! Они достойно завершают свое отношение ко мне за все эти десять лет. Если бы вы знали, до чего они были внимательны ко мне в первые годы замужества! (Ох, как болит, какая мука!) Я дал за каждой восемьсот тысяч франков; тогда еще им самим, да и мужьям их было неловко обращаться со мною бесцеремонно. Меня принимали: «Милый папа, садитесь вот сюда. Дорогой папа, садитесь лучше там». Для меня всегда стоял на столе прибор. Мужья относились ко мне почтительно, и я обедал с ними. Им казалось, что у меня есть еще кое-что. Откуда они это взяли? Я никогда не говорил им про свои дела. Но когда человек дает в приданое восемьсот тысяч, за ним стоит поухаживать. И за мной всячески ухаживали, – конечно, ради моих денег. Люди очень неприглядны. Я-то на них насмотрелся! Меня возили в карете по театрам, я и на вечерах сидел у них сколько угодно. Словом, они называли себя моими дочерьми, признавали меня своим отцом. Я еще не потерял сметливости, и от меня нескроешь ничего. Все доходило до меня и пронзало сердце. Я хорошо видел, что это все одно притворство, а помочь горю было нечем. У них я чувствовал себя не так свободно, как за столом здесь, внизу. Я не знал, что и как сказать. Бывало, кто-нибудь из великосветских гостей спросит на ухо моих зятьев:
– Это кто такой?
– Это отец – золотой мешок, богач.
– Ах! Черт возьми! – слышалось в ответ, и на меня смотрели с уважением… к моим деньгам. Конечно, иной раз я бывал им немножко в тягость, но ведь я искупал свои недостатки. А кто без недостатков? (Голова моя – сплошная рана!) Сейчас я мучаюсь так, что можно умереть от одной этой муки, и вот, дорогой мой Эжен, она – ничто в сравнении с той болью, какую причинила мне Анастази одним своим взглядом, когда она впервые дала понять мне, что я сказал глупость и осрамил ее. От ее взгляда у меня вся кровь отхлынула от сердца. Мне захотелось узнать, в чем дело, но я узнал только одно, что на земле я лишний. Для утешения я на другой день пошел к Дельфине, но там тоже сделал промах и прогневил дочку. От этого я стал как не в своем уме. Целую неделю я не знал, как мне быть; пойти к ним не решался, боясь упреков, и вышло, что двери их домов закрылись для меня! Господи боже мой! Ты же знаешь, сколько я вытерпел страданий, горя; ты вел счет тяжким моим ранам за все то время, которое меня так изменило, состарило, покрыло сединой, совсем убило; почему же ты заставляешь меня мучиться теперь? Я вполне искупил свой грех – свою чрезмерную любовь. Они жестоко отплатили мне за мое чувство, – как палачи, они клещами рвали мое тело. Что делать! Отцы такие дураки! Я так любил дочерей, что меня всегда тянуло к ним, как игрока в игорный дом. Дочери были моим пороком, моей любовной страстью, всем! Обеим чего-нибудь хотелось, каких-нибудь там драгоценных безделушек; горничные говорили мне об этом, и я дарил, чтобы они получше приняли меня. Все-таки дочери дали мне несколько уроков, как держаться в светском обществе. Но не стали ждать результатов, а только краснели за меня. Да, да, вот и давай хорошее воспитание своим детям! Не мог же я в моем возрасте поступить в школу. (Боже, какая ужасная боль! Врачей! Врачей! Если мне вскроют голову, мне станет легче!) Дочки, дочки Анастази, Дельфина! Я хочу их видеть! Пошлите за ними жандармов, приведите силой! За меня правосудие, за меня все – и природа и кодекс законов. Я протестую. Если отцов будут топтать ногами, отечество погибнет. Это ясно. Общество, весь мир держится отцовством, все рухнет, если дети перестанут любить своих отцов. О, только бы их видеть, слышать; все равно, что они будут говорить, только бы я слышал их голоса, особенно Дельфины, это облегчило бы мне боль. Но когда они будут здесь, попросите их не смотреть на меня так холодно, как они привыкли. Ах, добрый друг мой, господин Эжен, вы не знаете, каково это видеть, когда золото, блестевшее во взгляде, вдруг превращается в серый свинец. С того дня, как их глаза перестали греть меня своими лучами, здесь для меня всегда была зима, мне ничего не оставалось, как глотать горечь обиды. И я глотал! Я жил, чтоб подвергаться лишь унижениям и оскорблениям. Я так любил обеих, что терпел все поношения, ценой которых я покупал постыдную маленькую радость. Отец украдкой видит дочерей! Я отдал им всю свою жизнь, – они сегодня не хотят отдать мне даже час! Томит жажда, голод, внутри жжет, а они не придут облегчить мою агонию, – я ведь умираю, я это чувствую. Видно, они не понимают, что такое попирать ногами труп своего отца! Есть бог на небе, и он мстит за нас, отцов, хотим мы этого или не хотим. Нет, они придут! Придите, мои миленькие, придите еще раз поцеловать меня, дайте вместо предсмертного причастия последнее лобзанье вашему отцу, он будет молить бога за вас, скажет ему, что вы были хорошими дочерьми, будет вашим заступником перед ним! В конце концов вина не ваша. Друг мой, они не виноваты. Скажите это всем, всему свету, чтоб не осуждали их из-за меня. Мой грех! Я сам их приучил топтать меня ногами. Мне это нравилось. Но до этого нет дела никому, ни человеческому, ни божьему правосудию. Бог будет несправедлив, если накажет их за меня. Я не умел себя поставить, я сделал такую глупость, что отказался от своих прав. Ради них я принижал самого себя! Чего же вы хотите! Самая лучшая натура, лучшая душа не устояла бы и соблазнилась бы из-за такой отцовской слабости. Я жалкий человек и наказан поделом. Один я был причиной распущенности дочерей, я их избаловал. Теперь они требуют наслаждений, как раньше требовали конфет. Я потакал всем их девичьим прихотям. В пятнадцать лет у них был собственный выезд! Ни в чем не было им отказа. Виноват один я, но вся вина в моей любви. Их голоса хватали меня за сердце. Я слышу их, они идут. О да, они придут. Закон повелевает посетить умирающего отца, закон за меня. Да это и не требует расходов, кроме проезда на извозчике. Я оплачу его. Напишите им, что я оставлю в наследство миллионы! Честное слово! Я поеду в Одессу делать вермишель. Я знаю способ. С моим проектом можно нажить миллионы. Об этом еще никто не думал. При перевозке вермишель не портится, как зерно или мука. Да! Да! А крахмал?! В нем миллионы! Вы не солжете, так и говорите: миллионы. Если даже они придут из жадности, – пусть я обманусь, о их увижу. Я требую дочерей! Я создал их! Они мои! – сказал он, поднимаясь на постели и поворачивая к Эжену голову с седыми всклокоченными волосами и с грозным выражением в каждой черте лица, способной выразить угрозу.
– Ну же, лягте, милый папа Горио, сейчас я напишу им, – уговаривал его Эжен. – Как только вернется Бьяншон, я сам пойду к ним, если они не приедут.
– Если не приедут? – повторил старик рыдая. – Но я умру, умру в припадке бешенства, да, бешенства! Я уже в бешенстве. Сейчас я вижу всю свою жизнь. Я обманут! Они меня не любят и не любили никогда! Это ясно. Раз уж они не пришли, то и не придут. Чем больше они будут мешкать, тем труднее будет им решиться порадовать меня. Я это знаю. Они никогда не чувствовали ни моих горестей, ни моих мук, ни моих нужд, – не почувствуют и того, что я умираю; им непонятна даже тайна моей нежности. Да, я это вижу, они привыкли потрошить меня, и потому все, что я делал для них, теряло цену. Пожелай они выколоть мне глаза, я бы ответил им: «Нате, колите!» Я слишком глуп. Они воображают, что у всех отцы такие же, как их отец. Надо всегда держать себя в цене. Их дети отплатят им за меня. Ради самих себя они должны прийти. Предупредите их, что они готовят себе такой же смертный час. В одном этом преступленье они совершают все мыслимые преступления. Идите же, скажите им, что их отказ прийти – отцеубийство! За ними и так довольно злодеяний. Крикните им, вот так: «Эй, Нази! Эй, Дельфина! Придите к вашему отцу, – он был так добр к вам, а теперь мучится». Ничего и никого. Неужели я подохну, как собака? Заброшен – вот моя награда. Преступницы, негодяйки! Они противны мне, я проклинаю их, я буду по ночам вставать из гроба и повторять свои проклятья, а разве я в конце концов не прав, друзья мои? Ведь они плохо поступают, а? Что это я говорю? Вы же сказали, что Дельфина здесь! Она лучше. Да, да, Эжен, вы мой сын! Любите ее, будьте ей отцом. Другая очень несчастна. А их состояния! Боже мой! Пришел конец, уж очень больно! Отрежьте мне голову, оставьте только сердце.
– Кристоф, сходите за Бьяншоном и приведите мне извозчика, – крикнул Эжен, испуганный криками и жалобами старика. – Милый папа Горио, я сейчас еду за вашими дочерьми и привезу их.
– Насильно, насильно! Требуйте гвардию, армию, все, все! – крикнул старик, бросив на Эжена последний взгляд, где еще светился здравый ум. Скажите правительству, прокурору, чтобы их привели ко мне, я требую этого!
– Вы же их прокляли?
– Кто вам сказал? – спросил старик в недоумении. – Вы-то прекрасно знаете, что я люблю их, обожаю! Я выздоровлю, если их увижу. Ступайте, милый сосед, дорогое дитя мое, ступайте, вы хороший. Хотелось бы мне вас отблагодарить, да нечего мне дать, кроме благословения умирающего. Ах, хотя бы повидать Дельфину, попросить ее, чтобы она вознаградила вас. Если старшей нельзя, то привезите мне Дельфину. Скажите ей, что если она откажется приехать, то вы разлюбите ее. Она так любит вас, что приедет. Пить! Все нутро горит! Положите мне что-нибудь на голову, – руку бы дочери, – я чувствую, это бы спасло меня. Боже мой! Если меня не будет, кто же вернет им состояние? Хочу ехать в Одессу ради них… в Одессу, делать вермишель…
– Пейте, – сказал Эжен, левой рукой приподнимая умирающего, а в правой держа чашку с отваром.
– Вот вы, наверно, любите вашего отца и вашу мать! – говорил старик, слабыми руками сжимая Эжену руку. – Вы понимаете, что я умру, не повидав своих дочерей! Вечно жаждать и никогда не пить – так жил я десять лет. Зятья убили моих дочерей. Да, после их замужества у меня не стало больше дочерей. Отцы, требуйте от палат, чтобы издан был закон о браке! Не выдавайте замуж дочерей, если их любите. Зять – это негодяй, который развращает всю душу дочери, оскверняет все. Не надо браков! Брак отнимает наших дочерей, и, когда мы умираем, их нет при нас. Оградите права умирающих отцов. То, что происходит, – ужас! Мщения! Это мои зятья не позволяют им притти. Убейте их! Смерть этому Ресто, смерть эльзасцу, они мои убийцы. Смерть вам – иль отпустите дочерей! Конец! Я умираю, не повидав их! Их! Придите же, Нази, Фифина! Ваш папа уходит…
– Милый папа Горио, успокойтесь, лежите тихо, не волнуйтесь, не думайте.
– Не видеть их – вот агония!
– Вы скоро их увидите.
– Правда? – воскликнул старик в забытьи. – О, видеть их! Я их увижу, услышу их голоса. Я умру счастливым. Да я и не хочу жить дольше, я жизнью уж не дорожил, мои мученья все умножались. Но видеть их, притронуться к их платью, только к платью, ведь это же такая малость; почувствовать их в чем-нибудь! Дайте мне в руки их волосы… воло…
Он упал головой на подушку, точно его ударили дубиной. Руки его задвигались по одеялу, как будто он искал волосы своих дочерей.
– Я их благословляю, благословляю, – с усилием выговорил он и сразу потерял сознание.
В эту минуту вошел Бьяншон.
– Я встретился с Кристофом, сейчас он приведет тебе карету, – сказал Бьяншон.
Затем он осмотрел больного, поднял ему веко, и оба студента увидели тусклый, лишенный жизни глаз.
– Мне думается, он больше не придет в себя, – заметил студент-медик.
Бьяншон пощупал пульс у старика, затем положил руку ему на сердце.
– Машина работает, но в его состоянии – это несчастье. Лучше бы он умер!
– Да, правда, – ответил Растиньяк.
– Что с тобой? Ты бледен как смерть.
– Сейчас я слышал такие стоны, такие вопли души. Но есть же бог! О да, бог есть и сделает мир наш лучше, или же наша земля – нелепость. Если бы все это было не так трагично, я бы залился слезами, но ужас сковал мне грудь и сердце.
– Слушай, понадобится всего еще немало, откуда нам взять денег?
Растиньяк вынул свои часы.
– Возьми и заложи их поскорее. Я не хочу задерживаться по дороге, чтобы не терять ни одной минуты, жду только Кристофа. У меня нет ни лиара, извозчику придется заплатить по возвращении.
Растиньяк сбежал вниз по лестнице и поехал на Гельдерскую улицу, к графине де Ресто. Дорогой, под действием воображения, пораженного ужасным зрелищем, свидетелем которого он был, в нем разгорелось негодующее чувство. Войдя в переднюю, Эжен спросил графиню де Ресто, но услыхал в ответ, что она не принимает.
– Я приехал по поручению ее отца, он при смерти, – заявил Эжен лакею.
– Сударь, граф отдал нам строжайшее приказание…
– Если граф де Ресто дома, передайте ему, в каком состоянии находится его тесть, и скажите, что мне необходимо переговорить с ним немедленно.
Эжену пришлось ждать долго. «Может быть, в эту минуту старик уж умирает», – подумал он.
Наконец лакей проводил его в первую гостиную, где граф де Ресто, стоя у нетопленного камина, ждал Эжена, но не предложил ему сесть.
– Граф, – обратился к нему Растиньяк, – ваш тесть умирает в мерзкой дыре, и у него нет ни лиара, чтобы купить дров; он в самом деле при смерти и просит повидаться с дочерью…
– Господин де Растиньяк, как вы могли заметить, я не питаю особой нежности к господину Горио, – холодно ответил граф де Ресто. – Он злоупотребил положением отца графини де Ресто, он стал несчастьем моей жизни, я смотрю на него, как на нарушителя моего покоя. Умрет ли он, останется ли жив – мне все равно. Вот лично мои чувства по отношению к нему. Пусть порицают меня люди, я пренебрегаю их мнением. Сейчас я должен закончить очень важные дела, а не заниматься тем, как будут думать обо мне глупцы или безразличные мне люди. Что до графини Ресто, она не в состоянии поехать. Кроме того, мне нежелательно, чтобы она отлучалась из дому. Передайте ее отцу, что как только она выполнит свои обязательства в отношении меня и моего ребенка, она поедет навестить его. Если она любит своего отца, то может быть свободна через несколько секунд.
– Граф, не мне судить о вашем поведении, вы – глава вашей семьи, но я могу рассчитывать на ваше слово? В таком случае обещайте мне только сказать графине, что ее отец не проживет дня и уже проклял ее за то, что ее нет у его постели.
– Скажите ей это сами, – ответил де Ресто, затронутый чувством возмущения, звучавшим в голосе Эжена.
В сопровождении графа Растиньяк вошел в гостиную, где графиня обычно проводила время; она сидела, запрокинув голову на спинку кресла, вся в слезах, как приговоренная к смерти. Эжену стало ее жаль. Прежде чем посмотреть на Растиньяка, она бросила на мужа робкий взгляд, говоривший о полном упадке ее сил, сломленных физической и моральной тиранией. Граф кивнул головой, и она поняла, что это было разрешенье говорить.
– Сударь, я слышала все. Скажите папе, что он меня простил бы, если бы знал, в каком я положении. Я не могла себе представить этой пытки, она выше моих сил, но я буду сопротивляться до конца, – сказала она мужу. – Я мать!.. Передайте папе, что перед ним я, право, не виновата, хотя со стороны это покажется не так! – с отчаяньем крикнула она Эжену.
Растиньяк, догадываясь, какой ужасный перелом происходил в ее душе, откланялся супругам и удалился потрясенный. Тон графа де Ресто ясно говорил о бесполезности его попытки, и он понял, что Анастази утратила свободу.








