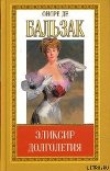Текст книги "Отец Горио (др. перевод)"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Да всюду – в Булонском лесу, в театре Буфф, дома.
И предприимчивый южанин постарался сблизиться с восхитительной графиней, насколько может молодой человек сблизиться с женщиной в продолжение кадрили и вальса. Эжен сказал, что он кузен госпожи де Босеан, и был приглашен госпожой де Ресто, принятой им за знатную даму, бывать у нее. Она так улыбнулась ему на прощанье, что он счел визит к ней необходимым. Ему посчастливилось встретить человека, который не стал издеваться над его невежеством, смертным грехом в глазах знаменитых повес того времени, – Мо ленкуров, Ронкеролей, Максимов де Трайль, де Марсэ, Ахуда-Пинто, Ванденесов, которые были тогда в зените своей фатовской славы и находились в связи с самыми изысканными женщинами – леди Брандон, герцогиней де Ланжэ, графиней де Кергарузет, госпожой де Сэриэн, герцогиней де Карильяно, графиней Ферро, госпожой де Ланти, маркизой д'Эгльмон, госпожой Фирмиани, маркизой де Листомер и маркизой д'Эпар, герцогиней де Мофриньез и дамами Гранлье. Итак, к счастью, наивный студент столкнулся с маркизом де Моприво, любовником герцогини де Ланжэ, генералом, простодушным, как дитя, и от него узнал, что графиня де Ресто живет на улице Эльдер.
Быть молодым, жаждать попасть в свет, стремиться к обладанию женщиной и видеть, как перед тобой открываются два дома сразу! Ступить ногой в Сен-Жерменском предместье у виконтессы де Босеан, преклонить колено на Шоссе д'Антен у графини де Ресто! Окинуть взором анфиладу парижских гостиных и считать себя достаточно красивым, для того чтобы найти там помощь и покровительство в сердце женщины. Чувствовать себя достаточно честолюбивым, чтобы одним великолепным прыжком вскочить на туго натянутый канат, по которому надо шагать с уверенностью никогда не оступающегося гимнаста, найдя в лице очаровательной женщины наилучшее орудие для поддержания равновесия! С такими думами, перед образом такой красавицы, встававшим при свете тлеющего торфа, между кодексом законов и нищетой, – кто, подобно Эжену, не старался бы проникнуть мысленно в глубь грядущего, кто не разукрашивал бы его успехами? Блуждающая мысль Эжена так живо рисовала ему будущие радости, что он уже видел себя подле госпожи де Ресто, как вдруг вздох, подобный стону святого Иосифа, нарушил безмолвие ночи и отозвался в сердце молодого человека, которому почудилось хрипение умирающего. Эжен тихонько отворил дверь и, выйдя в коридор, заметил полоску света под дверью папаши Горио. Опасаясь, не заболел ли его сосед, он приложил глаз к замочной скважине, взглянул в комнату и увидел старика за работой, показавшейся юноше столь преступной, что он счел долгом хорошенько рассмотреть для блага общества, что затевает в ночную пору так называемый макаронщик. Папаша Горио, по-видимому, привязав предварительно к перекладине опрокинутого стола блюдо и миску из позолоченного серебра, вертел нечто вроде каната вокруг этих предметов с богатыми украшениями, нажимая с такой силой, что сплющивал их, видимо для того, чтобы превратить в слитки.
«Черт возьми! Что за молодчина!» – подумал Растиньяк, увидя, как жилистые руки старика бесшумно с помощью веревки разминали позолоченное серебро, точно тесто. «Но кто же он, вор или укрыватель краденого, притворяющийся беспомощным дурачком и живущий по-нищенски, чтобы безопаснее заниматься своим промыслом?» – спрашивал себя Эжен, приподнимаясь на минуту.
Студент снова прильнул глазом к замочной скважине. Папаша Горио размотал канат, взял серебряную массу, положил ее на стол, предварительно разостлав на нем одеяло, и стал катать серебро, чтобы придать ему форму бруска; с операцией этой он справился изумительно легко.
«Да он силен, как король польский Август!» – подумал Эжен, когда брусок принял почти правильную круглую форму.
Папаша Горио грустно посмотрел на свою работу, слезы потекли у него из глаз, он задул витую восковую свечу, при свете которой скрутил серебро, и Эжен услышал, как он, вздыхая, лег.
«Он сумасшедший», – подумал студент.
– Бедное дитя! – громко произнес папаша Горио. После этих слов Растиньяк рассудил, что благоразумнее хранить молчание об этом происшествии и не осуждать необдуманно соседа. Он собирался вернуться к себе, как вдруг различил довольно неопределенный шум, как будто шарканье по лестнице войлочных туфель. Эжен прислушался и действительно уловил чередующееся дыхание двух человек. Он не слышал ни скрипа двери, ни шагов, но вдруг увидел слабый свет в третьем этаже у господина Вотрена.
«Однако сколько тайн в этом пансионе!» – подумал он.
Спустившись на несколько ступеней, Эжен стал прислушиваться, и звон золота поразил его слух. Вскоре свет погас, и дыхание двух человек послышалось снова, но дверь не скрипнула. Затем, по мере того, как эти люди спускались, шум стал постепенно затихать.
– Кто там? – крикнула госпожа Воке, отворив окно своей комнаты.
– Это я вернулся, мамаша Воке, – пробасил Вотрен.
«Странно! Кристоф запер дверь на засов, – раздумывал Эжен, вернувшись в свою комнату. – В Париже надо бодрствовать ночью, чтобы знать как следует, что творится вокруг тебя».
Отвлекшись этими мелкими происшествиями от своих честолюбивых любовных помыслов, Эжен принялся за работу. Но внимание его рассеивали подозрения, зародившиеся у него относительно папаши Горио, а еще больше – образ госпожи де Ресто, то и дело встававший перед ним, как вестник блестящей судьбы; в конце концов, он лег и заснул, как убитый. Из девяти ночей, которые молодые люди намереваются посвятить труду, семь отдаются сну. Надо иметь больше двадцати лет, чтобы бодрствовать ночью.
На другой день утром в Париже царил густой туман, один из тех туманов, которые обволакивают и окутывают его такой мглой, что самые аккуратные люди ошибаются во времени и опаздывают на деловые свидания. Каждый думает, что восемь часов, тогда как уже полдень. Было половина десятого, а госпожа Воке еще не вставала. Кристоф и толстуха Сильвия, тоже проспавшие, преспокойно попивали кофей со сливками с молока, предназначенного для пансионеров; Сильвия долго кипятила его, чтобы госпожа Воке не заметила этой незаконной «десятины».
– Сильвия, – сказал Кристоф, макая в кофей первый ломтик поджаренного хлеба, – господин Вотрен как-никак человек славный, а опять виделся этой ночью с какими-то двумя людьми. Если барыня будет спрашивать, то ей об этом ни гугу.
– А он тебе дал на чай?
– Дал сто су за месяц, помалкивай, дескать.
– Только он да госпожа Кутюр не трясутся над каждым грошом, а другие готовы девой рукой отобрать то, что дают нам на новый год правой, – сказала Сильвия.
– Да и что дают-то? – промолвил Кристоф. – Какую-нибудь монеточку в сто су. Вот уже два года, как папаша Горио сам чистит башмаки, а скряга Пуаре обходится без ваксы и скорее вылижет ее, чем станет мазать свои опорки. Плюгавый студентишка дает мне сорок су. Щетки стоят дороже, и вдобавок он продает свою старую одежонку. Ну и выжиги!
– Брось! – сказала Сильвия, смакуя кофей. – Лучше наших мест во всем квартале не сыщешь: чем тут не житье! А скажи-ка, Кристоф, не говорил ли с тобой кто-нибудь о дядюшке Вотрене?
– Да, встречаю я намедни на улице какого-то господина, а он и говорит мне: «Не у вас ли живет полный господин с крашеными бакенбардами?» А я ему в ответ: «Нет, сударь, он их не красит. Такому весельчаку, как он, некогда этим заниматься». Я передал это господину Вотрену, а он сказал: «Правильно, парень! Всегда так отвечай; нет ничего неприятнее, как обнаруживать свои слабости. Еще не женишься, пожалуй».
– А у меня на рынке хотели выведать, видала ли я, как он меняет рубашку. Потеха, да и только! Стой, – прервала она самое себя, – на церкви Валь де Грае бьет уже три четверти десятого, а никто и не шелохнется.
– Да все ушли из дому. Госпожа Кутюр со своей барышней отправилась в восемь причащаться к святому Этьену. Папаша Горио вышел с каким-то свертком. Студент вернется только после лекций, в десять часов. Я видел их, когда убирал лестницу; папаша Горио еще толкнул меня своим свертком, твердым, как железо. Чем-то он занимается, этот чудак? Другие над ним измываются, а все-таки он молодец, не им чета. Он дает не больно много, но дамы, к которым он меня иной раз посылает, отваливают знатные чаевые, а расфуфырены-то как!
– Те, кого он называет дочерьми? Их целая дюжина.
– Я ходил только к двум, к тем самым, что приезжали сюда.
– А вот барыня уже зашевелилась; сейчас подымет содом: надо пойти к ней. Кристоф, покарауль молоко от кота.
Сильвия поднялась к хозяйке.
– Что это, Сильвия! Уже без четверти десять; я заспалась, как сурок, а вы меня не разбудили. Никогда не бывало ничего подобного.
– Это все туман, хоть ножом режь.
– А как же завтрак?
– В ваших жильцов словно бес вселился; все задали лататы с петухами.
– Выражайся правильно, Сильвия, – возразила госпожа Воке. – Говорят: ушли ни свет, ни заря.
– Слушаю; буду говорить по-вашему, барыня. Как бы то ни было, вы можете позавтракать и в десять. Мишонетка и Пуаришко [4]4
В подлиннике Сильвия называет Пуаре «Пуаро», что по-французски значит «лук-порей».
[Закрыть]еще не подымались. Только они одни и остались дома и дрыхнут, как колоды; они и есть колоды.
– Послушай, Сильвия, ты называешь их вместе, как будто…
– Как будто что? – подхватила Сильвия, глупо захохотав. – Двое – значит пара.
– Вот что странно, Сильвия: как же это господин Вотрен вошел сегодня ночью, после того как Кристоф запер дверь на засов?
– Что вы, что вы, барыня! Он услыхал шаги господина Вотрена и спустился отворить ему, а вам показалось…
– Подай-ка мне кофту да иди поскорее стряпать завтрак. Приготовь из остатков баранины рагу с картошкой да подай печеных груш. Тех, что по два лиара штука.
Через несколько минут госпожа Воке спустилась вниз в тот момент, когда кот, сбросив лапой тарелку, прикрывавшую миску с молоком, торопливо лакал его.
– Киска! – крикнула она.
Кот удрал, потом вернулся и стал тереться об ее ноги.
– Не юли, не юли, старый плут! Сильвия! Сильвия!
– Чего изволите, барыня?
– Посмотри-ка, сколько кот вылакал!
– Это все скотина Кристоф, я ему велела накрыть на стол. Куда он запропастился? Не беспокойтесь, барыня: молоко пойдет на кофей папаши Горио. Я разбавлю его водой, он и не заметит. Он ни на что не обращает внимания, даже на то, что есть.
– Куда же отправился этот чудило? – спросила госпожа Воке, расставляя тарелки.
– Кто его знает? Какие-то темные делишки обделывает.
– Я заспалась, – сказала госпожа Воке.
– Зато барыня свежа, как роза…
В это мгновение раздался звонок, и в столовую вошел Вотрен, напевая баском:
Свет исходил я спозаранку,
И всюду видели меня…
– А-а! Здравствуйте, мамаша Воке! – сказал он, заметив хозяйку, и галантно заключил ее в объятия.
– Да ну вас, бросьте!
– Скажите лучше: «какой нахал!» Ну, скажите же! Вы не хотите этого сказать? Я помогу вам накрыть на стол. Я очень любезен, не правда ли?
Ласкал белянку и смуглянку,
Любил, вздыхал…
Я видел сегодня нечто необычайное…
…свой миг ценя.
– А что? – откликнулась вдова.
– Папаша Горио был в половине девятого на улице Дофин у золотых дел мастера, который скупает старое столовое серебро и галуны. Он продал ему за хорошие деньги позолоченную серебряную посуду. Хоть он и не специалист в этом деле, а скрутил ее ловко.
– Да ну, неужели?
– Да. Я возвращался домой, проводив одного приятеля, который укатил за границу на почтовых. Я подождал папашу Горио, чтобы посмотреть, что будет дальше. Потеха! Он вернулся в наш квартал, на улицу Грэ, и вошел в дом известного ростовщика – некоего Гобсека. Это пройдоха высшей марки, способный сделать домино из костей собственного отца, это еврей, араб, грек, цыган; ограбить его мудрено, он держит денежки в банке.
– Что же устраивает папаша Горио?
– Он ничего не устраивает, – сказал Вотрен, – он расстраивает свои дела. Болван так глуп, что разоряется на девчонок, а они…
– Вот он! – прервала Сильвия.
– Кристоф, – крикнул папаша Горио, – поди ко мне.
Кристоф последовал за папашей Горио и вскоре спустился обратно.
– Куда ты? – спросила слугу госпожа Воке.
– По поручению господина Горио.
– Что это такое? – промолвил Вотрен, вырывая из рук Кристофа письмо и читая вслух адрес: – «Графине Анастази де Ресто». Ты идешь туда? – продолжал он, возвращая письмо Кристофу.
– На улицу Эльдер. Мне приказано отдать это графине в собственные руки.
– А что там внутри? – спросил Вотрен, разглядывая письмо на свет. – Банковый билет? Нет.
Он слегка отклеил конверт.
– Оплаченный вексель! – воскликнул Вотрен. – Каналья! Да этот хрыч – галантный кавалер. Ступай, старый плут, – продолжал он, хлопнув Кристофа ручищей по голове так, что тот завертелся юлой. – Получишь на чай.
Стол был накрыт. Сильвия кипятила молоко. Госпожа Воке разводила огонь в печке с помощью Вотрена, продолжавшего напевать:
Свет исходил я спозаранку,
И всюду видели меня…
Когда все было готово, вошли госпожа Кутюр и мадемуазель Тайфер.
– Откуда вы так рано, моя милочка? – спросила госпожу Кутюр госпожа Воке.
– Мы ходили помолиться в церковь Сент-Этьен-дю-Мон. Ведь нам придется сегодня пойти к господину Тайферу. Бедная крошка, она дрожит, как осиновый лист, – продолжала госпожа Кутюр, садясь перед печкой и пододвигая к огню башмаки, от которых валил пар.
– Погрейтесь и вы, Викторина, – сказала госпожа Воке.
– Вы хорошо делаете, мадемуазель, что молитесь богу о смягчении сердца вашего батюшки, – промолвил Вотрен, придвигая сироте стул. – Но этого мало. Вам нужен друг, который взял бы на себя смелость сказать все напрямик этой свинье, этому дикарю; по слухам, у него три миллиона, и он не дает вам приданого. В наше время и хорошенькой девушке нужно приданое.
– Бедное дитя, – сказала госпожа Воке. – Погодите, душенька, ваш изверг-отец накличет беду на свою голову.
При этих словах на глаза Викторины навернулись слезы, и госпожа Кутюр знаком остановила вдову.
– Если бы только нам удалось повидаться с ним, если бы мне удалось поговорить с ним, передать ему последнее письмо его жены, – продолжала вдова комиссара-казначея. – Я никогда не решалась послать это письмо по почте; он знает мой почерк…
– О, женщины, невинные, несчастные, гонимые! – воскликнул Вотрен, перебивая ее. – Так вот до чего вы дошли! Через несколько дней я займусь вашими делами, и все пойдет как по маслу.
– О, сударь! – сказала. Викторина сквозь слезы, бросая на Вотрена жгучий взгляд, к которому тот остался вполне равнодушен. – Если бы вы могли как-нибудь попасть к моему отцу и сказать ему, что его любовь и честь моей матери для меня дороже всех богатств на свете! Если бы вам удалось сколько-нибудь смягчить его суровость, я молила бы бога за вас. Будьте уверены, я не осталась бы в долгу…
– Свет исходил я спозаранку, – иронически запел Вотрен.
В эту минуту вниз сошли Горио, мадемуазель Мишоно и Пуаре, может быть, привлеченные запахом подливки, которою Сильвия приправляла остатки баранины. В тот момент, когда все семь жильцов, здороваясь друг с другом, усаживались за стол, пробило десять, и с улицы донеслись шаги студента.
– А, господин Эжен! – сказала Сильвия. – Сегодня вы будете завтракать со всеми.
Студент поздоровался с пансионерами и сел подле папаши Горио.
– Со мной случилось необыкновенное приключение, – начал он, положив себе порцию баранины и отрезав кусок хлеба, который госпожа Воке по обыкновению смерила глазами.
– Приключение? – спросил Пуаре.
– Почему же это вас удивляет, старая шляпа? – бросил Вотрен. – Кому же иметь приключения, как не такому красавчику?
Мадемуазель Тайфер робко скользнула взглядом по молодому студенту.
– Расскажите же нам ваше приключение, – попросила госпожа Воке.
– Вчера я был на балу у своей кузины, виконтессы де Босеан, у нее великолепный дом, апартаменты, обитые шелком; она устроила пышный раут, и я веселился как коро…
– Лек, – перебил его Вотрен.
– Что вы хотите сказать, сударь? – воскликнул Эжен запальчиво.
– Я сказал: «Лек», так как корольки веселятся много больше королей.
– Это правда: я предпочел бы быть этой беззаботной птичкой, чем королем, потому что… – подхватил, как всегда, чужую мысль Пуаре.
– Словом, – продолжал студент, обрывая его, – я танцевал с одной из первых красавиц бала, восхитительной графиней, самым очаровательным созданием, какое я когда-либо видел, Ее голову украшали цветы персика, прекраснейший букет живых благоуханных цветов был приколот сбоку, у ее талии; но нет! Разве опишешь женщину, оживленную танцами? Надо было видеть ее собственными глазами. И что же! Сегодня, около девяти часов утра, я встретил эту божественную графиню; она шла пешком по улице Грэ. О, как у меня забилось сердце! Я вообразил…
– Что она идет сюда, – вставил Вотрен, многозначительно посматривая на студента. – Она, конечно, шла к ростовщику, дядюшке Гобсеку. Если вы покопаетесь в сердцах парижанок, то найдете, что первое место там занимает ростовщик, а уж потом идет любовник. Вашу графиню зовут Анастази де Ресто, а живет она на улице Эльдер.
При этом имени студент пристально взглянул на Вотрена. Папаша Горио резким движением поднял голову и окинул обоих собеседников блестящим и тревожным взглядом, поразившим пансионеров.
– Она, значит, уже пошла туда; Кристоф опоздает! – скорбно воскликнул Горио.
– Я угадал, – шепнул Вотрен на ухо госпоже Воке.
Горио ел машинально, не замечая, что ест. Никогда еще не казался он таким тупым и далеким от действительности, как в эту минуту.
– Какой идиот мог сказать вам ее имя, господин Вотрен? – спросил Эжен.
– Папаша Горио его прекрасно знает, почему же и мне не знать его? – ответил Вотрен.
– Господин Горио! – воскликнул студент.
– А, что такое? – отозвался несчастный старик. – Так она была очень хороша вчера?
– Кто?
– Госпожа де Ресто.
– Посмотрите-ка на старого скрягу, – сказала госпожа Воке Вотрену, – как у него загорелись глаза.
– Что же – она у него на содержании? – шепнула мадемуазель Мишоно студенту.
– О, да! она была безумно хороша, – продолжал Эжен, в которого папаша Горио впился глазами. – Не будь там госпожи де Босеан, моя божественная графиня была бы царицей бала; молодые люди только на нее и смотрели, я был двенадцатым в списке ее кавалеров: она танцевала все кадрили. Другие женщины из себя выходили от бешенства. Никому счастье не улыбалось вчера так, как ей. Недаром говорят, что нет ничего прекраснее фрегата под парусами, лошади на полном скаку и танцующей женщины.
– Вчера она – наверху колеса фортуны, у герцогини, – сказал Вотрен, – сегодня утром на последней ступеньке лестницы, у ростовщика. Таковы парижанки. Если мужья не в состоянии поддерживать их необузданную страсть к роскоши, они продаются. А если нельзя продаться, они готовы распотрошить родных матерей, лишь бы чем-то блеснуть. Словом, не брезгуют ничем. Старая песня!
Лицо папаши Горио, сиявшее, как солнце в ясный день, пока говорил студент, омрачилось при этом жестоком замечании Вотрена.
– Ну, где же ваше приключение? – сказала госпожа Воке. – Говорили вы с ней? Спросили вы ее, собирается ли она изучать право?
– Она не заметила меня, – ответил Эжен. – Но разве не странно встретить одну из красивейших женщин Парижа в девять утра на улице Грэ, когда она должна была вернуться с бала не раньше двух часов ночи? Нигде, кроме Парижа, невозможны такие приключения.
– Полноте, бывают приключения позабавнее этого! – воскликнул Вотрен.
Мадемуазель Тайфер едва слушала, все мысли ее были поглощены предстоящей попыткой добиться свидания с отцом. По знаку госпожи Кутюр она встала из-за стола; пора было одеваться. Когда обе дамы вышли, папаша Горио последовал их примеру.
– Ну, что, видели? – сказала госпожа Воке Вотрену и другим пансионерам. – Ясно, что его разорили женщины этого сорта.
– Я никогда не поверю, что красавица графиня де Ресто принадлежит папаше Горио! – воскликнул студент.
– Да мы и не имеем особого желания уверять вас, – прервал Вотрен. – Вы еще слишком молоды, чтобы знать всю подноготную Парижа. Попозже вы убедитесь, что тут можно встретить так называемых «людей со страстями»…
При этих словах мадемуазель Мишоно выразительно посмотрела на Вотрена. Она встрепенулась, как кавалерийская лошадь при звуке трубы.
– А-а! – протянул Вотрен, прерывая свою речь и бросая на старую деву многозначительный взгляд. – И у нас были страстишки?
Та потупила глаза, словно монахиня, увидевшая статуи.
– Так вот, – продолжал он, – когда таким людям втемяшится что-нибудь в башку, то у них этого колом не вышибешь. Их жажду утоляет только вода из определенного и часто гнилого источника; чтобы испить ее, они готовы продать жен и детей; готовы душу продать черту. Для одних этот источник – игра, биржа, собрание картин или коллекция насекомых, музыка; для других – женщина, которая умеет готовить лакомые блюда. Предложите таким господам хоть всех женщин мира, они наплюют на них; давай им обязательно ту, которая удовлетворяет их страсть. Часто женщина эта вовсе не любит их, помыкает ими, продает им очень дорого крохи наслаждения; и все-таки мои чудаки не унимаются и готовы заложить последнее одеяло в ломбарде, отнести ей последнее экю. Папаша Горио один из таких людей. Графиня обирает его, потому что он умеет молчать. Таков высший свет! Бедняга только о ней и думает, как видите. Пока в нем не заговорит страсть, это просто грубое животное. Но затроньте эту тему, и лицо его заблестит, как алмаз, Разгадать этот секрет немудрено. Сегодня утром он продал серебро в лом; я видел, как он входил к дядюшке Гобсеку, на улице Грэ. Следите шаг за шагом! Вернувшись, он послал к графине де Ресто болвана Кристофа, который показал нам адрес на конверте с оплаченным векселем. Раз графиня пошла к старому ростовщику, то, видно, деньги нужны были ей до зарезу. Папаша Горио, как любящий кавалер, раскошелился для нее. Не нужно большого ума, чтобы понять это. Это доказывает вам, мой юный друг, что в то время, как графиня смеялась, танцевала, гримасничала, играла персиковыми цветами и приподнимала платьице, – на душе у нее, как говорится, кошки скребли: она думала об опротестованных векселях, своих или своего любовника.
– После ваших слов мне захотелось во что бы то ни стало узнать правду. Завтра же пойду к госпоже де Ресто! – воскликнул Эжен.
– Да, – сказал Пуаре, – надо завтра же пойти к госпоже де Ресто.
– И вы, может быть, застанете там добряка Горио, который придет получить мзду за свою любезность.
– Однако, – промолвил Эжен с отвращением, – какое же болото ваш Париж.
– И презабавное болото, – подхватил Вотрен. – Те, кто пачкается в грязи, разъезжая в карете, – честные люди, а кто попадает в грязь, идя пешком, – те мошенники. Случись вам стянуть какую-нибудь безделицу, и вас будут показывать на площади перед Дворцом юстиции, как диковинку. А украдите миллион, и о ваших добродетелях будут кричать в гостиных. Вы платите тридцать миллионов жандармерии и судейским за поддержание этой морали. Красота!
– Как! – воскликнула госпожа Воке. – Папаша Горио превратил в слиток свой кофейный сервиз?
– Не было ли там двух голубков на крышке?
– Были.
– Он очень дорожил им, должно быть; он плакал, когда сплющивал чашку и блюдце. Я видел это случайно, – сказал Эжен.
– Этот сервиз был для него дороже жизни, – ответила вдова.
– Ну, вот видите, насколько страсть владеет этим чудаком! – воскликнул Вотрен. – Эта женщина умеет задеть его слабую струнку.
Студент поднялся к себе. Вотрен куда-то ушел. Через несколько минут госпожа Кутюр и Викторина сели в карету, нанятую Сильвией. Пользуясь лучшими часами дня, Пуаре отправился под ручку с мадемуазель Мишоно гулять в Ботанический сад.
– Словно женатые, – сказала толстая Сильвия. – Сегодня они в первый раз выходят вместе. Они так сухи, что, коли сшибутся, от них искры посыпятся.
– Берегись тогда шаль мадемуазель Мишоно, – посмеялась госпожа Воке, – она вспыхнет как трут.
Возвратясь в четыре часа вечера, Горио увидел при свете двух коптивших ламп Викторину, глаза которой были красны от слез. Госпожа Воке слушала рассказ о бесплодном утреннем визите к господину Тайферу. Ему надоели посещения дочери и старухи Кутюр, и он принял их, чтобы объясниться.
– Дорогая моя, – говорила госпожа Кутюр госпоже Воке, – представьте, он даже не предложил Викторине сесть, и ей пришлось все время стоять. А мне он сказал без гнева, совершенно хладнокровно, что мы можем избавить себя от труда приходить к нему, что мадемуазель (он даже не назвал ее дочерью) роняет себя в глазах своей назойливостью (это раз-то в год, чудовище!), что мать Викторины была бесприданницей, а поэтому мадемуазель не может ни на что притязать; словом, наговорил самых жестоких вещей, от которых бедная девочка залилась слезами. Крошка бросилась к ногам отца и смело заявила ему, что проявляет такую настойчивость только ради матери, что она готова безропотно покориться его воле, но умоляет прочесть завещание покойной; Викторина достала письмо и, подавая его отцу, говорила прекрасно, с большим чувством; не знаю, откуда у нее что бралось; сам господь бог наставлял ее, бедная девочка так воодушевилась, что, слушая ее, я ревела, как дура. А знаете, что делал тем временем этот изверг? Он стриг ногти; потом взял письмо, орошенное слезами несчастной госпожи Тайфер, и бросил его на камин, сказав: «Хорошо!» Он хотел поднять дочь, та ловила его руки, чтобы поцеловать, но он отнял их. Ну, не злодей ли это? Тут вошел этот долговязый болван, его сын, и даже не поздоровался с сестрой.
– Значит, оба они – чудовища? – вырвалось у папаши Горио.
– После этого, – продолжала госпожа Кутюр, не обратив внимание на восклицание добряка, – отец и сын ушли, раскланявшись со мной и ссылаясь на неотложные дела. Вот к чему свелось наше посещение. По крайней мере, он видел дочь! Не понимаю, как может он не признавать ее: она его вылитый портрет.
Столовники и жильцы прибывали один за другим; они здоровались, перекидываясь теми ничего не значащими словечками, к которым в некоторых кругах Парижа сводятся все остроты: глупость является основным их элементом, и вся соль их заключается в жесте или интонации. Этот своеобразный жаргон постоянно меняется. Шутка, на которой он построен, никогда не живет и месяца. Политическое событие, уголовный процесс, уличная песенка, гаерство актера – все дает пищу этой игре ума, состоящей главным образом в том, чтобы подхватывать идеи и слова на лету, как мяч, и словно ракеткой отбрасывать обратно. Недавнее изобретение диорамы, дающей более полную иллюзию, чем панорама, ввело в некоторых художественных мастерских обычай прибавлять к словам в шутку окончание «рама». Эту манеру привил в пансионе Воке молодой художник, один из завсегдатаев.
– Ну, милсдарь Пуаре, как ваше драгоценное здоровьерама? – бросил музейный служащий и, не дожидаясь ответа, обратился к госпоже Кутюр и Викторине: – Вы чем-то огорчены, сударыни?
– Будем ли мы сегодня объедать? – воскликнул Орас Бьяншон, студент-медик, приятель Растиньяка. – У меня животик подвело, он спустился usque ad talones [5]5
До самых пят (лат.).
[Закрыть].
– Здоровый хладорама! – сказал Вотрен. – Подвиньтесь-ка, папаша Горио! Какого черта! Вы заняли своей ножищей всю печку.
– Достопочтенный господин Вотрен, – отозвался Бьяншон, – почему вы говорите хладорама? Это ошибка, надо говорить холодорама.
– Нет, – сказал музейный служащий, – полагается говорить хладорама, соответственно – хладнокровный.
– А вот и его сиятельство маркиз де Растиньяк, доктор кривды! – закричал Бьяншон, обхватывая шею Эжена и сжимая ее так, будто собирался его задушить. – Эй, все сюда!
Мадемуазель Мишоно вошла незаметно, поздоровалась с собравшимися, не говоря ни слова, и подсела к трем женщинам.
– Меня всегда пробирает дрожь при виде этой старой летучей мыши, – шепнул Бьяншон Вотрену, показывая на мадемуазель Мишоно. – Я изучил френологию Галля и нахожу у нее Иудины шишки.
– А вы с Иудой знакомы? – спросил Вотрен.
– Кто же не встречал его! – ответил Бьяншон. – Честное слово, это седая старая дева напоминает мне длинных червей, которые истачивают в конце концов целую балку.
– Вы попали в точку, молодой человек, – промолвил Вотрен, разглаживая бакенбарды.
И, роза, прожила век роз она: не боле,
Как утро лишь одно.
– А-а! Вот отличнейший супорама, – произнес Пуаре, увидя Кристофа, который входил, почтительно держа миску с супом.
– Извините, сударь, – сказала госпожа Воке, – это суп из свежей капусты.
Все молодые люди покатились со смеху.
– Попался, Пуаре!
– Пуаррреша попался!
– Мамаша Воке получает два очка, – сказал Вотрен.
– Обратил ли кто-нибудь утром внимание на туман? – спросил служащий.
– Это был туман неистовый и беспримерный, – ответил Бьяншон, – туман зловещий, унылый, жестокий, удушливый, туман в духе Горио.
– Гориорама, – вставил художник, – потому что в нем не было видно ни зги.
– Эй, милорд Горио, о вашей милости говорят.
Папаша Горио, сидевший на самом конце стола, у двери, через которую вносили кушанья, поднял голову, взял из-под салфетки кусок хлеба и по старой купеческой привычке, дававшей себя порой знать, стал обнюхивать его.
– Чего это вы? По-вашему, хлеб не хорош, что ли? – язвительно крикнула ему госпожа Воке, заглушая шум ложек, тарелок и голосов.
– Напротив, сударыня, он выпечен из этампской муки первого сорта.
– А почему вы это определили? – спросил Эжен.
– По белизне, по вкусу.
– А вкус у вас в носу, раз вы нюхаете хлеб, – сказала госпожа Воке. – Вы стали так бережливы, что, наконец, изловчитесь питаться одним запахом: кухни.
– Возьмите тогда патент на изобретение, – крикнул музейный служащий, – разбогатеете.
– Полноте, папаша Горио делает это, чтобы доказать, что был макаронщиком, – сказал художник.
– Значит, ваш нос заменяет реторту? – опять спросил музейный служащий.
– Ре… что? – подхватил Бьяншон.
– Ре-шето.
– Ре-бро.
– Ре-вень.
– Ре-мень.
– Ре-дис.
– Ре-миз.
– Ре-зонанс.
– Ре-верано.
Эти восемь ответов раздались со всех концов столовой, следуя один за другим с быстротой беглого огня, и вызвали дружный смех, тем более что бедный папаша Горио смотрел на сотрапезников с придурковатым видом, как будто силясь понять незнакомый язык.
– Ре..? – спросил он Вотрена, занимавшего место рядом с ним.
– Ре-тирад, старина! – сказал Вотрен, хлопнув папашу Горио по макушке и нахлобучив ему шляпу на самые глаза.
Бедный старик, ошеломленный этим внезапным нападением, минуту оставался неподвижным. Кристоф унес тарелку бедняги, думая, что тот кончил суп; поэтому, когда папаша Горио, приподняв шляпу, взялся за ложку, он ударил ею по столу. Все расхохотались.
– Это глупая шутка, сударь, – сказал старик, – и если вы позволите себе еще раз что-нибудь подобное…
– Что будет тогда, папаша? – перебил его Вотрен.
– Когда-нибудь вы жестоко поплатитесь за это.