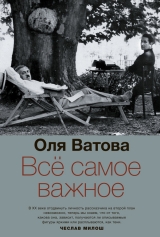
Текст книги "Все самое важное"
Автор книги: Оля Ватова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Мороз проникал до костей. Руки были в крови из-за того, что, падая, я пыталась зацепиться за все что попадалось. Я гладила мальчика по голове, просила, чтобы не оставлял меня. Он не отвечал. Но вскоре что-то в нем начало меняться. Может, наши общие тяготы на протяжении этого похода, мои бесконечные падения и призывы о помощи пробудили в мальчике чувство ответственности за меня, взрослую женщину, хотя сам он был еще ребенком. Я понимала, что этот подросток много пережил. Чувствовалось, что у него за плечами груз горьких испытаний.
Сколько времени длились наши мучения? Сколько раз мне казалось, что если упаду, то больше не встану? Щелкая зубами, качаясь на ногах, вцепившись в мальчика – единственную мою опору, я уже ощущала себя на последнем пределе. Вдруг где-то вдали показались дрожащие огоньки. Спасение!
Мы с трудом добрались до этих огоньков и там увидели Кореанчика с саночками. «Ну что, не подохли?» – весело спросил он. «Нет, не подохли», – в тон ему ответила я.
Огоньками светилась казахская палатка. Внутри нас сразу обволокло теплом. Я почувствовала себя «дома», «в семье». Выпила горячей воды и с разрешения хозяев улеглась. Добрые казахи, как же я благословляла их в те минуты.
Короткий сон, и мы снова двинулись в путь. Правда, уже было недалеко. Кореанчик вновь заторопился со своими саночками. А мальчик сам подал мне руку, чтобы помочь. Когда мы вошли в Жарму, то сразу расстались, не произнеся ни слова. Кореанчики спешили. Я шла среди спящих еще домов, ожидая пробуждения их жильцов. Ведь скоро многие начнут собираться на работу, и можно будет начать мои «торговые сделки».
Люди встречали меня вежливо, даже угощали чем могли. Оглядывали «товар», предлагали обмен. Их интересовала Польша. Хотелось услышать, как там живут. Разумеется, такие разговоры велись только при закрытых дверях. День пробежал быстро. Я обошла много домов и была довольна успехами. Под вечер пришла по указанному кем-то адресу и постучала в дверь. Мне открыла приятная молодая женщина. Я сразу почувствовала ее приветливость и теплоту. Она что-то взяла у меня, предлагая за это больше, чем другие. Я не знала, где ночевать, и она сразу предложила мне свой кров. Эта милая россиянка оказалась школьной учительницей.
Наступала ночь. Все мои дела уже были улажены. С полным мешком и рюкзаком я снова отправилась к моей новой знакомой. Еще за дверью я услышала звуки какой-то песни. А когда дверь открылась, почувствовала себя не очень уместным сейчас гостем. В глубине комнаты сидел молодой мужчина и слушал граммофон. Он смотрел на меня с явным неудовольствием. Я уже было собралась уходить, но тут женщина остановила меня и посадила пить чай с хлебом и куском белого сыра. Затем она сказала, что они сейчас уйдут, а я могу ложиться спать. И показала мне на единственную в доме кровать. Я очень растрогалась и смутилась. Они же быстро собрались и вышли. Мне было трудно заснуть, и я слышала, как через несколько часов женщина вернулась. На рассвете я взяла свое добро и на маленьком клочке бумаги написала: «Спасибо. Никогда не забуду».
Было сумрачно. Улицы Жармы еще пустовали. Я абсолютно не представляла, как буду возвращаться в Ивановку. Решила положиться на судьбу. Даже сейчас не могу понять такого легкомыслия. Внезапно я увидела какую-то старушку. Спросила, не знает ли она кого-нибудь, кто мог бы за плату провести меня через степь в Ивановку. Она удивленно посмотрела на меня: «Никого сейчас не найти. Степь начала двигаться. Сейчас никто не отважится. Нужно подождать хотя бы недели две». Но я не могла ждать. Я должна была пройти через степь, потому что Анджей не смог бы столько времени обходиться без меня. Попросила старушку только показать того, кто, возможно, решился бы проводить меня. «Есть тут один такой охотник, – сказала она. – Если он не пойдет, то никто не отважится». И старушка показала мне лачугу, где жил этот человек. Там светилось уже замерзшее окошко. Мне открыл дверь рослый мужчина в белой рубашке, протирающий глаза от сна. Я сразу рассказала ему, в чем дело. Он спокойно ответил: «Вы, вероятно, не представляете себе ситуацию. Степь движется. Нужно подождать». Я начала его умолять. Рассказала о ребенке. Обещала отдать ему все, что он попросит, если поможет переправиться в Ивановку. Охотник внимательно посмотрел на меня добрым, но испытующим взглядом. Наверное, видел и понимал, что я должна осилить эту дорогу.
За переправу он взял немного. Помню, что купила ему бутылку вина, и еще он попросил кусочек сала. Это действительно была совсем небольшая плата. Судя по всему, он поступил сознательно, думая о моей участи и о ребенке, оставленном в Ивановке.
Мы не теряли ни минуты. Впереди был целый день пути, а ночь наступала быстро. Охотник оделся, перекинул через руку ружье, взял у меня мешок, а я нацепила рюкзак. И мы пошли.
Как по-новому выглядела степь… Ледовая кора в течение нескольких часов превратилась в кашу, которая таяла у нас под ногами. С каждым шагом мы все глубже погружались в воду. Иногда по пояс проваливались в трещины, образовавшиеся во льду. Мой провожатый все время вытаскивал меня. Но и он тоже поминутно оказывался в воде, и я подавала ему руку. Несмотря на это, охотник не терял присутствия духа, смеялся, шутил и уверял меня, что к вечеру мы наверняка доберемся до места.
Степь он знал как собственный карман. Ему были известны все опасные места и то, как обойти их, чтобы не попасть в ловушку. Охотник быстро находил следы зверья на холмах, рассказывал, какой он меткий стрелок и как любит один ходить в степь на охоту.
Через несколько часов мои силы и желание быстрее добраться до дома стали ослабевать. Меня охватила сонливость. Вскоре мы присели отдохнуть на ледяном пригорке. Охотник заметил мое состояние и явно этим обеспокоился. Я взяла его под руку, и через минуту моя голова упала на его плечо. Он снял с меня рюкзак и повел, а точнее, потащил за собой, постоянно приговаривая, что до Ивановки уже недалеко, что скоро я лягу спать, а мой сын сможет съесть калач. Он был необычен и великодушен, этот мой охотник. Мы давно шли в темноте. Я еле волоклась, но чувствовала – если присяду, то дальше идти не смогу. Наконец показались огни Ивановки. А ведь дошла… Перед нашей лачугой ноги подо мной подкосились. Залаял пес. Выбежали женщины, помогли мне добраться до койки. Я лежала с закрытыми глазами, счастливая. Анджей с удовольствием поедал что-то вынутое из мешка. Манюся Квяткова хлопотала возле меня – чем-то накрыла, напоила горячим. А охотник сидел в соседней избе, за столом грозного Ивана, и распивал с ним водку. До поздней ночи я слышала его голос. Он вспоминал о путешествии в Ташкент. Я не смогла уловить из услышанного никаких событий, никаких приключений. Он просто долго шел длинной дорогой. Разные пейзажи сменяли друг друга. Мимо него проходили люди, с которыми он обменивался ничего не значащими словами и шел дальше. Это был рассказ о дороге, ведущей в большой город. Спокойное и прекрасное повествование охотника из степи.
* * *
И снова я возвращаюсь к воспоминаниям о том, что довелось нам пережить вместе со Стефанией Скварчинской. Она сыграла большую роль в моей тогдашней жизни. Стефания хорошо знала Александра, его творчество. Сама она была человеком глубоко и искренне верующим. И очень красивой женщиной. Помню, как она, светловолосая, бежала по степи в голубой пелерине, вызывая в моем воображении образ Божией матери. Эта голубая пелерина словно приближала меня к ее вере. Скварчинская считала, что работать надо честно. А это значит – отдавать работе максимум сил. Помню, как нас использовали вместо волов, когда нужно было уминать глину. Она даже это делала с оптимизмом, несмотря на израненные ноги. А потом еще и улыбалась надзирателю, довольная тем, что работала четко, быстро и хорошо.
С человеком порой происходят удивительные вещи. Почти у всех нас ноги тогда были в ранах, но никакого заражения, никакой инфекции! Там я перестала заботиться о гигиене. А Стефания не из каких-то корыстных соображений, а по убеждению работала с полной отдачей, всегда выполняя норму. И того же она требовала от нас. Через несколько месяцев пребывания в Ивановке благодаря вмешательству профессора Юлиуша Клейнера и Ванды Василевской ее освободили. Она вернулась во Львов, где уже потом, под немцами, «кормила вшей». После войны, в 1953 году, когда заболел Александр, я поехала в Лодзь, чтобы посоветоваться с известным нейрохирургом, который жил там, и по возможности привезти его в Варшаву. В Лодзи я останавливалась у Стефании. И никогда не забуду, как она защищала коммунизм, находя в нем много общего с христианством. Она даже писала в партийные органы, чтобы разъяснить им некоторые вещи. Писала с огромной верой в то, что поступает честно и действует во имя правды. Недоразумение!
Я очень обязана Стефании, потому что там, в казахском бараке, она смогла убедить окружающих нас поляков в том, что я не шпионка и не заслана туда на них доносить, что мой муж действительно сидит в тюрьме. Она рассказала, кем действительно был Александр в Польше. И все до такой степени ей поверили, что Керский, заболев и решив, что умирает, попросил у меня прощения. Разумеется, я простила. Но забыть такое трудно.
Стефания учила меня молитвам. Особенно одной, очень красивой, обращенной к Богоматери. Мы стояли в степи под огромным куполом звездного неба, вокруг была тишина, и молились. Честно говоря, я не была религиозной, но именно в тот период мне очень хотелось верить в высшую силу, которая может нас спасти. После той ночи на рассвете мы подошли к реке. Стефания хотела меня окрестить, но я не была готова к этому и чувствовала, что все эти «формальности» мне ни к чему. Через три месяца Скварчинская, как я уже говорила, вместе с детьми и свекровью вернулась во Львов. Это единственный на моей памяти случай такого возвращения.
Я вспоминаю Стефанию в связи со многими событиями. Хочу рассказать и том, что больше всего сблизило нас, – о наших совместных вылазках к ближайшему хранилищу зерна. Поздней ночью мы подкрадывались к сколоченному из досок домику. Небольшое окошко там находилось достаточно высоко. Даже речи не шло о том, что через него можно туда влезть. У меня с собой была пол-литровая кастрюлька, которую Пайперовой с таким трудом удалось передать в тот вагон для перевозки скота. К ручке этой кастрюльки я привязывала веревку. Скварчинская, которая была намного выше меня, становилась на четвереньки, я вставала ей на спину и как удочку закидывала кастрюльку на веревке в это окно. Через минуту вытаскивала ее, уже наполненную зерном. Стефания высыпала содержимое в свой фартук. Так повторялось несколько раз. Ведь зерно было существенной частью нашего рациона. Эти ночные походы могли закончиться тюрьмой. Ее бы разлучили с тремя детьми и со свекровью, а меня – с Анджеем, которого бы сдали в детдом. Но голодали не только мы. Голодали наши дети, поэтому об опасности забывалось. После удачной вылазки мы тихо возвращались в спящий барак. Скварчинская, такая набожная, учащая меня молитвам, призывающая честно относится к любой работе, не считала это воровство грехом.
Когда Стефания Скварчинская получила разрешение вернуться во Львов, мне и поручику Тадеушу позволили проводить ее в Жарму. Еще один переход через степь… Собираясь в обратную дорогу и имея в своем распоряжении свободную подводу, мы заполнили ее съестными припасами – результатом наших жарминских сделок. Времени у нас было немного. В Жарму со Скварчинской мы выехали в ночь. А с самого утра после грустного прощания каждый из нас старался выгоднее выменять свои вещи и то, что доверили нам товарищи по поселку.
Возвращались мы уже хорошо после полудня. Волы передвигались довольно вяло. Эти очень терпеливые создания, кажется, никогда и никуда не торопятся. Мы не подумали о том, что животных нужно покормить, да и возможности у нас такой не было. Наше польское «как-то обойдется» утихомирило возникшее было беспокойство. Через несколько часов (так как не хотелось чересчур погонять волов) усталость дала о себе знать. Мы натягивали веревки, приговаривая: «Цоб, цоб, цобене», чтобы волы шли побыстрее, но они вообще перестали слушаться и вскоре оба улеглись. Такие огромные, тяжелые. Поручик стал лупить их кнутом где попало. Они же проявляли присущее только им терпение. В это время уже начали опускаться летние сумерки, небо засветилось фиолетовым цветом, а ближе к горизонту пламенел розовый. Ночь захватила нас слишком быстро, поглощая пространство. Мы ощущали легкий летний ветер. Степные травы отвечали ему.
Вскоре возле меня что-то зашевелилось. Что-то теплое, тяжело дышащее. Это один из волов поднялся на ноги. И тут раздался искаженный неприязнью голос поручика: «Я еду! Вернусь завтра с другой парой волов. А пани должна быть осторожной, чтобы ее не съели волки». Потом послышались отдаляющиеся шаги грузного животного.
Итак, я осталась одна и опиралась о воз, который оказался сейчас для меня единственной реальностью. За него можно было подержаться или прилечь на него. А вокруг – темное пространство, шелест трав и порывы летнего ветра. Я была одна и боялась, но не волков. У меня вдруг возникло ощущение, что здесь может остановиться моя жизнь. Появился страх перед полным исчезновением. Поблизости не было ни одного человека. Никто не мог мне сказать, что я существую, и помочь мне прийти в себя. Инстинкт самосохранения заставил меня собрать последние силы и помнить о цели. Ведь я должна добраться до барака – там меня ждет сын. И я начала повторять как магическое заклинание – добраться до барака, добраться до Анджея…
Держась за подводу, я подошла к неподвижному волу. Он дышал теплом, а земля, на которой он лежал, была своей, безопасной. Я выпрягла его и присела возле огромного вздымающегося бока. Поглаживая вола, я все время повторяла свои заклинания. И когда уже, казалось, ничто не заставит его встать на ноги, вол вдруг начал подниматься. Вцепившись в рога, я с трудом стала взбираться на него, всеми силами стараясь не соскользнуть.
Ночь была очень темная. Я не видела ничего вокруг себя. Мне только казалось, что нет ни одного ровного места на нашем пути. Вол то опускался, то будто поднимался в гору, раскачиваясь, как корабль, рассекающий волны в океане темноты. Все мои усилия были направлены на то, чтобы удержаться на этой глыбе мощных мышц, приноровиться к ритму движения животного. Я боялась упасть. Знала, что если окажусь на земле, то уж никогда снова мне не взобраться на его хребет. А вол шел вперед, ведомый исключительно собственным инстинктом, и нес меня долго и терпеливо.
Слезла я с него, только когда передо мной замелькал свет нашего барака. Было очень трудно устоять на одеревеневших, негнущихся ногах. Хватаясь за стены, кое-как добралась до лежанки, на которой спокойно спал Анджей.
Вол еще долго стоял, отдыхая, возле барака. Потом кто-то пришел и отвел его в хлев.
Поручик Тадеуш, как и обещал, вернулся назавтра в степь забрать подводу с продуктами. Только «волки», оказалось, съели большую их часть – то, что принадлежало мне и другим полякам.
После отъезда Скварчинской я, по сути, осталась одна. Правда, мое положение резко изменилось, причем в лучшую сторону. Никто ни в чем меня уже не подозревал. И я даже стала пользоваться особым доверием, так как оказалась единственной, кто лично знаком с Вандой Василевской. Мы решили, что я напишу ей письмо, которое подпишут все товарищи по несчастью. В этом письме нужно будет рассказать об условиях, в которых мы живем. Помню, я написала о том, что в Польше домашние животные спят на более удобных подстилках, чем здесь – наши дети. Сообщила, как мы голодаем, какую тяжелую работу обязаны выполнять, что наши организмы полностью истощены. Письмо было отправлено. И, трудно себе представить, очень быстро пришел ответ. Странно, но в то время почта работала нормально. Письма, вероятно, не проходили цензуру. Возможно, тогда на это не хватало времени. В ответном письме Ванда Василевская писала, что к нам приедет комиссия из Москвы, которая во всем разберется и положит конец злодеяниям. Но… Ванда сама была во власти заблуждений. Разумеется, через несколько недель комиссия приехала. Накануне меня под надзором вывезли в степь для каких-то работ. Ведь наши энкавэдэшники уже все знали, и конечно, им было известно, кто написал это письмо. Московская комиссия, видимо, спрашивала обо мне, поэтому меня поспешно убрали куда подальше. Зато определенные люди «ассистировали» комиссии, которая расспрашивала поляков. Естественно, в присутствии местного НКВД никто не отважился сказать правду. Ведь комиссия уедет, а люди останутся, и им начнут мстить. В первый же вечер в Ивановке организовали попойку для комиссии. Закололи барана, ели-пили. А через два дня «сбора материала» комиссия уехала с полными мешками зерна, мяса и сала. И только тогда мне можно было вернуться в поселок… Понятно, что не обошлось и без разговора в НКВД. На том все и закончилось. Никаких перемен, никакой помощи. И хотя Стефания Скварчинская писала мне в начале декабря 1940 года, что к нам должна приехать еще одна комиссия, что Сталин распорядился об этом в присутствии Василевской, ничего подобного не произошло. Скварчинская также написала: Сталин уверил Ванду в том, что из Казахстана уже возвращаются полторы тысячи человек, для которых специально строят городок под Москвой. И даже вроде бы пообещал строительство польского университета. Понятно, что все это оказалось блефом.
Когда мы снова приблизились к краю пропасти в ожидании неминуемой голодной смерти, мне показалось, что в колхозе нам бы жилось немного легче. Я написала об этом Илье Эренбургу, которого неплохо знала. В свое время Александр перевел две его книги. Письмо послала в Москву на адрес Союза советских писателей. Случилось так, что тогда там же находилась и Ванда Василевская. Эренбург прислал мне триста рублей и телеграмму: «Разговаривал с Вандой Василевской. Сделаем все нужное, чтобы облегчить вашу участь». По наивности я полагала, что работа в колхозе обеспечит нам кусок хлеба каждый день. В Ивановке год и три месяца мы никакого хлеба не получали. Нам вообще ничего не давали. Надеяться можно было только на самих себя.
Наверное, ощущение абсолютной потерянности в этих бескрайних просторах привело к тому, что после писем Ванде Василевской и Илье Эренбургу я написала и Марысе Зарембинской. В одном из своих ответных посланий она среди прочего сообщает, что уже давно не подает руки Дашевскому, что одна из наших приятельниц купила мне одеяло и только благодаря Василевской я смогу его получить, так как обычно не разрешается отправлять посылки сосланным. Письма Марыси я потом передала Броневскому. А одно сохранила у себя – то, где она рассказывала о возвращении Анатоля Стерна, которого (единственного!) освободили через три месяца после ареста. В этом же письме она сообщила, что один ее знакомый, сидевший в одной тюрьме с Александром, видел его. Тот был внешне спокоен, но все время хотел выяснить, где его жена и сын. Сама Зарембинская очень волновалась о Броневском, не имея о нем абсолютно никакой информации. В то же время она призывала надеяться на лучшее, которое не за горами.
* * *
Потом, после амнистии, мы покинули наш жуткий барак в Ивановке. Находясь во власти иллюзий, что на юге будет лучше, мы двинулись в том направлении. Наудачу я выбрала Шымкент. Слышала, будто там есть консервная фабрика. Упоминание о консервах просто заворожило меня, и не меня одну. В результате мы попали в колхоз, где были только хлопковые поля. Снова начался изнурительный голод.
Отправляясь в путь вместе с другими поляками, я вновь оказалась в до боли знакомой Жарме и увидела не менее знакомые вагоны для перевозки скота. Это был поезд с немцами из Поволжья. Они направлялись в только что покинутую нами Ивановку, в наш кошмарный барак. Стояло лето. Вагоны были открыты, на веревках сушилось белье. Еще поддерживались немецкий порядок и опрятность. Я пожалела их, задумавшись, смотрела с состраданием на их лица, на их детей, не отдавала себе отчета в том, что могу за это поплатиться. Ко мне подошел некто со словами: «А ты что здесь вынюхиваешь? О чем с ними говоришь?» Этого бы вполне хватило, чтобы меня упекли в тюрьму или в лагерь, разлучив с Анджеем. Начиналась война с немцами. Подходил фронт.
А для нас – поляков, выбравших юг в надежде, что там легче с пропитанием, – настала очень тяжелая пора. В Семипалатинской области были хотя бы ячменные поля, работая на которых мы могли добыть себе немного зерна из колосьев. А в совхозе «Антоновка» (под Шымкентом) поля, куда нас отправили, оказались исключительно хлопковыми. Как известно, хлопок несъедобен. И мы опять начали страшно голодать. Я видела поляков, умирающих от голода. Помню двух женщин, к которым как-то зашла. Они сидели в избе на лавке, не в силах пошевельнуться. На продажу у них ничего уже не было. Истощенные, они просто ждали приближающейся голодной смерти.
Много месяцев (до встречи с Александром) мы провели в состоянии полной безнадежности. Хозяевами избы, где я тогда жила, были старушка и ее дочь. Старушка ведала домашними делами. Ее дочь работала на хлопковых полях и занималась своим скромным хозяйством. У них был поросенок и, кажется, корова. Стояли бочки с кислой капустой, куда добавляли яблоки и арбузы. Мы с Анджеем занимали одну койку, где и отдыхали, когда было время. Старушка бросала на нас хитрые и недоверчивые взгляды. Раз в неделю она пекла хлеб. Я предложила ей свою помощь. Нужно было вставать ночью, чтобы еще раз помесить поднявшееся тесто. Я взялась за это в надежде, что за работу она даст нам хоть маленький кусочек хлеба для Анджея. Раз в неделю я делала специально для него крохотный рогалик. Потом начала немножко подворовывать. Когда старуха выходила, я забегала в каморку, где хранились завернутые буханки хлеба, и отрезала в том же месте, где уже было отрезано. Затем приводила все в порядок и мчалась с этим кусочком хлеба к сыну. Научилась я воровать и горячие капустные щи, опуская маленькую кастрюльку в большую, где они варились. Разумеется, это я тоже проделывала, когда старухи не было дома. А готова ли уже капуста, не имело никакого значения.
Вечерами я читала хозяйке случайно оказавшиеся в доме книги Льва Толстого. Рассказы о человеческой доброте, сочувствии и милосердии. При этом я долго надеялась, что она, растрогавшись, даст что-нибудь поесть Анджею, когда сядет ужинать. Ему было уже неполных десять лет, и он постоянно ходил голодным. Но бабуся словно поняла мои мысли. Она с хитрой усмешкой терпеливо слушала чтение, а потом они с дочкой спокойно усаживались за еду. Мы же с Анджеем съедали в своем углу нечто даже меньшее, чем лепешка, и запивали пустым кипятком.
Один только раз мы смогли досыта наесться у старушки, которой я читала Толстого и у которой воровала щи и хлеб. Во время какого-то большого праздника они закололи свинью. Мы знали, что будем допущены к пиршеству. Бабуля пригласила двух парней, которые среди других своих занятий забивали скот. Они пришли уже в подпитии. Мы с Анджеем убежали за забор, но и там нас настиг визг бедного толстого розового кабанчика. Вернулись мы, когда его уже разделывали на столе, сколоченном из деревянных досок. В избе бабуля накладывала в котел куски свинины и приправы. Настрой был приподнятый. Старушка с дочкой приглядывали за работающими мужчинами. Между ними постоянно возникали какие-то споры. От запахов, идущих из кухни, у меня сжимались внутренности, а Анджей без конца спрашивал, когда же будет ужин.
Наконец пришла эта долгожданная минута. Обе женщины принарядились. Парни смыли кровь с рук. Мы готовились принять участие в чем-то очень важном и радостном. Я еще и сегодня ощущаю вкус того бульона с кусками свинины, овощами и клецками.
За столом, который освещала керосиновая лампа, сидели старушка с дочкой, «убийцы» поросенка и мы с Анджеем. Все, кроме нас, пили водку домашнего изготовления. Пили много, а потому быстро развеселились. Анджей наслаждался едой. Он ел столько, что я даже стала опасаться за его здоровье. Старушка, обычно равнодушная к нашему голодному существованию, была в этот вечер на редкость щедра и гостеприимна. Начались неизбежные в этих случаях песни. Заунывные, фривольные и частушки. Потом парни сорвались с места и начали отбивать трепака. Бабуля хлопала в ладоши, побуждая их к этому танцу. Самой серьезной была ее дочка. Сорокалетняя женщина, о муже которой никогда не вспоминали, часто погружалась в какие-то грустные размышления.
Спустя некоторое время мужчины начали мне оказывать недвусмысленные знаки внимания. Поначалу робко, потом, видно, водка сильно ударила им в голову, и они начали переступать границы. Тогда я, поблагодарив за угощение, быстро ушла в соседнюю комнату. Там находилась наша с Анджеем койка и там же возвышалась бабушкина кровать. С кухни уже доносились не песни, а пьяные выкрики. Вскоре пришла очень довольная старушка и улеглась на своих перинах. Я притворилась, что сплю. Сразу же за ней появились эти парни и подошли к нашей койке со словами: «Подвинься, хозяйка». В жутком страхе я соскочила на пол и выскочила из избы. Пьяницы погнались за мной. Я бегала вокруг дома, а они, крича, пытались меня догнать. Бабушка со смехом наблюдала за этим зрелищем. Анджей испуганно смотрел на меня. В конце концов, утомленные погоней, не держась на ногах, мои преследователи рухнули на пол и сразу заснули с громким храпом. Тогда я прилегла возле сына, и, несмотря на то что мое сердце еще стучало как бешеное, мы оба забылись сном. Главное – мы были сыты. Сыты! Сыты!
* * *
А сейчас я хочу привести фрагмент одного письма, которое совсем недавно получила. Оно написано случайным знакомым Александра после того, как его выпустили из саратовской тюрьмы. К этому письму были приложены две записки от Александра. Одна из них была написана в алма-атинском госпитале.
…На саратовском вокзале, где нас погрузили в товарные вагоны, мы ждали отправления поезда. Вдруг двери открылись, и с помощью стоящих рядом людей в вагон втиснулся еще один человек. Внешность его была незаурядной. И весь его облик не походил на облик заключенного. Он был в шубе с воротником из выдры. (Эту шубу Александр получил во Львове от еврейской писательницы Деборы Фогель. Ее мужа арестовали сразу после того, как пришли Советы. – Прим. О. В.) Впечатление было настолько сильным, что и теперь, спустя много лет, его образ остался в нашей памяти таким. И так как я тогда расположился на полу вагона, то приподнялся и сел. Слабость у меня была такая, что встать на ноги просто не было сил. Мы все приспособились, привыкли друг к другу. И в течение этой поездки (не помню уже, сколько она продолжалась) стали как одна семья. Мы услышали о том, что произошло в жизни пана Александра с момента того самого львовского собрания, о котором пани, разумеется, знает, обо всех его злоключениях до дня неожиданного освобождения и до той минуты, когда его доставили к стоящему на вокзале эшелону. Наши разговоры происходили урывками. Сейчас, когда я пытаюсь все вспомнить, оказывается, что какие-то вещи стерлись из памяти. Однако хорошо запомнилось рассказы пана Александра о том, как он сосуществовал со вшами. Об обычаях и психологии в заключении. Но, если пани спросит меня сегодня о каких-либо подробностях, я вряд ли смогу ответить, не помню.
На одной из узловых станций (опять не помню – Актюбинск?) пан Александр, очень ослабевший, вышел из поезда, несмотря на наши уговоры не пускаться в одиночку на поиски семьи. А эти две приложенные здесь записки как бы связывают день нашего с ним расставания с тем днем, когда нашлись пани с сыном и подтвердилось, что пани «оказалась дельной, расторопной и действительно замечательной женщиной».
А. Краковский
Александр с большой благодарностью вспоминает Краковских в своей книге. И я тоже благодарю их за то, что они не сочли за труд отыскать и переслать мне эти письма.
До того как мужа выпустили из тюрьмы и он нас нашел, я не получала от него весточек. После амнистии его продержали еще три месяца. Он с трудом добрался до Алма-Аты, где уже было наше представительство. Сначала он отправился в НКВД, чтобы получить хоть какую-то информацию о нас с Анджеем. Можно только удивляться, какие прекрасные у них картотеки. Он потом рассказал мне, что менее чем за пятнадцать минут ему сообщили, что нас вывезли в Семипалатинскую область, Жарминский район, совхоз «Ивановка», но что сейчас нас там нет, так как после амнистии мы уехали под Шымкент. Точного нашего местонахождения у них еще не было.
Александр был болен, еле держался на ногах. Представительство поместило его в госпиталь. Тут нужно сказать, что советский врач почти каждый день приносил ему печенку, чтобы подкрепить организм. Александр было очень истощен. В этом госпитале он, раздобыв почтовые открытки, начал рассылать запросы о нас во все польские представительства на территории Советского Союза. Там же он написал стихи, посвященные пропавшей семье.
В конце концов от одного из наших представительств в СССР (а всего он отправил около трехсот открыток) он вновь получил информацию о том, что мы проживали в Семипалатинской области по такому-то адресу. В том же ответе говорилось, что там проживала еще одна полька – Ольга Кжеминская, которая сейчас находится в совхозе под Шымкентом. Сообщался и ее адрес. И Александр сразу же, еще находясь в госпитале, написал этой женщине.
В это время я продала последнюю оставшуюся у меня вещь – порядком потрепанное пальто. Кроме него у меня ничего не оставалось. На мне была фланелевая пижама. Из пижамных брюк я сшила себе юбку. Пальто продала на мельнице и получила взамен немного муки, кусочек сала и кусочек хлеба. И как раз после этой сделки произошло чудо. Мы сидели за деревянным столом при коптящей лампе. Я читала старушке Толстого и время от времени поглядывала через маленькое окошко на темный двор. И вдруг увидела темную фигурку. Это был шестнадцатилетний сын Ольги Кжеминской. Он вошел в избу и уже с порога показал мне конверт. Я тут же прочла письмо от Александра. «А что пани мне за это даст?» – спросил он довольно бесцеремонно. Я взяла все лепешки, приготовленные на ужин, и отдала ему. Александр писал Кжеминской, прося ее рассказать всю правду о том, что произошло со мной и с сыном.
Я сразу выслала телеграмму на указанный им в письме адрес. Да, тогда можно было телеграфировать. А потом мне пришло первое письмо от мужа. Вот оно:








