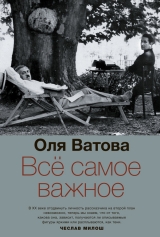
Текст книги "Все самое важное"
Автор книги: Оля Ватова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Кроме того, этот поступок хозяина придал мне смелости рассказать ему о поведении его жены по отношению ко мне. Об ее угрозах выгнать меня из дома, что для нас с сыном было бы катастрофой. Его реакция была абсолютно непредвиденной. Прежде всего он сказал, чтобы я ничего не боялась, ибо их закон не позволяет выгнать зимой женщину с ребенком. А потом он наказал жену. Просто вышвырнул ее из постели, и целый час ночью она провела на полу. Представляю, как возросла ее ненависть ко мне, но ослушаться мужа она не посмела и оставила меня в покое.
Как-то пришла грустная весть – барак, где мы раньше жили, рухнул под тяжестью снега. В нем оставались люди. Казахи, с трудом раскопав снег, нашли тело Керского. Женщины занялись подготовкой к погребению останков. Земля была заледенелой и покрыта таким слоем снега, что с большим трудом удалось выкопать неглубокую яму. Так его и похоронили. Другого выхода не было.
А сейчас я возвращаюсь к первому дню нашего пребывания в бараке. После того как пожилая казашка сделала все что могла, я вышла в поисках какой-нибудь еды. И тут же увидела не глиняную, а единственную деревянную хижину. Там я обнаружила русскую женщину с двумя маленькими детьми. Один был у нее на руках, а второй сидел в углу. Я попросила ее продать мне кусок хлеба и немного молока. Женщина была поражена моим видом и моей просьбой, однако дала мне и то и другое. Но сразу сказала, что это в первый и последний раз и чтобы больше я никогда к ним не приходила. По-видимому, она была напугана и, конечно же, не имела права помогать нам. Денег она брать не захотела. (Забегая вперед, скажу, что потом год и три месяца мы вообще не видели хлеба.) Через некоторое время выяснилось, что мужем этой женщины был наш начальник – человек твердый, хитрый и жестокий. Он хорошо дал нам это почувствовать.
На следующий день после нашего прибытия в Ивановку в моей клетушке появилась пожилая пара. Это был граф Терновский с женой, которая выглядела совсем ослабевшей. Я уже рассказывала, что они, отдохнув в Крынице, по дороге домой заехали во Львов навестить графа Бельского. И оттуда их всех вместе отправили в нашу Ивановку. Кстати, в этой приехавшей вслед за нами группе была и Стефания Скварчинская (полонистка, после войны – профессор университета в Лодзи) с детьми и свекровью.
Бельские привезли с собой очень много вещей. Энкавэдэшники разрешили им забрать почти все имущество. И они спали на медвежьих шкурах, ели лепешки с серебряных подносов, куда ставили и чашки с молоком. При таком богатстве им без труда удалось установить добрые отношения с казахами, которые, прознав, что Бельские – графы, чуть ли не били перед ними поклоны. Разумеется, казахов щедро одаривали, и их благосостояние быстро росло.
Помню, как Бельский отдыхал в хибарке на огромной медвежьей шкуре, как восседал перед этим жилищем на охотничьем стульчике в шляпе с пером и в прекрасном настроении поглощал завтрак, принесенный ему на серебряном подносе. К Бельским присоединилась еще одна женщина, которая не только составила им компанию, но и оказывала различные услуги.
А у графа Тарновского не было ничего. Ведь они с женой приехали к Бельским всего на несколько дней после двухнедельного отдыха и, естественно, лишних вещей с собой не брали. Так вышло – приехали в гости и оказались в «голодных степях».
Бельского и Тарновского связывала многолетняя дружба. По дороге в Ивановку они еще оставались друзьями и питались вместе, так как у Бельского были большие запасы. Но на следующее утро после прибытия на место прибившаяся к Бельским особа сообщила Тарновским, что с этого дня они должны заботиться о себе сами. Несчастных Тарновских, по сути, обрекали на голодную смерть. «Что делать? – спросил меня Тарновский. – Как раздобыть пропитание?» Я посоветовала ему попробовать дать казашке злотые, которые она могла бы использовать в качестве украшений. Однако казашке хотелось только рубашек, а их-то как раз у него было с собой совсем немного. Не могу забыть, как гораздо позднее его хозяйка пришла к моей, со смехом рассказав, что дала «графу» несколько картофелин, и он очень долго сидел над горшком, выскребывая дно.
Это еще один пример того, как вели себя люди в изгнании. Речь тут уже шла не обо мне, еврейке и «шпионке», а о людях одного социального класса. Оказывается, наша культура, точнее ее поверхностный, наносной слой, настолько тонка, что достаточно страха перед голодом, неуверенности в завтрашнем дне, чтобы от нее не осталось и следа. Зато сразу же просыпаются задремавшие было инстинкты. Возможно, тот, первобытный человек, уже привыкший к трудным условиям существования, не был подвержен страхам, которые испытывали мы, и был гораздо более гуманен.
Итак, началась наша новая жизнь. К нам в барак пришел начальник, о котором я уже упоминала, и заявил: кто не работает, тот не ест. И добавил, что у него на ладонях вырастут волосы и вообще он поверит в Бога, если мы когда-нибудь сможем вернуться в Польшу. «Здесь надо жить. Здесь надо устраиваться», – сказал он и отправил нас на работу.
И вот я, одетая как все местные, в соответствующей суровым морозам обуви, пошла на работу. Работа состояла в том, чтобы огромной, очень тяжелой и старой лопатой вырубать квадраты из годами свозившегося и застывшего как камень навоза. Квадраты выносили на солнце и хорошо просушивали. Обработанный таким образом сухой навоз служил казахам прекрасным топливом. Это действительно было замечательное топливо – чудесный огонь, у которого мы грелись в доме у моих хозяев, на котором я жарила ячменные лепешки или растапливала снег. Но сама по себе работа была очень тяжелой. Даже обувь начала быстро распадаться. Сегодня я не могу себе представить, откуда брались силы. Возможно, нас поддерживала надежда получить хлеб. Но в первый же рабочий день оказалось, что об этом и речи не идет. Мы по-прежнему должны были сами добывать себе еду. И основной платой за нее были рубашки. Я выменяла какую-то свою блузку на небольшое количества ячменя и молока. Все это должна была в определенное время приносить казашка, заключившая со мной сделку.
То, что произошло потом, напоминало чудо. Нам дали работу на ячменных полях. И мы могли там красть понемногу зерна из колосьев. В старой консервной банке я толкла зерно, превращая его в муку. Потом я нашла кусок железа, кусок жести и несколько кирпичей, чтобы соорудить «плиту». Кирпичи я уложила так, чтобы высота будущей «плиты» соответствовала нашему росту. Под эту плиту я подкладывала сушеный навоз, который мы с Анджеем собирали в степи.
Понятно, что вокруг нас не было деревьев, не было привычной растительности. Но я до сих пор сохранила в памяти красоту необъятного пространства, шелест трав, всполохи заката на горизонте, ту необыкновенную палитру красок, которую не увидишь, например, под Парижем. Преобладал фиолетовый цвет, плавно переходящий в розовый, в золотистый, а потом во все более глубокий синий. А когда небо становилось темно-синим, на нем начинали сверкать звезды, и казалось, что только они своим мерцанием нарушают тишину степи. Мы со Стефанией Скварчинской часто стояли поздними вечерами, прислонившись к стене заснувшего барака, и любовались этим пейзажем. Так мы отдыхали. Я – перед тем как войти в барак, чтобы улечься на полу возле уже спящего Анджея и попытаться заснуть, несмотря на укусы блох и других насекомых. (Они, кстати, имели особое пристрастие к моей крови и поэтому давали выспаться сыну.) Стефания, человек очень верующий, учила меня молитвам. Я постоянно думала об Александре и словно становилась ближе к мужу, молясь о нем вместе со Стефанией. В то же время я не могла не воспринимать красоту, которая меня окружала и захватывала до такой степени, что на какой-то миг я даже забывала об условиях нашего существования.
Под куполом звездного неба тихо стояли лачуги казахов. За крошечными окошками было уже темно. И вдруг во время ночного бдения со Стефанией я почувствовала, что эти чужие, забывшиеся на своих нарах глубоким сном люди стали мне намного ближе. Это трудно объяснить, но именно таким образом я как-то смогла увидеть их нелегкую жизнь, требующую огромных сил и терпения, их тяжелую судьбу, обиды, несправедливость – все, что им пришлось познать с установлением здесь коммунистического строя.
Раз уж я начала рассказывать о ночах в степи, вспомню еще об одной. Эта ночь прошла вдали от нашего барака. Нас погнали косить сено за несколько километров от совхоза. Жили мы там в конусообразных палатках, сплетенных из крепких прутьев. Как-то ночью я тихонько выбралась из палатки в степь. Там я увидела стадо неподвижно стоящих волов. И вдруг почувствовала, что эта ночь в далекой степи, и небо, и луна, и травы, и тишина – все принадлежит им. И это не я, а они знают, что принадлежат к окружающей их природе, что это их царство. А я, слабее травинки, попросту приблудилась. Было во всей этой картине нечто сакральное. Мне казалось, что я слышу отголоски каких-то очень давних времен, прошлых жизней, проносившихся вместе с ветром рядом со мной с тихим ночным ветром летней степи. Эти могучие неподвижные животные, выглядевшие в темноте как единая глыба, вызвали у меня ощущение чего-то утраченного, о чем я еще буду тосковать, словно Адам и Ева, изгнанные из рая.
Если бы я верила в перевоплощения, в то, что когда-то уже существовала, то вполне допускаю, что тогда я могла бы молиться дереву. К деревьям у меня особое отношение. Помню, как в 1968 году я переживала из-за срубленных во время революции деревьев на бульваре Сен-Мишель. Это воспринималось мною как кощунство. Признаюсь со стыдом, это вызвало у меня гораздо более сильную боль, чем вид израненного человека. А мощные волы, застывшие в ночи… Может быть, когда-то и они были для меня предметом культа. Той ночью передо мной предстала вся хрупкость человека, а с ней и тайна нашего существования по отношению к «природе непокоренной», говоря словами Александра.
Все вокруг стало выглядеть намного значительнее и воздействовать на нас самым благотворным образом. Красота степи, свет луны, струящийся сквозь стены палатки и освещающий спящих, измученных многочасовой работой и голодом людей. Красота эта была для меня как бы знаком от Бога, который где-то далеко и высоко наблюдал за нами. Величие природы было здесь словно единственным доказательством Его существования. Не хочу показаться чересчур патетичной. Но, честное слово, то, что в нечеловеческих условиях удалось сохранить чувство прекрасного, спасало и придавало сил. Мы с Александром объездили много стран. Прежде всего Италию, где любовались прекрасными пейзажами, великолепием искусства. Но я никогда не забуду диких коней в степи, их летящий бег, развевающиеся гривы, их необузданную свободу. Кони там не очень большие, но необычайно стройные, на длинных ногах, каждое их движение исполнено грации. Эти кони, несущиеся в высоких травах степи под небом, где-то далеко сходящимся с горизонтом… как я говорила в детстве – там, где кончается земля.
А работали мы в этой степи тяжело. Будили нас очень рано, когда еще не успевали погаснуть последние звезды. Будили грубо, всегда с одной и той же фальшивой поговоркой – кто не работает, тот не ест. По сути, нас морили голодом. Из порции молока, которую я получала, удавалось сделать горсточку творога, которым я потом кормила Анджея. В котле с супом, который нам давали в полдень, плавали крохотные кусочки баранины. Но это мясо доставалось только казахам. Их всегда ставили первыми в очереди к котлу. Мы баранины и не видели. На работе у нас не было ни времени, ни возможности добыть немного зерна, чтобы приготовить муку. За нами все время наблюдали. Хлеб мы тоже не получали, хотя надеялись: говорили или что его не удалось достать, или что его не хватает. Очевидно, наши пайки просто воровали.
Моя работа заключалась в том, чтобы тянуть на грубой веревке двух впряженных в волокушу волов и таким допотопным способом собирать скошенное сено. «Цоб, цоб», – покрикивала я на этих животных. Вслед за мной погонял своих волов казах. В каждую волокушу были запряжены две пары волов, при которых работало по одной польке. Однажды большой слепень напугал волов, и я мгновенно оказалась зажатой между ними как в клещах. Даже слышала треск собственных костей. Казах помог мне, ударив животных по лбам железной палкой. После этого случая я получила увольнение на несколько часов.
До сих пор я не рассказывала, как жили в Ивановке наши дети, которые были предоставлены самим себе без какого-либо присмотра, ведь взрослые работали с самого раннего утра. Не могли мы рассчитывать и на помощь стариков, которые были уже непригодны для работы, – им было еще тяжелее в этих жутких условиях, они сами нуждались в нашей заботе. Поэтому дети бегали по степи, наслаждаясь абсолютной свободой. Но казахи сказали нам, что это небезопасно. Среди степных трав было много змей. Тогда дети, вооружившись палками, стали гоняться за змеями и убивать их. Это стало для них своеобразной игрой. Но прежде всего дети хотели есть. Они мечтали о хлебе и картошке, здесь для нас недоступных. Постепенно они втягивались в ритм нашей жизни, и их помощь часто оказывалась очень существенной. Дети ходили в степь собирать навоз. Как я уже говорила, высушенный на солнце, он становился замечательным топливом и давал огонь для нашей импровизированной плиты, стоящей возле барака. Три кирпича, на них – кусок жести, под жестью – кизяк (сушеный навоз). Кроме того, наши дети приносили воду из реки, сначала в бутылках, а потом мы раздобыли какое-то старое ржавое ведро.
Граф Бельский учил детей ловить птиц, ставить силки. Анджей справлялся с этим с большой ловкостью и даже заслужил похвалу от Бельского, который сам в недавнем прошлом был блестящим охотником. Хорошо помню эту нашу птичью эпопею. Боже мой! Оставалось так много пуха и перьев. А мы не пренебрегали ничем.
Гораздо позже, после возвращения в Польшу, Анджей поведал мне о некоторых своих приключениях. Например, о вынужденной скачке на необъезженном коне. Казахские ребята насильно посадили его на коня. И девятилетний ребенок, судорожно вцепившись в конскую гриву, мчался, ничего не видя перед собой, не зная, где и когда закончится этот бешеный галоп. И только на берегу реки конь ослабил свой бег, вошел в воду и опустил в нее морду. Тогда Анджей наконец смог спрыгнуть с него и убежать.
Часто по вечерам люди в бараке (прежде всего женщины) рассказывали, что они давным-давно ели, делились рецептами различных блюд, уточняли, как лучше готовить мясо, соусы, торты. Анджей настаивал, чтобы я все записывала и по возвращении домой использовала этот кулинарный репертуар. Некоторые женщины так и поступали – записывали услышанное. Мне кажется, что все мы пытались таким образом насытиться едой, о которой вспоминали. А дети радовались, что уже скоро смогут обедать и не будут больше оставаться голодными.
Тем временем Анджей, питающийся в основном мечтами, таял на глазах. Я знала, что в ближайшем поселке (несколько десятков километров от нашей работы) есть женщина-врач из Львова. И обратилась с просьбой к одному молодому, очень милому казаху, у которого были какие-то дела в том поселке, чтобы он взял Анджея с собой и показал его врачу. Анджей был доволен этим путешествием и потом хвастался, что по дороге искупался в ледяном ручье. Я же получила записку от врача, где говорилось, что у сына забиты верхушки легких и что в полдень у него была температура 38 градусов, что ему нужно избегать солнца и по мере возможности хорошо питаться и больше отдыхать. Эти слова с особой, непривычной суровостью напомнили мне о нашей ситуации. Александр находился в тюрьме. Было неизвестно, увижу ли его вообще когда-нибудь. Ведь я уже знала, что выйти из советской тюрьмы непросто. Чаще всего дорога оттуда вела в лагерь. А теперь еще и угроза потерять ребенка. Не раздумывая ни минуты, с сознанием того, что главное – спасти Анджея, я собрала узелок с намерением вернуться в Ивановку, в наш барак, где оставались все наши вещи и который теперь был для нас домом.
Перед тем как отправиться в дорогу, я объяснила ситуацию начальнику и попросила разрешения работать не в степи, не вдали от барака, а выполнять любую работу, но в самой Ивановке. Разумеется, он мне сразу отказал, угрожая тюрьмой за то, что самовольно покидаю степь. Казах, от которого я зависела, держал всех нас в состоянии постоянного страха. Он был нашим кошмаром. Его называли Степной Волк. Неизвестно, при каких обстоятельствах он потерял руку. На лице были следы оспы. Он садился на степного коня и мчался как сумасшедший. Степной Волк был небольшого роста, крепко сбитый, очень сильный, словно состоящий из одних мускулов. «Ну что, – сказал он, – когда твой сын подохнет, я сделаю тебе другого». А следующую фразу этот дикарь произнес даже с какой-то долей поэзии. Быстро понизив голос, уже другим, более мягким тоном он проговорил: «И только земля, небо и звезды будут свидетелями этого». В моей памяти застряли эти слова, сказанные человеком, который казался мне вместилищем самых примитивных инстинктов.
Однако вопреки всему я ушла. Отправилась по каменистой дороге и вскоре встретила подводу. Посадила на нее Анджея, положила узелок. Но везение быстро закончилось. На своем коне нас догнал однорукий Степной Волк. Он выхватил из подводы Анджея вместе с узелком и стал требовать, чтобы я вернулась на работу. Но я не подчинилась. Он повернул назад, продолжая грубо ругаться. А я пошла дальше своей дорогой. К вечеру мы уже были в бараке. Первое, что я сделала, – выменяла что-то из своих вещей на молоко, муку и сало. Анджей должен был ежедневно пить молоко и есть лепешки с бараньим жиром. На каких-то палках укрепила не помню уж какое полотнище, под которым сын мог находиться, когда припекало солнце, а в самом бараке было чересчур душно и тесно от большого скопления людей. Я успела закончить все это вовремя, так как вечером следующего дня появился местный НКВД, чтобы меня арестовать и отвезти в Жарму на суд. Меня должны были осудить за то, что я своевольно покинула работу. Я оставила Анджея среди чужих и, увы, враждебно настроенных людей. Женщина, у которой под Львовом было свое хозяйство, взялась заботиться об Анджее за зерно из моего запаса.
Ранним утром я взобралась на телегу, которой управлял знакомый мне старый казах из нашего поселка, и мы двинулись степью. До Жармы было тридцать три километра. Казах молчал, но чувствовалось, что он жалеет меня. И эта жалость, по-видимому, вызвала у него тяжелые раздумья о собственной многотрудной жизни. По приезде меня сразу же отвели в какую-то беленую избу, куда должен был прийти судья. Я держалась на удивление спокойно. Верила, что, когда выяснится, почему я так поступила, меня поймут и отпустят. Через минуту появился полный, толстощекий судья в цветной тюбетейке и, не глядя на меня, не позволяя произнести ни слова авторитарным «молчать!», зачитал приговор. Принимая во внимание, что я впервые самовольно покинула работу, мне не будут выплачивать зарплату в течение трех месяцев. А если я еще раз позволю себе нечто подобное, то меня отправят в тюрьму, а ребенка заберут в детдом. Я очень обрадовалась, услышав приговор. Мы и до того не видели ни гроша, а когда однажды получили зарплату, то оказалось, что за месяц заработали 70 копеек. Маленькая же буханка хлеба стоила в Жарме 180 рублей.
Под вечер мы возвращались в Ивановку. Темная ночь окутывала степь, когда казах заметил вдалеке тусклый огонек, подъехал и придержал коня. Мы стояли перед палаткой, где жила большая казахская семья. С потолка свисала тряпичная колыбелька, в которой лежал младенец. Люди сидели, склонившись над чашками с кипятком, и запивали им жареное зерно. Они гостеприимно встретили нас, пригласив на скромное угощение. Мне было хорошо и уютно среди них. А вокруг простирались просторы темной степи. Вероятно, старик, с которым мы ехали, уже успел сообщить им мою историю, потому что я ощутила на себе сочувственные взгляды. Я рассказывала им о Польше, о нашей жизни здесь, об ужасе, который нас окружает. Они молча слушали. Потом стали вспоминать, как хорошо жилось им в старые времена, до революции. Они были вольным народом. Жили в добротных палатках, выстеленных внутри коврами. Женщины носили разноцветные одежды, украшали себя серьгами и перстнями. Каждый день было мясо и хлеб, который они сами пекли. Стада овец и баранов паслись в степи. Сейчас казахи живут в нужде, носят лохмотья и пребывают в постоянном страхе. А бараны и овцы теперь казенные – принадлежат государству.
Одно время я и сама работала с казахами на стрижке овец и могла сделать собственные выводы о том, что происходит. Мне нужно было переписывать уже стриженных животных. И тогда я увидела, насколько силен инстинкт собственности, которому противостоял существующий строй, намереваясь создать советского человека. Каждому казаху разрешалось иметь не более трех баранов. И эти собственные бараны были всегда мастерски острижены. Не оставалось ни одного клочка шерсти, а на коже не было ни единой царапины. В то же время с казенными (государственными) баранами работали «по-стахановски»: главное – быстрее и больше. От казахов требовалось выполнять норму, а с несчастных животных стекала кровь. И с каждого барана свисали жалкие клочья. Казахи работали весело. Их навещали жены с детьми. Мужчины подбрасывали ребятишек вверх и радостно смеялись. В их глазах светилась отцовская любовь.
Я видела также и другое – как огромные стога заготовленного на зиму сена оставались в степи и загнивали. Никого это не волновало, хотя скот вымирал от голода. Собственность государства…
Казахи говорили, что так и живут в нужде и страхе, без надежды на лучшее завтра. Чувствовалось, что они ненавидят этот строй. И не только из-за того, что их лишили привычного уклада жизни, достатка, но и потому, что они утратили свою свободу, по которой так тосковали. Они были бессильны что-либо предпринять. Сразу после революции казахи, по сути, оказались в тюрьме, потому что в тюрьму для них превратился весь их мир. Даже степи, где, казалось, еще существует дух вольности.
На обратной дороге после жарминского суда мне постелили на телеге возле палатки. Степь дышала теплом. Над головой простиралось звездное небо, а на его фоне как будто прорисовывались горбы неподвижного верблюда. Я была невероятно уставшей. Беспокойство за Анджея, суд, разговоры в палатке – все это очень утомило меня, и я быстро уснула. Но вскоре почувствовала, что надо мной кто-то склонился, и ощутила горячее дыхание на своих щеках. Это был подросток-казах, который имел насчет меня явно недвусмысленные намерения. Я громко закричала и одновременно со всей силой оттолкнула его. Он убежал. Мои казахские хозяева, выбежав из палатки, спросили, в чем дело. А узнав, тут же забрали к себе. Так что остаток ночи я провела в их жилище. Возмущение казахов не знало границ. Они пришли к убеждению, что это был уже советский выкормыш. В связи с этим неприятным инцидентом я еще лучше поняла, как воспринимают казахи советских людей.
Когда я вернулась в Ивановку, энкавэдэшники хотели снова послать меня на сенокос. Но я так горячо и упорно упрашивала их оставить в меня в бараке, чтобы ухаживать за больным ребенком, что они уступили. Я обещала им выполнять самую тяжелую работу, которую мне дадут. Тогда я и начала изготовлять кирпичи, которые были по крайней мере раза в два больше наших. Весь процесс был на мне. Я сама заполняла глиной формы, раскладывала их на солнце, чтобы просушить. Кроме того, мне выдали огромный железный лом, которым я должна была разворотить руины старых лачуг. До сих пор не понимаю, как я с этим справлялась. Лом был таким тяжелым, что я его еле передвигала. Зато Анджей полеживал под своим балдахином, и я могла регулярно кормить его тем, что удавалось раздобыть. Каким неоценимым подспорьем оказался мой гардероб, вещи Александра и его родных (сумевших вернуться из Львова в Польшу). Все это добро я взяла, как рассказала раньше, благодаря совету сжалившегося над нами российского солдата. И оно действительно спасло нас от голодной смерти.
Я теперь хорошо знаю степь. Знаю ее во все времена года. Она всегда по-особому красива, но иногда и безжалостна. Я никогда не боялась случайно встреченного в степи казаха. Боялась же я советских граждан. У казахов, как выяснилось, была своя вера, которую они берегли, свои поверья, свои моральные устои. Это все жило в них, и каждое отступление от заповеданного свыше наполняло их страхом того, что духи отомстят. Казахи сохранили и народные методы лечения, которые иногда приводили к настоящим чудесам. Однажды, перед тем как перейти к казаху, у которого мы с сыном должны были провести зиму, я вместе с несколькими поляками сняла угол у других казахов. Там мы и столкнулись с настоящей знахаркой. На топчане лежал мужчина с высокой температурой. В его правой руке, пораненной на работе, начиналось заражение крови. Возле страдальца испуганно суетилась жена. Наша подруга по съемному углу Ханка Зеленская пришла посмотреть больного. Я встала рядом с ней и в ее глазах увидела приговор. Она сказала, что если сегодня же не ампутировать руку, то мужчина погибнет. По ее мнению, его нужно было госпитализировать, а для этого – срочно отвезти в Жарму. Но это целый день нелегкой дороги на запряженной волами подводе. Вскоре в избу вошла старая казашка, сопровождаемая женой больного. Съежившаяся, с искривленными пальцами на отекших руках. Седые волосы, заплетенные в косички, были небрежно скреплены на шее. Не обращая на нас ни малейшего внимания, под взглядом встревоженной жены она начала разминать какое-то принесенное с собой месиво. При этом старушка бормотала нечто странное. Возможно, магические слова или заклинания. В этом месиве я увидела плесень, какие-то части лягушки и что-то еще. Все это знахарка смешивала со своей слюной. Плевала она туда постоянно и все время произносила непонятные нам слова с какой-то певучей интонацией. Потом старушка приложила готовую массу к распухшим красно-синим железам под мышкой и перевязала тряпками. С недоверием и жалостью смотрели мы и на знахарку, и на больного, уже представляя себе его без руки, непригодного для работы. Однако он выздоровел, причем очень быстро. Красно-синие полосы начали исчезать, а через несколько дней и речи не шло об опасности. Он был спасен. (Сегодня уже известно, что народная медицина очень давно открыла пенициллин.)
Когда в Ивановке зима подходила к концу и мороз ослабевал, это еще не означало, что скоро начнется оттепель. В такое время я покинула дом, где мы зимовали, и до возвращения в барак за какую-то свою вещь сняла временный угол у Ивана – нашего начальника и погоняльщика на работе. О нем говорили, что этот русский крестьянин был в царское время каторжником и отбывал в Сибири наказание за убийство. Рассказывали даже, что он лишил жизни целую семью. Революция освободила его, как и многих других преступников. Он был грубым и жестоким. Собственную жену и двух сыновей избивал железной палкой.
В углу, который я сняла у него, уже жили две женщины – мать и дочь. Старушка мать не совсем понимала, что с ней происходит и где ее дочка. Манюся Квяткова, тихая и покорная, самоотверженно ухаживала за матерью. Мы с Манюсей очень сблизились и однажды решили вместе отправиться в Жарму, чтобы повыгоднее выменять наши вещи. Но, подумав, решили отложить эти планы на чуть более теплое время. Хоть весна и приближалась, степь, несмотря на это, была еще опасна и покрыта горами льда. К тому же гулял холодный, пронизывающий до костей ветер. А наша одежда состояла из лохмотьев. Особенно плохо обстояло дело с обувью.
Тем не менее, узнав, что живущий на краю поселка Кореанчик оставляет Ивановку и со всей своей семьей отправляется в Жарму, я пошла спросить, нельзя ли к ним присоединиться. В избе я увидела чем-то занятого Кореанчика, в углу стоял мальчик лет двенадцати и утрамбовывал зерно. Посередине у низкого столика сидела молодая красивая женщина и кормила грудью младенца. Кореанчик равнодушно воспринял мою просьбу. Сказал, что могу идти, ему это не помешает. Никакой помощи в пути он не обещал. Я обратила внимание на то, что мальчик в углу был очень тихим и каким-то забитым. Время от времени Кореанчик злым и нетерпеливым голосом понукал его к работе. (Как потом выяснилось, это был сын от его первой жены, которая умерла.) Мы с Кореанчиком договорились, что выходим из Ивановки около пяти утра. Я понимала, что будет трудно, но количество вещей, которые можно было обменять на еду, все уменьшалось. Наши местные казахи то и дело давали в обмен гораздо меньше, чем прежде, а то и вообще отказывались меняться. А мои продуктовые запасы быстро истощались.
В условленный день я появилась у Кореанчика. Анджей остался под присмотром Манюси Квятковой, которой я отдала для его пропитания весь свой (уже не очень большой) запас зерна. Я надеялась вернуться из Жармы с мукой, салом, а может быть, и с маленькой буханкой хлеба.
Мы вышли из хибарки в полной темноте, словно совершая нечто тайное. Не знаю, в связи с чем Кореанчик решил оставить Ивановку. Сама я ни разу не получала разрешения на то, чтобы хоть на день выбраться в Жарму. Правда, и не просила об этом, зная заранее, что откажут. Кореанчик посадил свою красавицу жену с младенцем в маленькие сани и потащил их. За ними шли мы с его старшим сыном, который нес какой-то мешок. Ребенок все время молчал и выглядел понурым. Мы вышли в степь. Кореанчик быстро вез сани, которые скользили легко и бесшумно. Вскоре я потеряла их из виду и осталась одна с мальчиком. Было еще темно. Местность, понятно, оказалась неровной. Я начала падать на твердом льду и с большим трудом преодолевала даже небольшие ледовые холмы. Взбиралась на них, падала, спуститься могла только на четвереньках. Все время я окликала мальчика, боясь потерять его. А саночек мы уже давно не видели. Парнишка неохотно подавал мне руку и сразу отнимал ее. Он походил на дикого зверька. Для меня же он был единственной надеждой не пропасть в темном ледовом пространстве. Ночь еще не отступила. Все время казалось, что перед нами возвышается какая-то черная стена. На мои оклики Кореанчик не отзывался. Не исключаю, что он как раз хотел, чтобы мы заблудились по дороге.
На ногах у меня были калоши Анджея, обмотанные тряпками. Лед примерзал к ним, образуя ледяные подошвы. В результате я все время скользила и падала на этом дьявольском гололеде. Были минуты, когда я даже хотела вернуться. Казалось, что могу замерзнуть и навсегда остаться в этой степи. Кореанчик скрылся. Возможно, он опасался какой-то погони.








