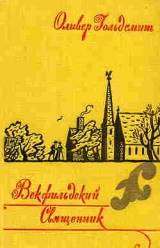
Текст книги "Векфильдский священник"
Автор книги: Оливер Голдсмит
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Оливер Голдсмит
Векфильдский cвященник.
История его жизни, написанная, как полагают, им самим.
Предуведомление.
В предлагаемом труде тысяча недостатков, и вместе с тем можно привести тысячу доводов в пользу того, что недостатки эти являются его достоинствами. Впрочем, в этом нет надобности. Книга бывает занимательна, несмотря на бесчисленные ошибки, и скучна, хоть в ней не найдется ни единой несообразности. Герой этой повести совмещает в себе трех самых важных представителей человеческого рода: священника, земледельца и главу семьи. Он равно готов поучать и повиноваться; в благополучии прост, в несчастье величественен. Кому, впрочем, в наш век утонченности и процветания придется по душе такой герой? Те, кого привлекает великосветская жизнь, с презрением отвернутся от непритязательного круга, собравшегося у семейного очага; те, кто привык принимать непристойности за остроумие, не найдут его в простодушных речах селянина; тем, кто воспитан ни во что не ставить религию, будет смешон человек, черпающий главное свое утешение в мыслях о будущей жизни.
Оливер Голдсмит
Глава I
Описание векфильдской семьи, в которой фамильное сходство простирается не только на внешние, но и на нравственные черты
Всю жизнь я придерживался того мнения, что честный человек, вступивший в брак и воспитавший многочисленное семейство, приносит в тысячу раз больше пользы, чем тот, кто, пожелав остаться холостым, только и знает, что болтать о благе человечества. По этой-то причине, едва миновал год после моего посвящения, как я начал подумывать о супружестве; и в выборе жены поступил точно так же, как поступила она, когда выбирала себе материю на подвенечный наряд: я искал добротности, не прельщаясь поверхностным лоском. И надо сказать, что жена мне досталась кроткая и домовитая. К тому же, не в пример другим нашим деревенским девицам, она оказалась на редкость ученой – любую книжку осилит, если в ней не попадаются чересчур уж длинные слова. Что же до варений, да солений, да всяческой стряпни, так тут уж никому за ней не угнаться! Кроме того, она хвалилась чрезвычайной своей бережливостью, хотя я не могу сказать, чтобы мы вследствие экономических ее ухищрений стали особенно богаты!
Как бы то ни было, мы нежно любили друг друга, и чувство наше крепло по мере того, как сами мы старились. Словом, мы не имели причин роптать ни на судьбу, ни друг на друга. Жили мы в прекрасном доме, посреди живописной природы, и общество, окружавшее нас, было самое приятное.
Мы гуляли по окрестностям или находили себе занятие дома, навещали богатых соседей, помогали бедным; ни о каких переменах не помышляли, тягостных забот не ведали, и все наши приключения совершались подле камина, а путешествия ограничивались переселением из летних спален в зимние, и из зимних – в летние.
Жилище наше стояло неподалеку от проезжей дороги, и к нам частенько наведывались путники и прохожие, которых мы непременно потчевали крыжовенной настойкой, ибо она составляла гордость дома; и должен сказать со всей беспристрастностью историка, что никто ни разу ее не хулил. Многочисленная родня, иногда такая дальняя, что мы даже но подозревали о ее существовании, помнила о своей кровной связи с нами, не справляясь с гербовником, и частенько нас навещала. Не всегда, однако, родство это придавало нам блеск, так как среди родственников попадалось немало увечных, слепых и хромых. Но жена моя полагала, что раз они одной с нами крови, то и место им за одним с нами столом. Таким образом гости наши, хоть они не блистали богатством, оставались всегда всем довольны. Известно ведь, и это непреложная истина, что чем беднее гость, тем легче ему угодить. А для меня счастливое лицо все равно, что для иного любителя красивый тюльпан или редкая бабочка. Впрочем, если среди наших родственников попадался человек вовсе непутевый, или кто-нибудь из них оказывался очень уж беспокойным гостем, пли, наконец, просто был нам не по душе, я стремился одолжить ему что-нибудь – куртку, башмаки или не слишком дорогую лошадь – и всякий раз с величайшим удовлетворением замечал, что человек этот больше у нас не появляется. Таким образом избавлялись мы от людей нам неприятных. Но конечно же, ни страннику, ни бедняку, нашедшему приют в лоне векфильдского семейства, отказа никогда не бывало.
Так прожили мы несколько лет, наслаждаясь безмятежным счастьем. Разумеется, посещали нас иногда и невзгоды, но ведь провидение ниспосылает их нам лишь затем, чтобы мы могли еще сильнее оценить его милости. То школьники заберутся в мой фруктовый сад, то жена припасет сладкую подливку к пудингу, а кошки или дети возьмут да и полакомятся ею без спросу. Иной раз помещик заснет в самом трогательном месте моей проповеди, а то, глядишь, его супруга, повстречавшись в церкви с моей, ответит на ее любезное приветствие едва приметным поклоном. Но все эти мелкие неприятности тут же нами и забывались, и к концу третьего или четвертого дня мы уже сами обычно дивились своей досаде.
Наградою за умеренность, которой придерживались всю жизнь родители, было то, что дети наши появились на свет здоровыми, не изнеженные последующим воспитанием, такими же и выросли; сыновья – полные жизненных сил крепыши, дочки – цветущие красавицы. Всякий раз, что я окидывал взглядом всю эту маленькую компанию, которой суждено было со временем сделаться опорой моей старости, мне невольно приходил на ум всем известный анекдот о графе Абенсберге: когда Генрих II проходил через Германию[2]2
Генрих II (973-1024) император Священной Римской империи с 1002 года. Эпизод, о котором идет речь, относится к 1023 году.
[Закрыть], все вельможи встречали его дорогими подарками, граф же подвел к своему государю собственных детей, в количестве тридцати двух человек, говоря, что это самая большая его драгоценность. У меня их было, правда, всего только шестеро, но я тем не менее полагал, что принес отечеству чрезвычайно щедрый подарок, и в силу этого считал, что оно в долгу передо мной. Старшего нашего сына назвали Джорджем в память его дяди, оставившего нам десять тысяч фунтов. За ним шла девочка, которую я хотел назвать Гризельдой в честь ее тетки, но этому воспротивилась жена; она зачитывалась романами все то время, что была беременна, и настояла на том, чтобы дочь нарекли Оливией. Не прошло и года, как у нас родилась еще одна девочка. На этот раз я решительно был намерен назвать дочь Гризельдой; но тут одна из наших богатых родственниц пожелала крестить ее и выбрала ей имя Софья. И вот у нас в семье завелось два романтических имени, но, право же, я в этом ничуть не виноват. Следом за ними появился Мозес, а после перерыва в двенадцать лет у нас родилось еще два сына.
Тщетно стал бы я скрывать восторг, охватывавший меня при виде всей этой молодой поросли; но еще больше гордилась и радовалась, глядя на них, моя супруга. Бывало, какая-нибудь гостья скажет:
– Поверьте, миссис Примроз, таких хорошеньких деток, как ваши, во всей округе не сыщешь!
– Да что, милая, – ответит жена, – они таковы, каким их создало небо: коли добры, так и пригожи; по делам ведь надобно судить, а не по лицу.
И тут же велит дочерям поднять головки; а сказать по правде, девицы у нас были и в самом деле прехорошенькие! Ну, да наружность в моих глазах вещь столь незначительная, что, если бы кругом все не твердили о красоте моих дочерей, я бы о ней вряд ли и упомянул. Оливия, которой исполнилось восемнадцать лет, обладала всепокоряющей красотой Гебы[3]3
Геба – богиня вечной юности (греч. миф).
[Закрыть], как ее обычно рисуют живописцы, – открытой, живой и величавой. Черты Софьи на первый взгляд казались менее разительны, но действие их было тем убийственнее, ибо в них таились нежность, скромность и полное соблазна очарование. Первая побеждала сразу, с одного удара, вторая – постепенно, путем повторных атак.
Душевные свойства женщины обычно определяются ее внешним обликом. Так, во всяком случае, было с моими дочерьмИ. Оливии хотелось иметь множество поклонников, Софье одного, да верного. Оливия подчас жеманилась от чрезмерного желания нравиться, Софью же так страшила мысль обидеть кого-нибудь своим превосходством, что она иной раз даже пыталась скрывать свои достоинства. Первая забавляла меня своей резвостью, когда я бывал весел, вторая радовала благоразумием, когда я был настроен на серьезный лад. Ни в той, ни в другой, однако, качества эти не были развиты до крайности, и я часто замечал, что дочери мои как бы меняются друг с дружкой характерами на целый день. Так, стоило резвушке моей, например, облачиться в траур, как в чертах ее проступала строгая важность, и напротив – несколько ярких лент вдруг придавали манерам ее сестры несвойственную, казалось бы, им живость. Старший сын мой, Джордж, получил образование в Оксфорде, так как я предназначал его для одной из ученых профессий[4]4
«Учеными профессиями» в Англии того времени считались богословие, юриспруденция, медицина и музыка. Обучали этим профессиям обычно уже после окончания университета, дававшего общее классическое образование, в корпорациях лиц соответствующих профессий.
[Закрыть]. Второй сын, Мозес, которого я прочил пустить по торговой части, обучался дома, всему понемножку.
Ну, да невозможно сказать что-либо определенное о характере молодого человека, который еще не видел света. Словом, фамильное сходство объединяло их всех, и, собственно, у всех у них характер был одинаковый – все были равно благородны, доверчивы, простодушны и незлобивы.
Глава II
Семью постигает несчастье. Лишившись состояния, человек благородный не теряет чувства собственного достоинства
Почти всеми мирскими делами нашей семьи вершила жена; но в вопросах духовных я был полный хозяин. Мой приход доставлял мне ежегодно около тридцати пяти фунтов, которые я жертвовал целиком в пользу вдов и сирот священнослужителей нашей епархии; обладая изрядным состоянием, я мог не заботиться о вознаграждении и испытывал тайную радость при мысли, что исполняю свой долг безвозмездно. Кроме того, я решил не держать помощника и вменил себе в обязанность хорошенько познакомиться со всеми своими прихожанами, призывая людей семейных к трезвости, а холостым рекомендуя супружество; так что за несколько лет моего пребывания в Векфильде там даже сложилась такая поговорка: «В Векфильде три недостатка: священнику недостает чванства, молодым людям – невест, а кабатчикам – завсегдатаев».
Брак всегда был излюбленным предметом моих рассуждений, и я даже составил несколько проповедей, в которых доказывал, что он является непременным залогом счастья; тут, однако, я держался таких же точно убеждений, что и Уистон[5]5
Уистон Уильям (1667-1752) – известный английский богослов и математик, сотрудник Ньютона. В 1711 г. опубликовал книгу «Историческое введение к возрожденному раннему христианству», а в 1715 г. основал общество, ставившее себе целью проводить в жизнь идеи, изложенные в этой книге. Взгляды Уистона казались настолько опасными, что он был изгнан из Кембриджского университета и против него был начат процесс по обвинению в ереси. Требование единобрачия духовенства было лишь одной из частностей религиозной доктрины Уистона, но герой Голдсмита и во многом другом близок взглядам Уистона – главным образом в противопоставлении морали раннего христианства современной испорченности нравов.
[Закрыть], и полагал, что священник англиканской церкви по смерти своей первой жены не имеет права жениться вторично, иными словами – я был сторонником строжайшего единобрачия.
С самых первых моих шагов я был посвящен в знаменательный спор, породивший столь великое количество ученых сочинений. Я и сам выпустил несколько трактатов, в которых излагал свой взгляд на этот предмет; правда, никто их не покупал, и они так и остались лежать у книгопродавца, но зато я утешался мыслью, что мои творения доступны одним лишь избранным счастливцам. Кое-кто из моих друзей называл это моей слабостью – бедняги, разве просиживали они, подобно мне, долгие часы, размышляя о сем предмете? Я же чем больше думал о нем, тем больше постигал всю его важность. В осуществлении своих принципов я даже пошел несколько дальше самого Уистона. Так, он, потеряв жену, приказал вырезать на ее могильном камне надпись, гласящую, что под ним покоится тело единственной жены Уильяма Уистона; а я при живой жене заказал ей эпитафию, где превозношу благоразумие, бережливость и смирение, не покидавшие ее до самой смерти; красиво переписанная и вправленная в изящную рамку, она висела у нас над камином и отвечала нескольким весьма полезным целям одновременно: напоминала жене о ее долге, указывала на мою верность ей, вызывала в ней желание заслужить добрую славу и вместе с тем не давала забывать о бренности человеческой жизни.
Быть может, мои беспрестанные рассуждения о браке тому виною, но мой старший сын, едва окончив колледж, уже сделал свой выбор, полюбив всем сердцем дочь одного духовного лица, жившего неподалеку от нас и облаченного высоким саном; за ней можно было ожидать изрядное приданое; впрочем, она и без всякого приданого была хороша. Все (за исключением моих дочерей, конечно) признавали, что мисс Арабелла Уилмот – настоящая красавица. Тут было не одно очарование молодости, здоровья и невинности – прозрачный румянец ее был так нежен, взор обличал такое чувствительное сердце, что даже старость не могла взирать на нее равнодушно. Мистер Уилмот, зная, что я в состоянии выделить немалую долю своему сыну, не возражал против такого жениха, и у нас царила гармония, какая обычно устанавливается между двумя семьями накануне окончательного сближения. Убедившись на собственном опыте, что пора ухаживания – самая счастливая пора в нашей жизни, я был не прочь продлить ее для них как можно дольше: встречаясь ежедневно, влюбленные принимали участие в общих увеселениях, и взаимное чувство их как будто возрастало от того еще более. По утрам обычно нас будила музыка, в погожие дни мы выезжали на охоту. Часы от завтрака до обеда дамы посвящали нарядам и наукам; так, пробежав глазами страничку книги, они гляделись в зеркало, которое и тут, я думаю, философы и те не станут со мной спорить подчас являет больше красот, чем иная книжная страница. За обедом верховодила жена, ибо привыкла собственноручно резать жаркое, ссылаясь при этом на обычай своей матушки; нужно ли говорить, что она не упускала случая поведать нам историю каждого блюда! После обеда, не желая расставаться с дамами, я обычно давал слуге распоряжение отодвинуть стол, и иногда мои дочери вместе с учителем музыки устраивали для нас чрезвычайно приятный концерт. Прогулки, чай, кадриль, фанты – так коротали мы остаток дня, не прибегая к картам, потому что я терпеть не могу никаких азартных игр, кроме игры в триктрак, в которую подчас сражался со своим старинным приятелем, ставя по два пенса на кон. Не могу тут обойти молчанием досадный случай, приключившийся со мной в последний раз: мне нужно было выкинуть четыре очка, а между тем у меня выходила все двойка да единица – пять раз кряду!
Прошло несколько месяцев, и мы стали наконец подумывать о том, чтобы назначить день для бракосочетания наших влюбленных, которые, по-видимому, страстно того желали. Не стану описывать ни суетливую важность, с какой хлопотала жена, готовясь к торжеству, ни многозначительные взгляды, которыми обменивались между собой мои дочери; говоря откровенно, меня в то время занимало совсем другое: я заканчивал очередной трактат на излюбленную свою тему и надеялся вскоре его напечатать. Я считал это сочинение образцовым как в отношении логики, так и стиля, и в гордыне сердца своего не удержался и показал его старинному своему другу, мистеру Уилмоту, ибо был уверен в его одобрении. Увы, я слишком поздно убедился, что он был горячим поборником противоположного направления, на что у него были чрезвычайно веские основания, ибо он в ту самую пору задумал жениться в четвертый раз! Как и надо было ожидать, между нами завязался спор, и притом настолько ожесточенный, что, казалось, того и гляди, расстроится задуманный нами брак. Во избежание этого мы положили встретиться накануне бракосочетания и повести диспут по всем правилам.
Обе стороны проявили изрядный пыл. Он утверждал, что я еретик, я обратил тот же самый упрек против него, он возражал, я отвечал. Между тем в самый разгар дискуссии один из моих родственников отозвал меня в сторону и с выражением глубокого участия посоветовал отказаться от дальнейшего спора или хотя бы перенести его на какой-нибудь другой день, после свадьбы моего сына.
– Как? – вскричал я. – Отказаться от правого дела и признать супружество мистера Уилмота законным в ту самую минуту, когда я доказал всю абсурдность его доводов? Да я скорее откажусь от состояния, чем от своих взглядов!
– Как это ни прискорбно, – отвечал на это родственник, – но я должен сообщить вам, что состояния-то у вас почти и нет никакого. Купец, которому вы вверили деньги, обанкротился и скрывается от кредиторов; полагают, что он не даст и шиллинга за фунт. Я не хотел огорчать вас до свадьбы, но, быть может, мое сообщение несколько остудит ваш полемический задор, ибо надеюсь, что вы достаточно рассудительны и поймете сами, что сейчас не время обнаруживать свои истинные чувства и что нужно подождать хотя бы до тех пор, пока состояние девушки не перейдет к вашему сыну.
– Ну, нет, – отвечал я, – если мне и впрямь грозит разорение и суждено сделаться нищим, то негодяем я быть не хочу, и я не подумаю, конечно, отрекаться от своих убеждений. Я сию же минуту пойду и извещу всех о том, что со мной случилось. Что же касается спора, я, напротив, беру назад уступки, которые сделал старику, и не соглашусь признать его супругом четвертой миссис Уилмот – ни в одном из значений этого слова!
Напрасно пытался бы я описать чувства, охватившие обе семьи при известии о нашей беде; но что были наши чувства по сравнению с горестью влюбленных! Мистер Уилмот, который уже и без того был не прочь расстроить этот брак, теперь, узнав о постигшем меня ударе, окончательно решился: в одном ему никак нельзя было отказать – в благоразумии, этой подчас единственной добродетели, какую нам удается сохранить на семьдесят третьем году жизни!
Глава III
Переселение. В конечном счете оказывается, что человек сам является творцом своего счастья
Мы еще тешили себя надеждой, что, быть может, слух о нашем несчастье был пущен кем-нибудь по злобе либо по неведению, когда из города прибыло письмо от моего поверенного, целиком подтверждающее дошедшую до нас весть. Если бы разорение наше коснулось одного меня, я бы особенно не горевал; я огорчался единственно из-за семьи, которую ждало унижение – ведь ни жена моя, ни дети не были приучены равнодушно сносить высокомерие людское!
Не раньше чем через две недели начал я уговаривать их умерить свое отчаяние, ибо преждевременные утешения служат лишь напоминанием о беде. Все это время мысли мои были заняты изысканием средств к существованию; наконец довольно далеко от старого нашего местожительства мне предложили небольшой приход, фунтов на пятнадцать, и таким образом я мог рассчитывать и впредь жить, не поступаясь своими нравственными правилами. Я с радостью согласился на это предложение, а про себя решил завести небольшое хозяйство на месте, чтобы пополнить свои доходы.
После того как я принял решение уехать, я стал приводить в порядок остатки своего состояния; когда я собрал одни долги и выплатил другие, от наших четырнадцати тысяч фунтов осталось всего лишь четыреста. Поэтому главной моей заботой теперь было заставить мое семейство смириться и сообразовать свою гордость с положением, которое нам отныне предстояло занимать, ибо что может быть хуже самолюбивой нищеты?
– Вы, конечно, знаете, дети мои, – начал я, – что никакое благоразумие не могло бы предотвратить разразившуюся над нами беду; однако оно в состоянии помочь нам справиться с некоторыми ее последствиями. Мы теперь бедны, мои дорогие, и разум повелевает нам смириться. Откажемся же без сожалений от роскоши, которая не мешает стольким людям быть несчастными, и постараемся в более скромной доле обрести тот душевный покой, обладая которым может быть счастлив всякий! Бедные прекрасно обходятся без наших услуг, почему бы и нам не научиться жить без их помощи? Итак, дети мои, сразу откажемся от всяких поползновений на барский размах! И с теперешними нашими средствами мы можем прожить счастливо, если будем разумны. Будем же довольствоваться малым, и тогда у нас всего будет вдоволь!
Так как старший мои сын обучался всяким наукам, я решился послать его в столицу, где, приложив свои способности, он был бы в состоянии ц себя прокормить, ц нам помочь. Может быть, самое горькое в бедности – это необходимость разлучаться с близкими. И вот он наступил, день нашей первой разлуки! Простившись с матерью, братьями и сестрами, которые перемежали поцелуи со слезами, он подошел ко мне, чтобы я его благословил. От всей души дал я ему свое благословение. Вместе с пятью гинеями это составляло все, чем я мог его оделить!
– Сын мой, – воскликнул я, – ты идешь в Лондон пешком, как некогда шагал туда твой великий предок Хукер[6]6
Хукер Ричард (1554-1600) – известный английский теолог, автор труда «Законы управления церковью». История его путешествия в Лондон была занимательно изложена в его биографии, написанной Исааком Уолтоиом.
[Закрыть]! Дарю тебе такого же коня, каким епископ Джуэл[7]7
Джуэл Джон (1522-1571) – один из руководителей английской Реформации.
[Закрыть] одарил его, – прими сей посох и еще прими сию книгу, да укрепит она твой дух в пути; вот, кстати, две строчки, которые стоят миллиона: «Я был молод, и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба»[8]8
Псалом 36, стих 25.
[Закрыть]. Пусть же это послужит тебе утешением в твоих странствиях. Иди, сын мой, и как бы ни сложилась судьба твоя, являйся ко мне раз в год; прощай же и не падай духом!
Смело посылал я на ристалище жизни своего сына, не плюющего иных доспехов, кроме честности и душевной чистоты, ибо знал: что бы ни ожидало его – победа или поражение, – он все равно останется благородным человеком.
Его отъезд предварил наш собственный лишь на несколько дней. Прощание с местами, где мы провели столько безмятежных часов своей жизни, не обошлось без слез, и я думаю, ни один человек, как бы тверд духом он ни был, не нашел бы в себе силы подавить их. К тому же мысль о путешествии за семьдесят миль, которое предстояло совершить нашей семье, дальше чем за десять миль дотоле никуда не выезжавшей, повергала нас в уныние, а вопли и причитания беднейших из моих прихожан, пожелавших проводить нас первые несколько миль, еще больше это уныние усугубляли. К концу первого дня путешествия мы благополучно добрались до какой-то деревеньки, расположенной в тридцати милях от нашего будущего пристанища, и устроились ночевать на постоялом дворе. После того как нам отвели комнату, следуя своему всегдашнему обычаю, я пригласил хозяина распить с нами бутылочку вина; он принял мое приглашение тем охотнее, что счет, который готовился предъявить нам наутро, от этого отнюдь не должен был сократиться. Зато он мог рассказать мне о людях, среди которых мне суждено было отныне жить, а главное, о мистере Торнхилле, помещике, в чьих владениях находился мой новый дом, расположенный к тому же всего в нескольких милях от его собственной усадьбы. Он аттестовал его как джентльмена, который в жизни привык искать одни наслаждения и славился своей приверженностью к прекрасному полу. Никакая добродетель, по словам хозяина, не могла устоять против его искусства и настойчивости, и на десять миль кругом едва ли можно было встретить девушку, которая бы не оказалась жертвой его вероломства. Надо сказать, что сведения эти, глубоко опечалившие меня, на дочерей моих возымели действие прямо противоположное: черты их словно озарились предвкушением торжества; жена, по-видимому, испытывала такую же радость и уверенность в могуществе их чар и силе их добродетели. Мысли наши были еще заняты мистером Торнхиллом, когда в комнату вошла хозяйка и сообщила своему мужу, что у постояльца, который живет у них вот уже вторые сутки, нет денег, чтобы оплатить счет.
– Нет денег? – повторил хозяин. – Этого не может быть, ибо не далее как вчера он дал три гинеи приставу, чтобы тот отпустил одного старого, израненного солдата, которого должны были наказать плетьми за то, что он похитил собаку.
Когда же хозяйка в ответ лишь повторила свои слова, муж ее, клянясь, что так или иначе взыщет с постояльца свое, двинулся было к дверям; но я стал просить его познакомить меня с человеком, который, судя по его словам, был столь щедр и сострадателен.
Хозяин вышел и вскоре вернулся в сопровождении господина лет тридцати на вид; кафтан его все еще хранил следы позументов, наружность была изящна и печать мысли лежала на его челе. В обращении его проглядывало что-то повелительное, чуть резковатое, и казалось, что он то ли не понимает светских условностей, то ли нарочно пренебрегает ими. Когда хозяин оставил нас, я не удержался и выразил незнакомцу сожаление по поводу того, что вижу благородного человека в столь печальных обстоятельствах, и тут же предложил ему свой кошелек, чтобы вывести его из временного затруднения.
– Принимаю вашу помощь от всей души! – воскликнул он. – Я рад, что совершил оплошность и отдал все деньги, какие были при мне, ибо благодаря этому убедился, что существуют еще на свете такие люди, как вы. Но прежде всего разрешите узнать имя и местожительство моего благодетеля, чтобы при первой возможности выплатить долг.
В ответ я назвал себя и поведал о несчастье, меня постигшем; а также рассказал, куда мы держим путь.
– Вот и отлично! – воскликнул он. – Ведь я сам направляюсь в ту сторону, и просидел тут двое суток из-за разлива реки, которая к завтрашнему дню, надо надеяться, войдет в берега.
Я тоже выразил радость, узнав, что мы попутчики, и пригласил его отужинать с нами. Жена и дети присоединились к моей просьбе. Беседа незнакомца была так занятна и поучительна, что я готов был слушать его без конца; но нам давно уж было пора на покой; нужно было подкрепить свои силы сном, ибо на следующий день нам опять предстояло двинуться в путь.
Наутро мы все отправились вместе – мы верхами, а мистер Берчелл, – так звали нашего нового знакомца – пешком по обочине, причем он говорил с улыбкой, что не обгоняет наших одров из одного лишь великодушия. Так как вода еще не совсем спала, нам пришлось нанять проводника, который трусил впереди, в то время как мы с мистером Берчеллом замыкали шествие. Мы разгоняли дорожную скуку с помощью философских споров, в которых он оказался весьма искусным. Особенно же меня поразило то обстоятельство, что защищал он свои убеждения с таким упорством, словно был не должником моим, а покровителем. Время от времени он сообщал мне, кому принадлежат поместья, мимо которых мы ехали.
– Это вот, – сказал он, указывая на великолепнейший дом несколько поодаль, – принадлежит мистеру Торнхиллу; его дядя, сэр Уильям Торнхилл, довольствуясь малым и проживая большей частью в городе, предоставляет почти все свое состояние в распоряжение молодого человека.
– Возможно ли, – вскричал я, – чтобы соседом моим оказался племянник человека, столь известного своею добродетелью, щедростью и чудачествами!' Я слышал, что сэр Уильям Торнхилл самый щедрый человек и вместе с тем самый большой оригинал во всем королевстве; говорят также, что это человек непревзойденной доброты!
– И даже несколько чрезмерной как будто, – возразил мистер Берчелл. – В юности, во всяком случае, он доводил свою доброту до излишества, ибо, обладая пылкой душой, он даже в добродетели своей не мог удержаться от романтического преувеличения. С молодых лет почувствовал он склонность к военному искусству и к наукам; и на том и на другом поприще преуспел: отличился как солдат и прослыл ученым человеком. Но лесть, эта непременная спутница честолюбцев, – ибо из всех людей они наиболее падки на нее, – не замедлила явиться и тут. Он был окружен толпой, где каждый стремился обнаружить перед ним лишь одну сторону своего характера, и в своем благоволении ко всему роду людскому он забывал об отдельных его представителях. Ему был мил весь свет, богатство мешало ему видеть, что в мире водятся также и негодяи. Врачи говорят, что есть такой недуг, при котором тело больного становится настолько остро чувствительным, что малейшее прикосновение причиняет боль. И вот то, что некоторым довелось испытать физически, этот господин ощущал душевно. Чужая невзгода, подлинная ли, вымышленная, все равно, – трогала его сердце, и душа его содрогалась от боли, которую причиняли ей страдания ближнего. Так как он был готов оказывать помощь всякому, то, разумеется, в тех, кто был расположен просить его о помощи, тоже не было недостатка; щедрость его начала уже отражаться на его кошельке, но великодушие от того нисколько не убывало; оно, казалось, росло по мере того, как скудел кошелек. Сам же он становился что ни беднее, то безрассуднее.
И хоть речи его были разумны, вел он себя, как последний глупец.
И вот, окруженный наглецами и уже бессильный удовлетворить всех, кто к нему обращался, он стал вместо денег раздавать обещания. Это было все, что у него осталось, огорчить же кого-либо отказом у него не хватало решимости. Таким образом он собрал вокруг себя целую толпу прихлебателей, которых он жаждал облагодетельствовать, а вместо того невольно обманывал. Люди эти некоторое время продолжали осаждать его, затем, осыпав заслуженными упреками, с презрением его оставили. При этом чем ничтожнее становился он в глазах людей, тем более жалким начинал он казаться самому себе. Он привык полагаться на лесть, и теперь, когда лишился этой опоры, голос сердца не в состоянии был утешить его, ибо он не привык к нему прислушиваться.
Все переменилось. Друзья более не расточали ему восторженных похвал, ограничиваясь простым одобрением, да и оно все чаще стало принимать форму дружеского совета, а за советом, если он его отвергал, следовали упреки. Тут он понял цену друзьям, которых привлекали к нему блага, им расточаемые. Тут-то понял он, что, если хочешь, чтобы сердце другого человека принадлежало тебе, нужно отдать ему взамен свое. Тут-то понял я, что... что... что же это я хотел сказать? Забыл!.. Короче говоря, сударь, он решил подумать о себе и составил план спасения своего быстро тающего состояния. Своеобычный и тут, он исходил пешком всю Европу, и теперь, хотя ему нет еще тридцати, он сделался богаче прежнего. Щедрость его стала разумнее и умереннее, но он по-прежнему слывет чудаком в благодеяния свои облекает в самую затейливую форму.
Я слушал мистера Берчелла с таким увлечением, что даже ни разу не взглянул вперед; но вдруг до моих ушей донеслись тревожные крики, и, повернув голову, я увидел младшую свою дочь посреди бурного потока, с которым она тщетно боролась: лошадь выбросила ее из седла. Она уже дважды погрузилась в воду с головой, а я не мог соскочить достаточно проворно, чтоб поспеть ей на помощь. Да и смятение мое было так велико, что я все равно не был бы в состоянии ее спасти; гибель ее казалась неминуемой. Но тут мой спутник, увидев, какая ей угрожает опасность, кинулся в воду и после значительных усилий доставил ее на противоположный берег,
Меж тем мы поднялись несколько выше по течению, нашли брод и благополучно переправились на ту сторону; вместе с дочерью пытались мы выразить свою признательность ее избавителю. Впрочем, благодарность ее легче представить, чем описать! Не столько словами, сколько взглядами выражала она своп чувства, продолжая между тем опираться на его руку, словно все еще нуждаясь в его поддержке. Жена тоже высказала надежду, что ей представится случай когда-нибудь отблагодарить его под нашей кровлей.
Затем, после того как мы все вместе подкрепились обедом в ближайшей харчевне, мистер Берчелл простился с нами, так как отсюда путь его лежал в другую сторону; мы поехали дальше, причем жена не преминула заметить, что он ей до чрезвычайности понравился, прибавив, что, если бы он был человеком благородного происхождения и обладал приличным состоянием, позволяющим ему думать о такой семье, как наша, она лучшего жениха для своей дочери и не пожелала бы. Я не мог удержаться от улыбки, слушая эту горделивую речь; впрочем, я никогда не считал нужным осуждать невинные заблуждения, если они доставляют человеку немного радости.








