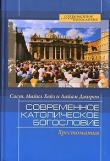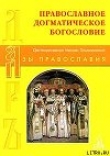Текст книги "Смысл Земли"
Автор книги: Оливье Клеман
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Маркса отказываются сегодня оттрансценденции эсхатологии в отношении истории, а под влиянием Фрейда – от трансценденции эсхатологии по отношению к yuch, не подозревая о том, что если бы они победили в Церквах, то осушили бы сами источники научно–технического динамизма, который наверняка питает и их надежды.
Мыв не отрекаемся от исторических и метаисторических событий, внутри которых, хотим мы того или нет, все мы находимся. Библейское откровение, Воплощение, ожидание Царства навсегда покончили с возможностью имманентного обобщения (totalisation). Христианство – а впрочем, уже и Ветхий Завет – навсегда устранили равновесие вселенной, обнаружив неукротимую, неутолимую человеческую свободу, которая выше естественного космоса древних, равно как и психосоциальных структур наших современников, и пронизанный богочеловеческим напряжением динамизм эсхатологического завершения, куда история и человек не войдут без Суда. Со времен призвания Авраама и креста Иисуса в мире присутствуют беспокойство, поиск, бесконечность, и мир больше не может замыкаться в себе самом. Современные наука и технология возникают в этой открытости, в этой безграничности, рожденных от желания идти, невзирая на землю и звезды, неведомо куда, от борьбы с ангелом, от Бога, который не есть deus ex nachina нашего невежества и бессилия, но который делает нас свободными, умирая рабом на кресте.
Христианство – и об этом не следует забывать – прежде всего столкнулось с corpus'ом наук доисторического происхождения, наук о внутреннем мире и тонких предметах, последняя реадаптация которых для средиземноморского мира была произведена на Ближнем Востоке в духе неоплатонизма. Индийская йога и китайская медицина – последняя любопытным образом инкапсулирована в одну из разновидностей марксизма, эволюционизм и материализм которого она опровергает, – еще и сегодня дают примеры такого рода знания.
С одной стороны, христианство вело и продолжает вести упорную борьбу против этих учений о тонкой телесности, о космической магии, дабы утвердить – в противовес природе, преследуемой демонами, и даже в противовес посредничеству падших сил – свободу и трансцендентность личности. Борьба отцов с mathematici и другими астрологами греко–римского мира, прославление ими человеческой свободы перед лицом детерминизмов священной природы слишком хорошо известны, чтобы возвращаться к ним вновь. В Византии никогда не утихала борьба против неоплатонизма, превратившегося в религию и космическую магию. На Западе все закончилось сожжением или побитием камнями ведьм – настоящее исступление XVII века, когда как раз и складывались контуры современной науки. Заглядывая глубже, можно сказать, что подвиг великих монахов окончательно очистил землю от гниющего трупа Пана и сделал человека ответственным за очищенную от заклятий землю…
Однако христианство не отбросило целиком эти древние науки и то, что они осуществляли на практике. Отделив их от черной магии, от пантеистических выводов, утверждая при использовании их элементов трансцендентность личного Бога и человеческой личности, христианство отчасти преобразило их огромное и опасное наследство. Среди прочего здесь стоит напомнить о судьбе алхимии в Византии и на Западе или о пифагорейских познаниях о числах и ритмах, которые были очень важны как для византийских строителей, так и для западных, работавших в романском стиле. В рамках, несомненно, слишком статичных и стеснительных для творчества, где забота о сакральности преобладала над эсхатологическим напряжением, была проделана колоссальная работа, все плоды которой нам, быть может, еще предстоит отыскать. Ибо выполнявшие ее люди сумели проникнуть в божественный свет в камне и в крови, в глубинах бессознательного и в природе. Они сумели придать рабочим движениям значение символов, с помощью которых человек способен соединиться с божественной мыслью – в том виде, в каком ее выражают космические ритмы.
С той эпохи берет свое начало особенный облик стародавних христианских стран и земель. Если во вновь возникших государствах природа дика или исковеркана, если у «дикарей» или в Индии, а еще больше на традиционалистском Дальнем Востоке творчество человека последовательно превращается в нечто «космическое», в древних христианских странах природа отмечена благодатью, она обретает живое лицо, становясь порой истинным «образом Образа», образом человека, который сам есть образ Божий. Далекий от того, чтобы через космос раствориться в безличном абсолюте, – таков мудрец на старинных китайских картинах, сидящий в окружении пустоты облаков и вод, – христианин налагает на природу отпечаток личности, чтобы принести ее Богу – до такой степени, что каждая местная церковь, каждая традиция святости создала свой собственный «харизматический пейзаж».
И это досовременное христианство вместе с античной наукой о космическом единстве сумело аккумулировать энергии, одно лишь развертывание которых сделало возможными современные открытия и изобретения. Невозможно переоценить плодотворность аскезы монахов (нередко пахарей целины), всякий раз несущей на себе отпечаток личности («personnalisante»), и крепкого крестьянства, которые создали базу для современного социального и интеллектуального развития и отсутствие которых сегодня столь пагубно для многих стран «третьего мира».
На протяжении всей этой эпохи византийское христианство ощупью продвигалось не только к равновесию, но и к преображению; его всходы, появившиеся в период турецкого завоевания, должны были быть убраны в житницы позднее – из–за отсутствия пригодной для этого исторической почвы.
В то время как светская культура Византии, нисколько не подчиненная людям Церкви, усваивала алхимию и акусматику [118]118
Знания, приобретаемые на первой стадии ученичества в пифагорейских школах. – Прим. пер.
[Закрыть]. необходимые для ее искусств и ремесел, пока церковная мысль, сражавшаяся с постоянной угрозой гностицизма, двигала вперед в совершенстве отточенную Аристотелем рациональность, мистическое знание, распространявшееся через литургию, разрабатывало концепцию преображения божественными энергиями тела и космоса. Но светлая встреча, которая вырисовывалась в Византии, была расстроена драмой истории: гуманизм и особое космическое ощущение – священное, но еще не церковное – передвинулись на Запад вместе с греческими учеными, которые пришли оплодотворять итальянское Возрождение, но отнюдь не богословие божественных энергий, скрытое отныне за монастырскими стенами без всякого продолжения в культуре.
Однако на Западе, оставшемся чуждым великим пневматологическим разработкам Византии, в его собственном духовном достоянии не было ничего, что позволило бы ему оплодотворить Фаворским светом взлет наук и технологий. Напротив, этот взлет совпал с настоящей ссылкой Бога на небо. Повышение цены за прощение грехов заслугами Христа [119]119
По всей вероятности, имеется в виду продажа индульгенций. – Прим. пер.
[Закрыть], в ущерб обожению всей плоти земли в Боге, ставшем человеком, схоластический субcтанциализм, который сделал трудным, если не невозможным, восприятие божественных энергий, реально пронизывающих вселенную, – все это способствовало тому, что на Западе искупление было лишено своей космической значимости. Космическое чувство Возрождения оказалось покинутым христианством, которое – в условиях Реформации, так же как и Контрреформации – стало религией души в духе августинского девиза «Бог и моя душа» и активной морали, победоносной, но лишенной способности к онтологической метаморфозе (пуританство и его католические аналоги). Теперь оно предалось оккультизму, закрытому для трансценденции, постепенно секуляризировалось, развивая волю к титанической мощи. В алхимии, например, широко практиковавшейся в первые века новой эпохи, наблюдалось исчезновение citrinitas, то есть фазы, на которой воздействовала благодать: человек, «сын Земли», собирается теперь путем овладения космическими силами обожествить сам себя. Таким образом, расцвет науки и техники отмечен мечтаниями ставшего столь присущим ему специфическим (immanentise') оккультизмом. Тут надо подумать об отношениях Декарта с розенкрейцерами, о тайных истоках фаустовской темы, о странной преемственности, связывающей притязания современной биологии с ностальгией по «гомункулусу» или «голему»…
В то время как ученые заменили более или менее сознательную устремленность (intentionnalite') различными формами прометеизма, христианская мысль, заключенная в рамки «чистой природы» склоняющегося к упадку томизма или реформатского дуализма («Бог на небе, человек на земле»), отождествляла падшую природу – за неимением другой – с Божьим творением. Она забывала о swma pneumatikon о духовной (pneumatique) модальности материи, считала чудо и таинство все более стеснительными аномалиями и, не ведая об «эпигносисе», металась между распространяемым на все рационализмом и фидеистским иррационализмом. Райское состояние, рассматриваемое под углом зрения натурализма, в конце концов было отвергнуто. Евхаристия у одних стала метафизическим переворотом некой трансобъективации, у других – субъективно воспринимаемым знаком. «Демифологизация» фатально привела к безысходной полярности объективного и субъективного. Она спасает – может быть – призрачную веру; но христианской космологии больше нет.
То, что остается в конце описанной эволюции, – это ветхозаветный опыт, которому угрожает прометеизм. Техника – в согласии с великими пророками Израиля – нанесла фатальный удар по всей доличностной космической мистике. Она завершила и сделала необратимыми роды человеческой личности из недр Magna Mater. В нее отливается удивительная энергия христианской аскезы, борющейся против искаженного космического психизма, чтобы утвердить вопреки природе личностное измерение человека. «Значение технической эпохи, – пишет Бердяев, – заключается в том, чтобы закрыть земной период человеческой истории, когда человека – физически и метафизически – определяла земля» [120]120
Me'taphysique de la technique. Contacts, h» 55, p. 163.
[Закрыть].
Словно проклятия Ветхого Завета, техника сделала космос прозаичным, чтобы все оставить истории человечества и историчности каждого человека. Она чужда символизму, целиком отдавшись здесь и теперь механической последовательности. Она разучилась видеть в природе нечто иное, кроме аналога этой последовательности. Она по–своему «демифологизируется».
Техника вырвала человека из прежней нужды и сделала неизбежным – в целях распределения продуктов его труда – требование справедливости. И настойчивое требование Израиля, чтобы воля к справедливости восторжествовала в этом мире. А Церкви не могут ничего другого, кроме как подхватить требование сделать пригодной для жизни планету, где технологическая революция приумножает товары и услуги, но лишь в маленьком привилегированном регионе, когда бедственное положение остального мира усугубляется.
Технологическая революция могла бы составить нечто вроде Ветхого Завета, но не Первого, а Второго пришествия. Она объединяет планету, как Римская империя, столь же эффективная, объединила во время Воплощения средиземноморский мир. Она развенчивает старые культы, древние космические медитации и тренирует индивидуум с помощью требования справедливости. Есть и необходимые аспекты эволюции, которые христиане должны добросовестно поддерживать. Но сверх этого и сквозь это уже просвечивает проблема смысла. С точки зрения православия, десакрализация природы может быть только этапом на пути к ее преображению. Но титанические влияния, которые посредством удаления или искривления христианства отчасти ориентировали научно–технический прогресс, предлагают и свою эсхатологию: внутриисторическую, это верно, и вполне имманентную – «счастье» без преображения. То, что сегодня большинство верующих евреев и все возрастающее число христиан присоединяются к этому движению, – особенно тревожный знак. Борьба за справедливость на всей планете необходима. Но она не должна заслонять собой другую, решающую борьбу – за духовный, за эсхатологический смысл техники. Именно здесь должно вмешаться православие.
2
Православие может вступить в эту борьбу, потому что трактовка его отрицательным богословием Бога и человека, его укорененность в литургическом космосе оберегают его от научно–технического редукционизма и оно само пишет предисловие к чисто техницистской эсхатологии.
Технологическая революция превратилась сегодня в потоп, где тонут древние жилища бытия, и это доходит до сердца исторического христианства, до нашей самой интимной глубины. «Человек осознает себе совершенно по–разному, чувствует ли он под ногами святую, таинственную глубину земли или ощущает землю планетой, летящей в недрах бесконечного пространства, в бесконечных вселенных, и он сам способен отделиться от земли, взлететь и переместиться в стратосферу» [121]121
N. Berdiaev, art. cit., p. 163.
[Закрыть], а теперь гораздо дальше. Пространственные представления о Боге и человеке разрушаются. Больше нет космоса, но для науки есть океан внечувственных абстракций, а для техники – объект, переполненный энергиями, которыми следовало бы завладеть. Научно–техническая мысль притязает взять на себя тотальность реального. Не зная никакой трансцендентности, она создает земное, замкнутое на ней самой, ради стремления к эффективности: «Кажется, что внутри каждого мгновения нет ничего, кроме напряженного перехода к следующему» [122]122
Ibid.: p. 171.
[Закрыть]. Мгновение, которое через созерцание открыто в вечность, заменено в лучшем случае моментом релаксации, торжествующим нигилизмом или оргазмом. Если так будет продолжаться и дальше, замечает Хайдеггер, то «самая удивительная и плодотворная виртуозность вычислительных машин, которые будут изобретать и планировать, вызовет безразличие к медитирующей мысли, то есть полное отсутствие мысли. И что тогда? Тогда человек отвергнет и отбросит все самое человеческое…» [123]123
Op. cit., p. 180.
[Закрыть]
Поскольку мы не чураемся этого, техницистская эсхатология постепенно порождает новый тип человечества. Гипертрофия чисто мозгового, вычислительного мышления и отказ от мышления во время отдыха ради чувственных удовольствий ослабляют объединяющие силы сердца. Всякая тонкая чувствительность, открытая к тайне вещей, чахнет в железном окружении технополиса. В архаическом символизме металл представляет собой крайнюю степень объективации материи. Во Второзаконии указывается, что камней, собираемых для устройства жертвенника, не должно «касаться железо» (27:5–6) [124]124
В синодальном переводе: «не поднимая на них железа». – Прим. пер.
[Закрыть]. А когда строили иерусалимский Храм, «употребляемы были обтесанные камни; ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно» (3 Цар 6:7). Некоторые духовные люди буквально обжигались от соприкосновения с металлическими предметами.
Холод металла, постоянный шум – и на работе, и во время отдыха – умаляют интуитивные и эмоциональные способности человека. Без посредничества сердечных сил человек словно разбит на интеллектуальные и чувственные элементы, на вычислительное мышление, с одной стороны, и на безличную чувственность и стремление к пароксизмам, с другой. И однако все чаще самое существенное не столько отвергается, сколько пародируется. Технополис породил вокруг человека и в самом человеке вселенную, лишенную трансцендентного, которая представляется ему достаточной и отвечающей всем его потребностям. На смену творению Бога приходит творение человека, превращая природу в ландшафт и в иоточник наслаждения.
Так называемое абстрактное искусство предоставляет такие возможности, о которых не помыслил бы сам Бог, а промышленность воспроизводит его «неформальные» формы в предметах и обстановке повседневной жизни. Совершенствование техники изображения и развитие фармакологии раскрывает перед человеком – но только для сугубо личного пользования – мир эмоций и экстаза… Верно, что люди, употребляющие ЛСД, рождают чудовищ, а человек, сформировавшийся по образу человека техницистской эсхатологии, может стать образом Ничто, «последним человеком»: ««Что такое любовь? Что такое творение? Устремление? Что такое звезда?» – так вопрошает последний человек и моргает. Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким… «Счастье найдено нами», – говорят последние люди, и моргают. Они покинули страны, где было холодно жить: ибо им необходимо тепло. Также любят они соседа и жмутся к нему: ибо им необходимо тепло… От времени до времени немного яду: это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно умереть… Каждый желает равенства, все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом… У них есть свое удовольствице для дня и свое удовольствице для ночи; но здоровье – выше всего. «Счастье найдено нами», – говорят последние люди, и моргают» [125]125
Так говорил Заратустра, ч. I, 5. Цит. по: Ф. Ницше Сочинения. В 2–х т. М., 1997. Т. 2, с. 12.
[Закрыть].
В этих условиях Николай Бердяев решительно и резко высказался о духовных обязанностях: «Техника требует силы духа, чтобы не был уничтожен человек…» [126]126
Art. cit., р. 169.
[Закрыть] Сила духа, которая, согласно методам исихазма, должна будить и очищать сердце, рождается из мистического и литургического реализма, куда вписывается и апофатический подход к Богу, который характерен для православного богословия. Бог и человек встречаются не в высоте и не в глубине, а в реальном внутреннем мире, трасубъективном и трансобъективном, в духовном опыте, где дух актуализирует благодать крещения. Любовь не помещается в пространстве, это пространство находит свое место в любви, che move il sole e l'altre stelle [127]127
Которая движет солнце и иные звезды (ит.).
[Закрыть]. Любовь создала мир, Христа, она втайне преображает вселенную. Этот расширенный, воссозданный, озаренный космос предстает перед нами в тайне Церкви. В нем наш неприступный корень, не только небесный, но и земной, наша небесная земля и наше земное небо, источник евхаристической мысли, которая одна способна управлять технологической революцией. Что из того, что цветок или скала сводятся, под определенным углом зрения, к игре недоступных восприятию вибраций, к вихрю энергии? Сама их форма открывается нашему восхищенному взгляду как Слово Божье, и только это откровение способно создать животворную технику, искусство брачного торжества. Что из того, что «киберантропос», которому закон больших чисел позволяет с фантастической эффективностью рассчитывать всевозможные прогнозы, если я различаю в его облике образ Божий, ожидание и обетование иконы? Что из того, что техника устанавливает чисто горизонтальные отношения между человеком и природой, если наше виГдение, которое пробудила fusikh qewria, открывает, что чудо и Воскресение суть истины творения?
Итак, говоря по существу, если православное понимание полагает корни христианства вне всевозможных достижений науки и техники, в другом измерении реальности – поскольку речь идет об одной реальности, – то возникает вопрос: Какова должна быть связь литургического космоса и мира, перенасыщенного техникой, какова должна быть – относительно судьбы технологической революции – новозаветная перспектива?
3
Важнейшим собственно христианским положением здесь, как и везде, может быть только изгнание зла [128]128
Его автор именует экзорцизмом (exorcisme). – Прим. пер.
[Закрыть].
Избавление от тоталитарных устремлений – а это эсхатология, внутренне присущая техницистской цивилизации, – вовсе не означает ни недооценку значения научных исследований и инноваций, которые они влекут за собой, ни попытку их ограничить. Напротив, это означает борьбу в рамках самих исследований и инноваций за то, чтобы сделать их более открытыми к неисчерпаемой реальности, побудить их более уважительно относиться к своему богатству. Христианин, который благодаря всему «эпигносису» своей веры знает, что личностное существование человека и «пламень вещей» трансцендируют само поле деятельности исследователей, знает также, что напряженное стремление к этому несводимому (irre'ductible) образует скрытый ресурс научного исследования. Следовательно, он борется во имя самой науки против прометеевской попытки построить мир в замкнутой тотальности, человек в котором был бы «маленьким богом». От науки он требует более строгого исследования, от техники – эффективности, подчиненной экологии природы, всем измерениям личности. Человек – ученый или технический специалист (впрочем, теперь их трудно разделить) – наблюдает и изобретает на собственном уровне реальности, в меру собственной способности к созерцанию, а этот уровень и эта мера чаще всего обусловлены коллективной психологией. Природу всегда наблюдает личность, которая включена в целую сеть отношений. Так, у человека, который участвует в общении святых и пытается смотреть глазами Духа, наблюдение избегает индивидуальных и коллективных иллюзий, чтобы раскрыть истину в Истине, и техническое устройство, которое он предложит, будет одухотворено уважением к Божьим созданиям… Он изо всех сил будет стремиться к терапии человека и мира, которая окажется явно частичной, поскольку в принципе она нацелена на человека как целое и на глубокую общность с вещами. Христианин, если он укоренен в тайнах Христа посредством молитвы, «искусства искусств и науки наук», владеет ключом к подлинной научной объективности и к подлинному техническому развитию, поставленному на службу истинному человеку и истинному миру. Таким образом, предлагаемый нами экзорцизм является творческим экзорцизмом. По отношению к движению идей в науке и технике он требует сдержанной и последовательной маевтики смысла, апофатического подхода к Воскресению. Ибо в конце концов мы всегда умираем, и мы не победим смерти, состояния смерти, беспрерывно старея: мы будем идти только к новым формам трагизма; это не столкновение с судьбами древних, не жуткое осознание пустоты (in–signifiance) стольких наших современников – это трагизм полноты, которая не может стать обожением…
Для некоторых людей экзорцизм может оказаться мученичеством. Когда техницистская цивилизация притязает на то, чтобы замкнуться в своей имманентной полноте, только молитва мученика способна дать место Богу – а следовательно, и миру. Быть может, мы увидим новые формы мученичества: мучеником станет тот, о ком позаботятся с нежным состраданием – состраданием Великого инквизитора в «Легенде» Достоевского, – чтобы излечить его от Бога, и кто, «израненный Божьей любовью», откажется излечиться…
Далее, экзорцизм представляется неотделимым от внутреннего усилия в стремлении к преображению. Это усилие ни в коей мере не является научным умозрением, философской конструкцией для ученых: это дело веры, которое захватывает ученого как тотального человека в тайне его личностного существования. В нас, через нас, незримо, но реально литургический космос приближается к падшему миру, который мы исследуем, которым располагаем; в нас, через нас Фаворский свет, слава, которую святые видят сияющей в евхаристии, распространяется от атома до звездной туманности, и созидается Царство. Если проблема технической цивилизации все больше становится проблемой смысла и цели, то смысл и цель могут появиться только через человека, а в человеке – через святость. Не техника творчески преобразит человека – быть может, это духовный человек сообщит технике спасительный магнетизм, чтобы наполнить светом человечество и вселенную. Подлинный «мутант», если воспользоваться модным в определенной среде термином, подлинный «мутант» – это святой, обоженный человек, который отныне являет собой того, которого ожидает все человечество в конце своей истории. Ибо после Воскресения всякое подобное изменение (mutation) происходит во Христе, актуализирует его духовное тело. Только человек, причастный евхаристии, может осуществить интеграцию материи. Только человек, чувствующий икону, может спасти образ Божий в человеке, его лик, находящийся под угрозой. Только человек, ставший Храмом Святого Духа, может распознать logoi вещей и поставить науку и технику на службу LogoV'у, Смыслу истории и вселенной.
Когда позволяют исторические обстоятельства, экзорцизм и освящение должны наконец привести к появлению творческих проектов, способных подготовить Воскрешение [129]129
H. Федоров употребляет слово «воскрешение», имея в виду людей («отцов»), которое может осуществить Бог в соработничестве с людьми.
[Закрыть] мертвых и Метаморфозу вселенной. Я ограничусь несколькими соображениями, относящимися к космологическим аспектам этих проектов, хотя этот аспект неотделим от усилий по развитию социологии единения; побудить к осуществлению проектов должна Церковь, созданная по образу Троицы. Здесь следовало бы перечитать Николая Федорова [130]130
Jacqueline Gru:nwald. Fe'dorov et la philosophie de l'e'uvre commune. Contacts, t. XIX et XX, 1968–1969.
[Закрыть], преодолевая, разумеется, его натуралистические искушения, которые легко обратить в прометеевский сциентизм – такие, как имманентное оживление умерших, после которого умножившееся таким образом человечество колонизует другие планеты и даже другие звездные системы. Но, выправляя и развивая его гениальные догадки следует показать, что христианская космология может ориентировать технику на активную эсхатологию, которая готовит – не понуждая его и не избегая его «катастрофического» измерения – пришествие Христа во славе.
Ограничимся воспроизведением и комментированием в контексте нашего века нескольких «Пасхальных вопросов, которые образуют сердцевину «Философии общего дела» Н. Федорова [131]131
В настоящем переводе использованы заметки Н. Ф. Федорова, относящиеся к «Пасхальным вопросам» по изд.: Н. Ф. Федоров Собрание сочинений в четырех томах. Москва, 1997. Т. 3, с. 321–345. Автор указывает французское издание Philosophie de l'e'uvre commune, t. 1 – без дальнейших уточнений.
[Закрыть]. Мы обращаемся к «Пасхальным вопросам» потому, что дать на них творческий ответ, говорит нам Федоров, «означало бы переход к жизни, завершение нашего освобождения… от смерти».
Важнейшая проблема, указывается в первом вопросе, не есть социальная проблема, такая как «вопрос о богатстве и бедности или о всеобщем обогащении», это проблема «жизни и смерти и всеобщего возвращения жизни», то есть проблема всеобщего освящения («религионизации»). Богатство как излишек и бедность как нехватка представляют собой часть антропокосмической проблемы, ибо речь идет о возрождении живых, способных оживотворить природу и подготовить воскрешение отцов. Таким образом, решение проблем здоровья и питания необходимо, но именно в этой глобальной перспективе.
Истинная религия, уточняется во втором пасхальном вопросе, не является ни чистой субъективностью веры, ни чистой объективностью культа, она хочет «все сделать религиозным, то есть проникнуть (во все виды человеческой деятельности) с вопросом о жизни и смерти, о всеобщем возвращении к жизни». Христиане должны праздновать Пасху, совершать евхаристию также и «вне Храма», «в своей каждодневной, земной работе». «Литургия должна охватить всю жизнь целиком, не только жизнь духа, внутреннюю жизнь, но и жизнь внешнюю, всемирную, преображая ее в дело воскрешения».
В третьем вопросе противопоставлены два возможных типа отношения человечества к природе: должны ли мы эксплуатировать ее, истощать и тем самым окончательно ей покориться или же «регуляризировать» природу, сохраняя и умножая ее силы в преддверии воскрешения? Во всех своих трудах Федоров подвергает критике внешне деятельное, а на самом деле пассивное отношение современной техники к природе. Человек стремится использовать природу и остается ее рабом; он действует посредством техники, тогда как должен был бы действовать с «пасхальной целью». Господство техники в наше время, малополезное и не приносящее радости, остается частичным, поверхностным, иллюзорным. Пожалуй, сейчас время сделать наше отношение к природе по–настоящему деятельным, то есть животворящим. Сознание и воля человека должны «регуляризировать» природу, ценя ее ритмы, плодоносность и красоту.
Сегодня экологические проблемы стали актуальны как никогда. После нынешнего насилия над землей между технизированным человечеством и его планетой необходимо заключить завет жизни. Смиренные, обусловленные необходимостью отношения, связанные с питанием и, наконец, с происхождением, которые соединяют нас с землей, ставят истощенную планету перед дилеммой: эксплуатация, ведущая к бесплодию, или уважение, даже любовь. Здесь Федоров занимает свое место в характерной для русского православия традиции мистического теллуризма – теперь уже не доличностной, но межличностной. В частности, о. Сергий Булгаков построил свою «Философию экономики» на интуиции тайны насыщения, тайны вампиризации или плодовитости, снять которую может только евхаристия.
В следующих вопросах Федоров показывает необходимость аскезы для борьбы с инстинктами присвоения и порабощения, а также для того, чтобы преобразовать эрос [132]132
По выражению Федорова, «похоть», «сила умерщвляющая», «увлечение красотою чувственной силы» – Прим. пер.
[Закрыть] в объединяющую силу, силу возвращения к жизни: «Управлять слепой силой земли значит управлять и своими собственными страстями и желаниями». Даже если подход, в котором обнаруживается традиционная аскетическая позиция, выражен здесь слишком последовательно – когда, например, речь заходит об отказе от сохранения рода ради оживления предков, – очевидно, что только люди высокого аскетизма, «пользующиеся, как бы не пользующиеся», сумеют взять верх над цивилизацией потребления и придать ей творческую направленность.
В седьмом вопросе Федоров ратует за уменьшение (e'clatement) городов, то есть за отказ от такой цивилизации, которая умножает ложные потребности и разнузданную похоть. Нужно, чтобы человек вновь ощутил святость земли, а благодаря ей любовь отцов, для которых земля стала телом и которые спят в ней, как зародыши воскрешения. Прогресс, не нацеленный на воскрешение всех, есть лишь цепочка убийств… Аграрно–патриархальная ностальгия? Отчасти несомненно, но прежде всего это пророческая интуиция: сегодня мы видим толпы горожан, неумело ищущих любую возможность контакта с землей и с великими произведениями прошлого. Технология во все большей степени позволяет и даже стимулирует упадок городов, автоматизированный завод мог бы освободить энергию людей для дела жизни и воскрешения…
В своих последних вопросах Федоров показывает, что одна лишь религия воскрешения может объединить культом истинной жизни разобщенные сферы культуры, техники, науки и искусства: «Совершая усилия для возрождения мира в непорочной красоте, которой он обладал до падения, соединенные наука и искусства станут этикой, эстетикой, мировой техникой воссоздания космоса».
Эсхатологическая настроенность науки и техники, вероятно, должна позволить восстановить в христианской перспективе древние науки о внутреннем мире человека. В противном случае – и уже видны предвестники такого развития – они вернутся к своей первоначальной метафизической основе, но без наивности архаичных религий, и существует опасность, что в будущем станут откровенно антихристианскими. Симптом этого – космологическая несостоятельность современного христианства по отношению к таким явлениям, как оккультизм, антропософия Штайнера, создавшего науку и практику консервации почв; индуистский ученый Шандра Бозе, который обнаружил чувствительность минералов; и глубинная психология Юнга, открывшего эффективность алхимических изображений и символов для соединения человека с жизнью предков и вселенной…
«Царствие Божие, – не без наивности, но проникновенно говорил Федоров, – доступно движению молекул и атомов вселенной, что делает возможным воскрешение и преображение всего». Сейчас в той области, которую по привычке еще называют «материей», наука ставит перед ученым – если только он отойдет от коллективных галлюцинаций техницистской эсхатологии – проблему самой ткани мира. Стереть границу между материей и энергией, потом между энергией и всей сетью математических отношений, непрерывно приближающихся к человеческому разуму, означает частичное восстановление космологии греческих отцов. Частичное, потому что проявляемая таким образом «софийность» представляется, если воспользоваться высказыванием Павла Евдокимова по поводу современного искусства, «опустошенной софийностью». Кто ее наполнит, кто ее направит? Будет ли это в конечном счете антихрист, жаждущий сотворить свои чудеса, воскресить мертвых, которые всегда будут лишь живыми мертвецами, низвести огонь с неба (Откр 13:13)? Будут ли это христиане, способные к изгнанию зла, к тайному преображению, даже к творческим проектам, вдохновленным видением Воскресения? В первые послевоенные годы молодые православные физики из одной восточноевропейской страны – пока их не разбросал в разные стороны тоталитаризм техницистской эсхатологии – попытались применить к современной физике исихастское «созерцание природы» и пролить на антиномии света свет Креста… Стоило бы повторить эту попытку, чтобы нетварная Премудрость неразрывно соединилась в «материи» и в «сердце» ученого со своим провиденциальным вместилищем, с той тварной премудростью, которую бы вновь обрела наша еще никем не занятая наука…