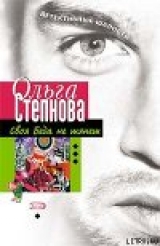
Текст книги "Своя Беда не тянет"
Автор книги: Ольга Степнова
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Печки в городе никому не нужны. Я грузчиком иногда подрабатываю. На постоянную работу не берут – прописки нет, да и судимый я.
– За что сидел? – ласково поинтересовалась Беда.
– За убийство, – тихо ответил Женька и покаянным рывком свесил косматую голову на грудь.
Беда попыталась присвистнуть, но свистела она еще хуже, чем пела.
– Слушай, – сказала мне она, – твой тюфяк и добряк – все-таки убийца. Что я тебе говорила!
– Да ух ты господи, я свои три года отсидел, вину признал и не отпирался.
– Всего-то три? – удивилась Беда.
– Да. Смягчающие обстоятельства. Вот скажи мне как мужик мужику, – Женька уставился на меня своим глазом-щелочкой, – что бы ты сделал, если бы твоя жена завела любовника, открыто приводила его домой и спала с ним в соседней комнате, не обращая внимания на твое присутствие? Что?!
Беда уставилась на меня с неподдельным интересом.
– Что? – с энтузиазмом продублировала она вопрос.
– Не знаю, – честно признался я. – Наверное, убил бы обоих.
– Вот и я сначала не знал, – вздохнул Женька. – Терпел, терпел, а когда они ночью очередной раз завздыхали, завозились, заохали, взял я ружьишко старое и пинком дверь в их комнату открыл. Баба моя завизжала и под кровать закатилась. А я в хахаля ее пальнул, не сдержался. Судьи признали, что у меня было особое состояние, помутнение мозгов. Всего три года дали. Баба моя в суде кричала, что дождется меня и не бросит, почему-то я ей сразу очень нужен стал. Только я ей все имущество оставил, отсидел, и в прошлую жизнь больше не вернулся. Вот и все.
– Трогательно, – хмыкнула Беда. – За душу берет. И часто это у тебя бывает – помутнение мозгов?
– Один раз. Теперь если и женюсь, то за три дня до смерти.
– Кому ты нужен! – фыркнула Беда. – Теперь понятно, почему ментам понравилась версия, что именно ты убийца лучшего ученика в городе. У них просто все сошлось: судимость за убийство, бомж, да еще избитый ночью подростками, да еще с пистолетом в кармане!
– Подарок для галочки, – пробормотал я.
– У тебя еще и Галочка в ментовке, кроме Риточки? – сухо осведомилась Беда.
– Галочка – это отметка о проделанной работе, – как терпеливый профессор на лекции объяснил я ей.
– Короче, ты идеальный убийца, – не обратив на меня внимания, подвела итог Беда.
– Я убил только хахаля своей жены, – мрачно заявил Женька и быстро доел все пельмени.
– Мы ему верим? – весело спросила меня Беда.
Я пожал плечами, кивнул, и снова пожал плечами. На Женьку я не смотрел, и Женька на меня не смотрел.
– Ясно, – сказала Беда. – Значит так – мы ему верим. Так будет лучше для нас.
– Ребята, давайте я в ментовку пойду и скажу, что не удрал я, а эвакуировался.
– Ага, на угнанной нами машине.
– Всем будет так лучше – ментам, вам, мне.
– Если ты не врешь, то тот, кто убил Грибанова, хотел выдать за убийцу Бизона. Ты тут случайно подвернулся со своей подходящей биографией. Нет, Возлюбленный, мы тебе верим. Ты убил хахаля, но не убивал Грибанова. Так будет лучше для нас. Потому что в этом случае мы докопаемся до истины, а тебе не впаяют на полную катушку сомнительных казенных благ.
– Пусть впаяют, – упорствовал Женька, уставившись единственным глазом в пол. – Так будет лучше.
Я встал и вышел из кухни. Ильич жил в маленькой однокомнатной квартирке, почти такой же, в какой жила Беда. Только балкон у него – пусть и крошечный, был застеклен и любовно отделан изнутри деревянной рейкой. Я вышел на него и уставился в темноту за стеклом. Было так рано, что в соседних домах еще не зажглись окна; самые ранние будильники еще не прозвенели, чтобы вырвать своих хозяев из теплых постелей.
Я прислонился лбом к холодному стеклу. Не прошло и месяца после той заварушки, а я уже влип в новую историю. Как могло так случиться, что я не избавился от оружия, а как последний пацан, еще не словивший свою долю адреналина, припрятал «Макаров» в своем жилище? Бездарно припрятал, тупо, глупо, с отвратительной, ни на чем не основанной уверенностью, что никто и никогда не сунется в мой холодный, нищий сарай и уж тем более не будет что-то искать под некрашеными, старыми досками пола. Ведь чтобы там что-то искать, нужно знать. А знали только я и Элка. Только Элка и я.
– Ну и что дает глубокий анализ произошедшего? – в проеме балконной двери стояла Беда и шрапнелью вопросов расстреливала меня в маленьком, узком, холодном пространстве. – Каемся в собственной глупости, слабости, тупости? Думаем – дальше что? Прятаться? Бегать? Сдаваться?
– Мы обкурились, угнали машину, и помогли сбежать опасному преступнику, – напомнил я ей.
– Он не опасный. Он добрый, – засмеялась Беда.
– Хлебом тебя не корми, дай выставить меня идиотом.
– Хлебом меня не корми, дай докопаться до истины. Это ты – любитель ретироваться через балкон. Что сделано, то сделано. Может быть, ты скажешь потом спасибо, что все так произошло.
– Спасибо, – сказал я заранее, и зачем-то раскланялся.
– Смейся, паяц! И что ты думаешь дальше делать?
– Прийти к ребятам из уголовки. Рассказать как все было. Дадут условно.
– Кретин. Слабак. Учитель. Ты даже не смог напугать девочку.
– Девочка сама кого хочешь напугает, а потом накормит. А что предлагаешь ты?
Она сняла очки. Говорят, когда очкарики снимают очки, их взгляд становится беспомощным и беззащитным. Может, у других очкариков он таким и становится, но только не у Беды. Она уверенно уставилась на меня взглядом вздорной бабы, которая сделает все по-своему, даже если мир перевернется.
– Я предлагаю не прятаться, не паниковать, и уж тем более не бежать сдаваться. Вести себя так, будто ничего не произошло. Ходить на работу, жить так, как мы жили, – она усмехнулась, – и там, где мы жили. Есть большая вероятность того, что никто не видел, как мы угнали машину, как ты тащил Возлюбленного по черной лестнице вниз, и уж тем более никто не знает, что перед этим мы опробовали в действии «ракету». Все может пройти без последствий, и тогда у нас будут развязаны руки, чтобы попытаться выяснить, что произошло на самом деле. Нужно понять, кто и зачем хочет упрятать тебя за решетку.
Она развернулась и пошла в коридор. Она все решила. Постановила. Утвердила. И никакое другое мнение ее не интересовало.
– Эй! А как же Женька? – я поплелся за ней. В коридоре она натянула дубленочку.
– Пусть живет здесь, не высовывается, пельменей ему на неделю хватит. Крыша и харч – все как он мечтал. Ильич перекантуется у Нэльки, ее достали его трехразовые набеги, она мне жаловалась. Она хочет семью, уют, детей и борщи в воскресенье.
– Стой! Ты куда? – заорал я, глядя, как она сражается с замком входной двери.
– Домой. Потом на работу. Потом снова домой. Не собираюсь прятаться по углам и тебе не советую.
– Ребята, давайте я сдамся в ментовку! – выполз из кухни Женька. – Ну, эвакуировался, заблудился, вернулся и сдался – с кем не бывает?!
– Я тебя подвезу, – сказал я Беде, в надежде, что она не уйдет так быстро и просто.
– Тачка до моего дома стоит тридцать рублей. И они у меня есть. – Она вышла и захлопнула дверь перед моим носом.
Она ушла так, будто мы не спали с ней под одним одеялом, не умирали от хохота над одними и теми же шутками, не сидели долгими вечерами в ее маленькой, тихой квартирке. Она пишет и курит, курит и пишет, а я проверяю кучу тетрадей, контрольные, в которых так трудно разобраться из-за хаоса, царящего в пятнадцатилетних головах. Я читаю ей бред, что Ленин – это «дедушка с фронта», она хохочет и орет: «Заткнись! Не мешай мне работать!». Как будто не она устраивала мне ночи, от которых на первых уроках у меня тряслись ноги в коленках, и я путал слова, вызывая взрывы хохота в классе. Будто не от нее я удрал с балкона четвертого этажа от отчаяния и неравнодушия.
Она заявила, что такси стоит тридцать рублей. Она сказала, что эти рубли у нее есть. Я бы многое дал, чтобы у нее их не было, и она хоть на миг бы зависела от меня.
* * *
Я все сделал, как сказала она. Я оставил Женьку в квартире Ильича, приказав ему сидеть тихо. Я собрался, оделся, сел в машину и как ни в чем не бывало, поехал в школу. До начала уроков оставалось время, и я навел порядок в сарае.
В положенное время я открыл школу, и долго ходил по пустым коридорам, прислушиваясь как тетки-технички, моя полы, перекрикиваются, обмениваясь подробностями вчерашнего происшествия в школе.
Не пришла только баба Капа.
Она не пришла ни к открытию школы, ни к началу занятий, когда первые ученики уже стали толпиться у закрытого гардероба. Я попросил заменить ее Веру Петровну – тетку лет шестидесяти, сказав, что, наверное, Капа приболела. Вера Петровна фыркнула и, поджав сухие, тонкие губы заявила, что за последние тридцать лет работы в школе Капитолина Андреевна никогда не болела, и заставить ее не явиться в школу могло только что-то из ряда вон выходящее.
Мне не понравилось это. Мне не понравилось это настолько, что я почувствовал, как похолодело в желудке и сердце дало сбой.
Я рассчитывал поговорить с Капой о вчерашних событиях, но она не пришла в школу впервые за последние тридцать лет. Мне очень плохо верится в такие совпадения.
Я встал у гардероба и стал высматривать Ваньку Глазкова. Я промаялся там до звонка, но Ванька так и не появился. Это не понравилось мне еще больше. Я хотел учинить Глазкову свой личный, пристрастный допрос, но он не пришел в школу. Впрочем, он заядлый прогульщик. Узнаю сегодня его адрес и сгоняю к нему домой. Как там сказала Беда? «У нас будут развязаны руки, чтобы попытаться выяснить, что же произошло».
На второй перемене ко мне, блестя подведенными очами, подбежала Марина и заговорщицким тоном сказала, что меня ищет Ильич. Я удивился, как меня можно искать, на переменах я всегда ошиваюсь в учительской.
Ильич в кабинете дремал. Компьютер был выключен, шеф не гонял, как обычно, игрушки, а, развалясь, сидел в кресле, полуприкрыв глаза. Вид у него был цветущий и свежий – рубашечка, галстучек, костюмчик что надо. Нэлька ему чуть ли не ногти отполировала.
– Что-то мне, Петька, хреново.
– Не выспался? – изобразил я заботу.
– Да нет, гипертония, ...ть, и до меня добралась.
Такое заявление могло обозначать только одно: мне придется за него проделать какую-нибудь неприятную работу.
– Что делать-то надо? – в лоб влепил я ему.
Ильич забегал глазками по кабинету, и не найдя на чем остановить свой взгляд, не очень уверенно посмотрел на меня.
– Как ночь прошла? – спросил он с явным намеком на то, что мои темные делишки требуют какой-то отмазки.
– Нормально. Спасибо.
– Твой дружок с разбитой мордой сильно смахивает на фоторобот, который суют в экраны с утра. Он убийца Грибанова, который сбежал вчера вечером из ментовки. Говорят, у него был сообщник, но о нем ничего не известно.
– Да?! – я очень удивился, что Ильич решился на разбор полетов. Что-то ему сильно надо.
– Да, Петька, но я готов тебе оставить хату, пользуйся, если надо, только...
– Что?!
– Помнишь, ты как-то исполнял мои обязанности?
Я кивнул. Я почти понял, что сулит мне этот разговор.
– Вот приказ, – он двинул по столу ко мне какую-то бумагу, – ты снова мой и.о. А я, Петька, заболел. В больницу ложусь, на обследование. У меня колит, гастрит, отит, ринит и... дисплазия соединительной ткани.
– Гипертония, – напомнил я.
– И она тоже, – Ильич, не выдержав моего взгляда, опять забегал глазками по потолку.
Я понял – Ильич испугался. Запаниковал, что в связи с убийством его ждут проверки – прокурорские, из районо, многочисленные объяснения – устные и письменные, ковыряния в школьных делах – мало ли что накопают?
Ему есть что терять – теплое, насиженное место, и он решил спрятаться в больнице. Он думает, я все разгребу. Его не пугает даже преступник в собственной квартире, потому что привел его я. Он думает, что раз я в этом деле... черт, да что он вообще думает?
Я пробежал глазами приказ о своем назначении, увидел срок – месяц. Месяц я буду сидеть в его кожаном кресле, объясняться, отписываться, ходить по инстанциям и принимать эти инстанции у себя. Ужас. Я схватился за голову.
– Говорил тебе, Петька – за ноги и на улицу, – тихо сказал Ильич. – Дело получило огласку. Папа у Грибанова – важная шишка. Кем-то там в администрации города. Опять же твой долбаный тир! Хоть ничего не пропало, но он был открыт! Теперь проверка на проверке. Как посторонний мог проникнуть в школу? Почему выстрела никто не слышал?
– Ладно, – прервал я его. – Когда ложитесь?
– Да прямо сейчас, – оживился Ильич. – Тебе дела передам, и в больничку. Меня в первую клиническую кладут. Палата отдельная, телевизор. Ты не боись, скоро Новый год, длинные каникулы, настроение у всех предпраздничное, долго с нами возиться не будут. Пообъясняешься, и все замнут. – Он тараторил эту чушь, быстро натягивая на себя шарф, шапку, дубленку, переобуваясь из легких туфель в теплые ботинки. Он очень спешил, этот хитрый, скользкий, странный Ильич. Он никогда не спрашивал лишнего, но и сам всегда чего-то не договаривал.
– Ты мне звони, – он у двери сделал мне ручкой. – Сообщай, как делишки.
– Куда? – удивился я.
– Так на мобильный. Мне вчера его следователь вернул. Его у Грибанова нашли, представляешь? Простучали – оказалось мой. Полчаса меня вечером допрашивали, как телефон у ученика оказался. Я сказал, что тебе дал бабе своей позвонить, а ты его потерял. Наверное, Грибанов нашел. Вот и все. Вопросы отпали, телефон вернули. – Он повертел у меня перед носом серебристым «Nokia». Я ошарашено посмотрел на трубу, с которой началась вся эта история. Ильич расценил мой взгляд неправильно.
– Ладно, Петька-Глеб, – сказал он и сунул мобильник мне в руку. – Ладно, бери, пользуйся. А то – здрасьте, жопа, – директор без мобильного. Я из него все адреса и телефоны переписал. Я себе новый куплю. А сейчас хочется пожить отрезанным от мира. Нэлька, я, больничная койка. Ну, может, сестричка симпатичная попадется. Процедуры, все такое, – он довольно заржал.
Я сунул телефон в карман, закрыл за ним дверь, сел в кресло и схватился за голову.
День прошел относительно спокойно. Я провел четыре урока истории, две физкультуры, и три ОБЖ. Правда, я отменил занятия в тире. Меня угнетала всякая мысль об оружии, пусть даже пневматическом, путь безобидном.
Никакие проверяющие меня не посетили. Не посетили меня также оперативные работники, видимо, они сочли свою работу сделанной: преступник пойман, преступник сбежал, и виной тому стихийное бедствие.
Школьная общественность восприняла мое назначение спокойно. Марина стала называть меня Глебом Сергеевичем, и за весь день в моем присутствии ни разу ни за что не зацепилась. Дора Гордеевна натянуто улыбалась, трясла подбородками, и так подчеркивала свое дружелюбие, что в ее присутствии меня стало подташнивать.
Аллочка Ильинична, сражавшаяся за знания детьми русского языка и литературы, и недолюбливавшая меня так, как может недолюбливать утонченная хрупкая женщина грубого мужлана, соблаговолила печально улыбнуться мне в учительской, и рассказать очередную ужасную по ее мнению историю.
– Представляете, Петр Сергеевич! – Я вздрогнул, услышав новый вариант своего имени.
– Глеб Сергеевич, – мягко поправил я.
– Представляете, – не обратила она внимания на нюансы, – девятый «а» совсем не желает думать. Думать, читать, и вникать! Знаете, что мне сегодня заявила отличница Вика Сергеева?
– Что? – я приготовился повеселиться.
– Мы проходим «Грозу» Островского. Я спросила, нет, я даже не успела ничего спросить, Вика сама поднимает руку и со слезами в голосе говорит: «Алла Ильинична, я от корки до корки прочитала „Грозу“, но какой такой луч света в темном царстве? Нет там ничего ни про луч, ни про царство!» И заплакала. Представляете?! – Она красиво заломила руки.
Я заржал.
Аллочка Ильинична посмотрела на меня с легким презрением. Так, как смотрит утонченная женщина на солдафона. Справившись со своими тонкими чувствами, она завершила рассказ:
– Мне пришлось ее успокаивать! Мне заново пришлось терпеливо объяснять материал про статью Добролюбова. Они не желают думать! Даже лучшие из них. Про худших я и не говорю.
Я вспомнил, что она классная девятого «а», в котором учится Ванька Глазков, и попросил его домашний адрес. Она вздохнула, порылась в пухлом блокнотике и, не спросив, зачем мне это надо, назвала улицу, о существовании которой я слышал впервые.
Почти два часа я потратил на то, чтобы найти в Интернете всю возможную информацию по марихуане. Раз уж я овладел предметом на практике, то неплохо бы укрепить и теоретическую базу. Я мало-мальски разобрался со сленгом, прочей терминологией и почувствовал себя готовым к разговору с Глазковым.
Беда не позвонила. И я ей не звонил, хотя мобильный теперь болтался в моем кармане. Что она имела в виду, заявив, что «нам надо во всем разобраться»? Как «мы» будем разбираться, если она хлопнула дверью перед моим носом и теперь даже не звонит?
Рабочий день подходил к концу. Прозвенел звонок с последнего урока второй смены, я дождался, когда последний ученик забрал в гардеробе у Веры Петровны свою одежду и выпытал у нее домашний адрес бабы Капы. Она поломалась немножко, но я поднаехал:
– Да что вам, жалко что ли! Я же не свататься к ней иду, а о здоровье справляться.
Вера Петровна фыркнула, ее мое директорство почему-то не впечатлило. Женщин после пятидесяти вообще мало что впечатляет, особенно малооплачиваемых.
– Капитолина не любит гостей. Особенно мужского полу. Ну да ладно, наведайся, может, и правда приболела Андреевна. – И она продиктовала адрес.
Садясь в машину, я поймал себя на том, что внимательно посмотрел на ее номера, цвет и наличие руля слева. Улицу, которую назвала Вера Петровна, я нашел в центре города. Дом впечатлял «сталинскими» габаритами, а дверь, в которую пришлось постучаться, никак не была похожа на вход в жилье получающей копейки старушки-уборщицы. Она была обита бежевой кожей, а косяки почему-то украшала резьба по дереву. Я поколотил кулаком по обивке, потому что не рискнул сунуть палец в раскрытую пасть льва, где находилась кнопка звонка. Я колотил долго, пока дверь не открылась внезапно и тихо, будто не была закрыта изнутри на замок.
– Ну и что мы ломимся? – спросила огромная девица с водянистыми глазами навыкате, облаченная в цветастый, короткий халат, который трещал под напором ее мощного тела. – Чего мы ломимся? – спросила она уже ласково, увидев, кто именно ломится. Не знаю, как Капа, а девушка не возражала против гостей мужского пола. В руках у девицы было мороженое, и она лизнула его огромным, мокрым языком.
Я обалдел от картинки и забыл, что должен сказать.
– Заходи, – неправильно поняла мое молчание девушка и отошла, освобождая мне путь.
– Не, – замотал я головой. – Капитолину Андреевну, если можно.
Девица поскучнела и перестала уступать мне дорогу.
– Уехала бабка, – отрезала она, навалившись огромной грудью на дверь.
Поняв, что Капа жива и невредима, я почему-то перекрестился, не зная точно, как это делается. Девица округлила и без того выпученные глаза и спросила, забыв лизнуть мороженое:
– А тебе она зачем?
Я растерялся, не говорить же девушке, что ее бабушка может быть единственным человеком, который видел убийцу лучшего ученика нашей школы.
– Я из школы. Мы просто очень беспокоимся. Она первый раз за тридцать лет не вышла на работу.
– Заходи, – предприняла еще одну попытку девица. Мороженое на палочке опасно оплавилось, грозя свалиться белой массой на яркий халат.
– Нет! – я энергично замотал головой, как лошадь, которую кусает гнус.
– Из школы! – фыркнула девица. – Тридцать лет! Ври больше. Тридцать лет назад тебя еще не сделали. И меня тоже. Откуда тебе знать, что было тридцать лет назад в школе?
– Я просто очень хорошо сохранился, – эта девка меня пугала, хотелось поскорей закончить разговор и убежать вприпрыжку, как в детстве от врача со шприцем. – А куда она уехала?
– Да от вас подальше!
– От нас?
– От вас, свидетелей Иеговых! Креститесь и то не по-человечески. Достали бабку, сектанты проклятые! – поняв, что в квартиру заманить меня не удастся, она дала выход своему раздражению.
– Я не свидетель. Я учитель. – Выпытать у нее что-нибудь можно было только одним способом – зайти. Я сделал шаг в квартиру. Девка затуманилась и сделалась сговорчивей.
– Правда, уехала бабка.
– Куда? – я сделал вид, что с интересом заглядываю в вырез халата.
– В Тверь, – прошептала она. – У нее там ухажер-старпер.
– Что ж она так сорвалась и уехала? Никому ничего не сказала?
– Сказала, – снова шепотом пояснила девка, отбросив мороженое на стеклянный столик. – Сказала, что все ее задрали: я, мать, папаша, подружка Серафима-сектантка. Сказала, что хочет пожить по-человечески, а не батрачить на нас с тряпкой. Сказала, что Федя в Твери тридцать лет зовет ее к себе, что у него дом, пасека, и полное отсутствие спиногрызов. Она вчера вечером купила билет в плацкарт, собрала котомочку и укатила в чем была, не оставив адреса. Мать моя до сих пор кроет небо грязным матом. Никто ничего не понял. – Девка привалилась ко мне плотной грудью. – Какой Федя, какая Тверь, какая пасека?
– Странно, – сказал я, сделав шаг назад. – Странно. – Я побежал вниз по лестнице, скачками преодолевая пролеты.
– Куда? – взвыла вслед цветасто-грудастая девка, испортившая ради меня мороженое.
В машине я снова подумал, что странно все это: Федя, Тверь, пасека. В таком возрасте не принимают скоропалительных решений и резко не меняют климат. Значит, она что-то знала или что-то видела.
Улица, на которой жил Глазков, называлась Героев Чубаровцев. Наверное, название осталось с глубоко советских времен, потому что даже я, сделавший историю своей специальностью, плохо помнил подвиги этих ребят. Кажется, они отличились в гражданскую. Не обнаружив улицы на карте, которую я всегда вожу с собой, я объездил полгорода, останавливал прохожих и, опуская стекло, приставал к ним с одним и тем же вопросом:
– Где бы мне Героев Чубаровцев найти?
Народ шарахался, стучал пальцем по лбу, и только одна бабка высказалась:
– Все герои давно на Владимирской, вот туда и езжай.
На Владимирской находился психоневрологический диспансер, я это точно знал, поэтому развернулся и поехал домой. Будем считать, что с этой задачей я не справился.
По дороге я изменил маршрут, решив заехать на квартиру к Ильичу проведать Возлюбленного.
* * *
Женьки в квартире не было. Я открыл дверь ключом, который утром нашел на вешалке и обошел квартиру, включая последовательно свет в коридоре, ванной, комнате, кухне. Последним я посетил балкон. Женьки не было. Я даже заглянул под диван. Женьки не было. Он тщательно вымыл утреннюю посуду и исчез, захлопнув дверь – замок позволял. Я приказал сидеть ему тихо, не высовываться и ждать моих распоряжений, а он свалил, не оставив даже записки. Черт с ним, пусть шляется по подвалам. Или он побежал сдаваться в милицию? Не очень приятное предположение, учитывая, что он теперь точно знает, чей пистолет был обнаружен в его кармане. Я не поленился и сгонял в подвал. Может, он просто переселился в более привычные условия? Но и там Женьки не было. Там шныряли жирные коты, среди которых случился переполох при моем появлении.
Я вернулся в квартиру.
Я выхлебал немереное количество кофе, думая, что делать дальше и как дальше жить. Вернуться в сарай? Остаться здесь? Плюнуть на все и уехать в Марбелью, пока Возлюбленный не заложил, чей «ствол» болтался у него в кармане?
Я пил и пил крепкий кофе без сахара. Мне было горько, тоскливо и одиноко, как провинциальной стареющей барышне, так и не дождавшейся своего принца, своего звездного часа.
Позвоню своему богатею-деду, попрошу у него денег на билет, на визу, на загранпаспорт, уеду, умчусь в теплые, благодатные края и пусть Беда кусает свои острые локти, что не вцепилась мне в штаны, чтобы удержать возле себя. Уеду. Захотелось пустить скупую мужскую слезу.
Нет, не уеду. Разве найдешь в Марбелье такую дуру, которая, обкурившись халявной травы, уйдет на угнанной тачке с простреленным колесом от погони, протаранив два «Урала»? Глянь налево, глянь направо, нет ли русского «Урала».
Уеду. Найду полнокровную, плодовитую испанку, женюсь, и в испанской школе буду учить испанских детей... чему? Истории русского отечества? Приемам рукопашного боя? Основам безопасности их жизнедеятельности?
Нет, не уеду. Завтра урок автомеханики, пацаны ждут его с трепетом, а больше ни один дурак в городе не будет преподавать автомеханику на общественных началах.
Я откопал в шкафу у Ильича бутылку коньяка и, нарушая свои принципы, сделал два больших глотка прямо из горла. В последнее время я только и делаю, что нарушаю свои принципы. Стало полегче, но только телу, в душе продолжала противно играть отсыревшая скрипка в неумелых руках.
Я открыл кошелек и пересчитал в нем деньги. Вместе с мелочью оказалось ровно пятьсот рублей. Я еще раз обдумал свой замысел, родившийся под влиянием коньяка, и решил, что с такими деньгами можно попробовать его осуществить.
Я доехал до ближайшего супермаркета, и в живописном, благоухающем лоточке со скучающей продавщицей, стал выбирать цветы. Их было много, от них рябило в глазах и одуряюще пахло, но самое поганое было в том, что я совершенно в них не разбирался. Абсолютно. То есть, розу от одуванчика я бы, конечно, отличил, но это изобилие сбило меня с толку.
– Вам для жены или подруги? – оживилась продавщица с внешностью продавщицы.
– Для ведьмы, – сострил я, но она не удивилась, а сунула мне в нос три бордовые розы – мрачные, почти черные, колючие, наглые и напряжные.
– Сколько? – я достал кошелек.
– Шестьсот.
Я убрал кошелек.
– Скину, – не сдалась продавщица.
Я достал кошелек.
– Пятьсот пятьдесят.
Я вздохнул и убрал кошелек.
– Пятьсот, – прощупала она почву, но я не сдался.
– Четыреста восемьдесят, больше не могу, – сказала она.
– Я тоже не могу, – я протянул ей деньги, без мелочи ровно четыреста восемьдесят рублей.
Я спрятал розы под куртку и начал заучивать текст.
«Я знаю, что ты ненавидишь цветочки, но мужики, когда мирятся, дарят цветы. Поэтому получи свою порцию и только попробуй спустить меня с лестницы. Я с тобой справлюсь, скручу, свяжу, и останусь жить рядом с тобой. Я знаю, что все, что я могу тебе дать – все равно всегда мало. Я знаю, что ты без меня проживешь. Я знаю, что все теплые слова для тебя – слюни и сопли, поэтому я не буду их говорить. Хочешь, поедем в Марбелью, ведь что может быть круче...»
Это был не очень хороший текст, но другого я придумать не мог и выучил этот, как трудный урок. Пока коньяк еще бродил по мозгам, я решил к ней поехать.
«Я знаю, что ты ненавидишь цветочки, но мужики, когда мирятся... поэтому получи свою порцию... скручу, свяжу, но останусь жить рядом...»
Я твердил про себя это, пока ехал, я не хотел бы сбиться при ней, потому что если собьюсь, то сначала уже не начну.
Дверь открылась, и в темноте коридора обозначился ее высокий силуэт.
– Я знаю, что ты ненавидишь цветочки, но мужикам когда хочется, скручу и свяжу, только попробуй спустить меня с лестницы, слюни и сопли – получай свою порцию! – Я с размаху прямой правой воткнул ей букет в лицо. – Хочешь, поедем в Марбелью, – вспомнил я, – только мне не фиг там делать.
– Ой! – вскрикнул силуэт мужским голосом. – Больно шипами по морде!
Из этого я понял только одно – у Беды в квартире мужик. Я не стал долго думать на эту тему, просто размахнулся и вмазал ему свободной левой рукой туда, куда только что сунул цветы. Послышался грохот и дружный женский визг. В коридоре зажегся свет, там обозначилась толпа народа, среди которой не было Элки. На полу, с изумрудного цвета лицом, лежал Женька Возлюбленный, на груди у него красовались три бордовые розы. Над ним склонилась Салима в красном фартуке, рядом стояла крупная женщина восточной наружности и с нескрываемым ужасом смотрела на меня.
– У нас нэчэго брать, – еле слышно, с акцентом, сказала она.
Я понял, что она приняла меня за грабителя, и попытался отшутиться:
– Кроме дэвичьей чэсти.
Она пронзительно завизжала.
– Не бойтесь, я не причиню вам вреда, – попытался я перекричать ее визг.
Женька открыл глаза, и я понял, почему у него такое ярко зеленое лицо: кто-то заботливо обработал его раны зеленкой.
– Женя, – сказала Салима, когда Надира оборвала свою песню, – тебя опять избили. – Она утерла его нос красным фартуком и сказала Надире:
– Это муж Элкин, не бойся. И чего вы тут не поделили?
– Муж? – привстал Женька. – А говорил, учитель!
От всего этого у меня голова пошла кругом.
– Где Элка? – рявкнул я. – Как ты здесь очутился?
Женька сел, потер затылок, потрогал разбитый нос, из которого алой струйкой на зеленый подбородок бежала кровь.
– Пропала Элка, – сообщил он тоном, каким говорят, что несовершеннолетняя дочь не пришла ночевать домой.
– В смысле?
– Приехала ко мне туда в шесть, как только стемнело, сказала «У меня поживешь», увела, в машину посадила и сюда привезла.
– Да, – засмеялась Салима, – Женечку сюда привела и говорит: «Вот, знакомьтесь, опасный преступник, за убийство сидел, теперь у меня жить будет!» Только какой же он опасный, если его все время бьют?! – Она опять утерла уголком фартука кровоточащий Женькин нос.
– Где Элка? – спросил я, стараясь быть терпеливым.
– Да ух ты господи, пропала! – Женька попытался встать на ноги, но не удержался и съехал по стенке вниз. – Пошла погулять с собакой и нет ее уже часа три.
Ясно, Беда решила попугать девушек очередным уголовничком, а сама смотала удочки, в надежде, что ташкентские девицы в панике съедут с ее квартиры, и дай бог, умотают в свой Ташкент. Как же она могла, не предупредив меня, распорядиться, что делать с Женькой!
Я поднял с пола темные розы и прямо в ботинках прошел в квартиру. Перешагивая через баулы, я добрался до кухни, нашел там трехлитровую банку и сунул в нее цветы.
– Все бы ничего, – приплелся за мной на кухню Женька, – только ушла она в домашних тапочках, без шапки, и одета налегке!
– Она всегда налегке, – отмахнулся я от него. – К подруге поехала.
– С собакой? – удивилась Салима. Надира так и стояла в коридоре, словно каменная баба. Она меня боялась.
– С собакой. На машине.
– Не, – замотал головой Женька, – вон машина ее под домом стоит. Она меня на ней сюда привезла.
Я выглянул в окно, старенькая «четверка» стояла у подъезда. Я вытащил сотовый Ильича и набрал номер мобильного Беды. «Абонент временно недоступен», – сообщил равнодушно-услужливый голос.
– Абонент временно недоступен, – вслух повторил я для всех. – Да не волнуйтесь вы, Элка абсолютно безбашенная особа, она может в одних тапочках, с собакой, на такси укатить ночевать к подруге!
– Ну, тебе, наверное, лучше знать! – беспокойство испарилось с Женькиного разбитого лица.








