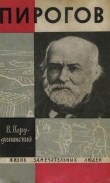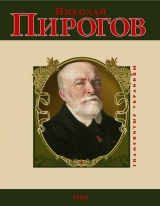
Текст книги "Николай Пирогов"
Автор книги: Ольга Таглина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Иван Филиппович Мойер был главным учителем Пирогова в Дерпте. Талантливый хирург, он изучал медицину в Геттингене, Павии, Вене. В 1815 году Мойер стал профессором Дерптского университета, передавая ученикам не только знания, но и воспитывая их.
Мойер отличался благородством, проповедовал верность делу и благородные отношения между людьми. Он радовался успехам учеников, гордился ими и не боялся того, что они вырвутся вперед. Профессор поручал Пирогову сложные операции: перевязки артерий, вылущение кисти руки, удаление рака губы. В двадцатилетнем Николае он увидел не просто ученика – наследника. Биографы считают, что отношение Мойера к Пирогову было сродни отношению Жуковского к Пушкину. Это отношение учителя, понимающего, что его ученик более талантлив и пойдет дальше. Кстати, Жуковский бывал в Дерпте и гостил у Ивана Филипповича, любил слушать, как тот играет на фортепьяно.
Николай Пирогов особенно интересовался операциями на сосудах. Избранное им направление было важным и перспективным. Он изучал главным образом вопросы, связанные с перевязкой больших артерий. Когда в конце 1829 года медицинский факультет Дерптского университета предложил студентам список тем для научных сочинений, Пирогов выбрал наиболее близкую ему: «Что наблюдается при операциях перевязки больших артерий?». Его сочинение было удостоено золотой медали. Руководители медицинского факультета признали эту работу «превосходнейшей» и выразили надежду, что она «сможет заслужить признание широкой публики».
Надо заметить, что научные интересы ученика Профессорского института Николая Пирогова лежали в русле основных исследований русской хирургической школы. С необходимостью перевязывать сосуды часто сталкивались и хирурги, и военные врачи. Эта операция была основным способом лечения аневризм. Учение об аневризмах – расширениях артерий, возникающих в результате изменения или повреждения стенок сосудов, – не было «белым пятном» в медицине. Еще в начале XIX века Буш назвал аневризмы болезнью, составляющей предмет хирургии. В своих «Таблицах» Буяльский перечисляет артерии, перевязываемые «смелыми операторами». Для одной из них он сделал исключение: «…умолчу только о начальственной брюшной, которую также Эстли Купер осмелился перевязывать».
Профессорский кандидат Николай Пирогов решился на большее. Его диссертация «Является ли перевязка брюшной аорты при аневризме паховой области легко выполнимым и безопасным вмешательством?» была плодом и творческой смелости, и стремительного полета мысли, и научной обстоятельности. Пирогов впервые изучил и описал топографию, то есть расположение, брюшной аорты у человека, расстройства кровообращения при ее перевязке, пути кровообращения при ее непроходимости, объяснил причины послеоперационного паралича. Он доказал, что перевязывать брюшную аорту нужно не моментально, а путем постепенного стягивания сосуда, и с важными для хирурга подробностями сообщил, как лучше всего проделать эту операцию. Он предложил два способа доступа к аорте: чрезбрюшинный и внебрюшинный. Поскольку в те времена всякое повреждение брюшины грозило смертью, то второй способ был особенно актуален.
Пирогов фактически жил в клинике. Правда, Мойер выхлопотал для него и Федора Иноземцева просторную комнату, но отношения с соседом не сложились. Роднила их одинаковая страсть к своему делу, а в остальном они были очень разными.
Иноземцев – красив, элегантен, изысканно одет. Пирогов же на свою внешность не обращал особого внимания и пять лет носил привезенный из Москвы ношеный сюртук. Иноземцев умел распределять время, он успевал все, был человеком светским. Пирогов же занимался исключительно работой и светских удовольствий чурался.
Их отношения с первого дня знакомства сложились как своеобразное соревнование. Иноземцев был старше и опытнее. До зачисления в Профессорский институт он уже оперировал. Пирогов считал его выше себя и тотчас решил – догнать. И он успешно это сделал.
Встречаться с Иноземцевым в обществе Пирогов не любил. В двадцать лет хотелось «блистать», но скромная внешность Николая, отсутствие у него светской легкости, изящества, умения поддерживать приятный разговор не позволяли ему этого добиться. Он даже с девушками говорил об анатомии, препаратах, операциях. Понятно, что те предпочитали Иноземцева, умевшего выбрать более привлекательные для них темы для разговора.
Гостей Иноземцева, приходивших в их комнату, Пирогов недолюбливал. Они раздражали его звонкими голосами, табачным дымом, шелестом сдаваемых карт. Для соседа комната была местом отдыха после работы, а для Пирогова – рабочим кабинетом. Он и жалованье-то все тратил на подопытных телят и баранов, а потом в конце месяца сидел без копейки денег, ходил обедать к Мойеру, а дома пил пустой кипяток.
Позже в своих воспоминаниях Пирогов так описывал Иноземцева и свои отношения с ним: «Ф. И. Иноземцев был, как и я, по хирургии, с тем только различием от меня, что, во-первых, это был уже человек лет под 30, не менее 27-ми, 28-ми, а во-вторых, он был несравненно опытнее меня и более, чем я, приготовлен. В Харьковском университете в то время учил весьма дельный профессор хирургии – Н. И. Еллинский. Иноземцев не только ассистировал ему при разных операциях, но и сам уже делал одну операцию (ампутацию голени). Это разом ставило его головою выше меня и в моих глазах, и в глазах других товарищей. Иноземцев и с внешней стороны был гораздо представительнее меня. Высокий и довольно ловкий брюнет, с черными блестящими глазами, с безукоризненными баками, одетый всегда чисто и с некоторой претензией на элегантность. Иноземцев легко делался вхожим в разные общества и везде умел заслуживать репутацию любезного и милого человека, доброго товарища и отличного парня. Немудрено, что я начал ему завидовать. Это скверное чувство особливо выражалось в моем дневнике, который я некоторое время вел тогда очень аккуратно».
В дневнике Пирогова описана такая ситуация: «…однажды – я жил тогда еще у Мойера – я простудился и заболел. Мойер приходит навестить меня и намекает мне довольно ясно, что я порчу себя питьем водки; после такого намека я, взволнованный и еще больной, являюсь к Екатерине Афанасьевне Протасовой и говорю, что я не могу долее оставаться в их доме, так как я заподозрен в пьянстве.
Старушка ахнула:
– Откуда это, батюшка, такое взял?
Я рассказал. Потом вышло, что Иноземцев стороною намекнул что-то, где-то, как-то, что я склонен к злоупотреблению спиртными напитками. Действительно, Иноземцев видел меня раза два навеселе вместе с Шуманским, от которого я в первый раз и узнал вкус водки. Долго я не мог простить Иноземцеву этой сплетни. Мы жили в течение четырех с лишком лет вместе в одной (довольно просторной) комнате в клинике; но наши лета, взгляды, вкусы, занятия, отношения к товарищам, профессорам и другим лицам были так различны, что, кроме одного помещения и одной и той же науки, избранной обоими нами, не было между нами ничего общего.
Меня досаждало еще то, что вечером к Иноземцеву приходили, по крайней мере, раз или два в неделю в гости три или четыре товарища из наших или других русских, которые все знакомы были коротко с Иноземцевым. При чаепитии, курении табака (которого я тогда не терпел), начиналась игра в вист, продолжавшаяся за полночь и мешавшая мне читать или писать.
Я должен покаяться, вспоминая об Иноземцеве. Я теперь и сам бы себе не поверил или, лучше, не желал бы верить; но что было, то было. Я нередко, по недостатку денег к концу месяца, оставался день или два без сахара, и вот, в один из таких дней, меня черт попутал взять тайком три, четыре куска сахара из жестянки Иноземцева. Он как-то заметил это и запер жестянку. О, позор! дорого бы я дал, чтобы это не было былью».
По неписаной традиции, когда в Дерпте сдавали экзамены на степень доктора медицины, то докторант присылал на дом к декану сахар, чай, несколько бутылок вина, торт и шоколад для угощения профессоров. Профессорский кандидат Пирогов впервые нарушил эту традицию. Он явился сам, не выслав вперед установленного оброка. Декану, фрау Ратке, пришлось подать господам экзаменаторам свой чай да еще стать при этом свидетельницей полного успеха этого несносного «герр Пирогофф».
Экзамены сдавали в два круга. В первом предлагали по два вопроса из десяти научных дисциплин, во втором – из двенадцати. В списке экзаменаторов – известные имена физика Паррота, минералога Энгельгардта, физиолога и эмбриолога Ратке, фармаколога и терапевта Эрдмана, хирурга Мойера.
В этом списке нет имени доктора Вахтера. Он не был профессором, но был одним из учителей Пирогова – преподавал анатомию, много оперировал, приглашал Николая Пирогова к себе в ассистенты. Именно он, оценив способности ученика, прочитал целый курс с демонстрацией на трупах и препаратах одному Пирогову.
Кроме устных экзаменов, профессорскому кандидату требовалось также выступить с публичной лекцией, представить несколько историй болезни и две письменные работы. Пирогов блестяще выполнил все эти требования.
Профессорские кандидаты рассчитывали провести в Дерпте два-три года, а на самом деле пробыли там целых пять лет. Запланированные поездки за границу откладывались: помешали Французская революция 1830 года, польское освободительное движение 1830–1831 годов. Царь не желал пускать своих подданных в «крамольную» Европу.
После долгого пребывания в Дерпте Пирогов смог наконец поехать в Москву. Он четыре года не видел матери и сестер. Поездка получилась непростой: то возница терял дорогу, то под полозьями кибитки трескался лед. Пирогов замерзал и промокал до нитки. Свидание с семьей было недолгим, но, уезжая, Пирогов верил, что скоро вернется. Надеялся, что именно здесь, в Москве, он получит должность профессора.
А пока он получил возможность поработать в Берлине, в больнице «Шарите», за окнами которой жил своей жизнью большой город, но Пирогов старательно изучал свой Берлин – берлинскую хирургию. Двадцатидвухлетний Николай Пирогов приехал в Берлин, уже будучи достаточно известным. По крайней мере, лишь только он появился в Берлине, его диссертацию перевели с латыни на немецкий язык и издали.
В Германии практическая медицина существовала совершенно изолированно от анатомии и физиологии. Знаменитые хирурги не знали анатомии, они ездили в каретах от одного пациента к другому, консультировали в больницах и оперировали не часто. Пирогова это не привлекало. Он искал и находил себе ту работу, которую считал необходимой.
Покойницкая больницы «Шарите», где Пирогов учился оперировать, была царством мадам Фогельзанг – худощавой женщины в чепце, клеенчатом фартуке и нарукавниках. Николай Иванович удивлялся, с какой непринужденной ловкостью вскрывала она трупы, а ведь в ту пору и мужчина-врач был не частым гостем в анатомическом театре.
Пирогов убедился, что мадам Фогельзанг достигла больших успехов в определении и разъяснении положения внутренних органов. Кроме того, она тоже была трудоголиком, что роднило ее с русским хирургом. Они долгими часами могли стоять рядом у стола, споря и обсуждая увиденное. Пирогов не был щедрым на похвалу, и не многих спутников своей жизни он считал дорогими для себя людьми. Мадам Фогельзанг оказалась среди них.
В анатомических театрах Берлина Пирогов постигал патологическую анатомию, которая давала ключ к познанию причин и следствий заболеваний. Кроме того, он пришел к мысли о предварительном диагнозе, построенном только на объективных признаках, выявленных в процессе детального обследования. И наконец – тщательный опрос больного, критически оцененный, уточнял предварительный диагноз – подкреплял или опровергал его. В сопоставлении рождался окончательный диагноз. Это тоже было внове.
Подводя итоги своей научной командировки, Николай Иванович пришел к выводу, что ни одна из существовавших в то время школ, ни один из выдающихся хирургов того времени не могут в полной мере удовлетворить его научные запросы. Через несколько лет, побывав в Париже, он раскритиковал французских хирургов так же решительно, как и немецких.
Пирогову предстояло сделать хирургию наукой. Но пока он находился только в начале этого пути, стесненный в средствах, живущий впроголодь.
Николай Пирогов и Федор Иноземцев слали министру Уварову письма, в которых просили денег. Доказывали, что изучение хирургии требует беспрестанной практики, посещения клиник, за все надо было платить, жалованья не хватало.
Срок командировки в Германии подходил к концу. Из министерства будущих профессоров запросили, в каком университете каждый из них желал бы получить кафедру. Пирогов ответил – в Москве. Наконец-то он сможет помочь матери и сестрам! Николай написал матери, чтобы подыскивала квартиру, спешно завершал дела и уже представлял себе хирургическую клинику при Московском университете.
Но по дороге в Россию он заболел. К счастью, Пирогов ехал из Германии не один, вместе с ним был математик Котельников, приятель по Профессорскому институту. Именно он довез больного до Риги. Николай Иванович написал отчаянное письмо генерал-губернатору. Барон Пален, бывший одновременно и попечителем Дерптского учебного округа, слышал о Пирогове как об одном из способнейших выпускников Профессорского института и поспешил ему помочь. В тот же день Николай Пирогов был доставлен в загородный военный госпиталь.
Потянулись долгие недели мучительной болезни. Служащие госпиталя – доктора, фельдшера, сиделки – приносили больному Пирогову молоко. Он пил его литрами, медленно поправлялся.
Сам Пирогов так написал позже об этом периоде в своих воспоминаниях: «Меня поместили в бельэтаже громадного госпитального здания, в просторной, светлой и хорошо вентилированной комнате; явились и доктора, и фельдшеры, и служители. Если бы я захотел, то, я думаю, мне прописали бы целую сотню рецептов не по госпитальному каталогу. Но я просил только, чтобы меня оставили в покое и дали бы только что-нибудь успокоительное, вроде миндального молока и лавровишневой воды, против мучительного сухого кашля.
Чем был я болен в Риге? На этот вопрос я так же мало могу сказать что-нибудь положительное, как и на то, чем я болел потом в Петербурге, Киеве и за границею. Сухой, спазмодический, сильный, с мучительным щекотаньем в горле, кашель; ни малейшей лихорадки; сильная слабость; полное отсутствие аппетита, с отвращением и к пище, и к питью; бессонница – целые ночи напролет без сна несколько недель сряду… Болезнь длилась около двух месяцев, а облегчение началось тем, что кашель сделался несколько влажнее; в ногах же появились нестерпимые боли, так что малейшее движение ноги отзывалось сильнейшею болью в подошвах; потом показался аппетит к молоку… С каждым днем аппетит к молоку начал все более и более усиливаться и дошел до того, что я ночью вставал и принимался по нескольку раз за молоко; аптекарского, выписываемого по фунтам, не хватало; все обитатели госпиталя, ординаторы, смотрители и комиссары начали снабжать меня молоком; к нему я присоединил потом, также инстинктивно, миндальные конфекты; но порой ел их с молоком по целым фунтам. Наконец дошел черед и до мяса. Мне начали приносить кушанья из городского трактира».
Риге повезло. Не заболей Пирогов, она не стала бы местом его дебютов. Молодой хирург был не в состоянии жить без дела, поэтому, едва начав ходить, стал оперировать. Первая операция Пирогова в Риге была пластической: безносому цирюльнику он выкроил новый нос. Затем последовали извлечения камней из мочевого пузыря, ампутация бедра, удаление опухолей, из которых одна была величиной с тыкву.
В Риге Пирогов впервые оперировал как самостоятельный хирург. Старый ординатор госпиталя сказал ему: «Вы нас научили тому, чего и наши учителя не знали».
Из Риги Пирогов отправился в Дерпт, где узнал, что кафедру хирургии в Московском университете отдали Иноземцеву. Это был удар. Николай Иванович обвинял начальство: «Оно само выбирает, само назначает человека, само узнает от него, что он желает действовать именно в том университете, где он получил образование и где он был избран для дальнейшего усовершенствования, – и что же: лишь только пришла беда, болезнь, его забывают и спешат его место заменить другим. Да, этот другой понравился, имел счастье понравиться его сиятельству; а кто знает, понравился ли бы еще я?..»
Но Пирогов обвинял и Иноземцева: «Недаром же у меня никогда не лежало сердце к моему товарищу по науке. Это он назначен был разрушить мои мечты и лишить меня, мою бедную мать и бедных сестер первого счастья в жизни! Сколько счастья доставляло и им и мне думать о том дне, когда наконец я явлюсь к ним, чтобы жить вместе и отблагодарить их за все их попечения обо мне в тяжелое время сиротства и нищеты! И вдруг все надежды, все счастливые мечты, все пошло прахом! Но чем же тут виноват Иноземцев? Да разве он не знал моих намерений и надежд? Разве он не слыхал от меня, что старуха мать и две сестры ждут меня с нетерпением в Москву? Разве ему не известно было, что я отвечал на посланный вопрос в Берлин? Разве совесть и долг чести не требовали от товарища, чтобы он отказался от предлагаемого, если на это предложение имел гораздо более прав не он, а другой?»
Вероятно, Пирогов был несправедлив к Иноземцеву. Тот выбрал для себя Харьков, потому что тоже хотел работать именно в том университете, где получил образование и был избран для «дальнейшего усовершенствования». Но ему не разрешили туда ехать. Харьков предложили Пирогову, который от этого предложения, естественно, отказался.
Николай Иванович остался в Дерпте, перед ним снова распахнулись двери мойеровского дома и мойеровской клиники.
Как и в Риге, первая же операция в Дерпте принесла Пирогову широкую известность. Было множество зрителей, все говорили о том, что кандидат в профессора изумляет необыкновенной скоростью извлечения камней. Он провел всю операцию за две минуты!
Клиника ожила. Здесь давно не видели серьезных операций, а Пирогов оперировал много и успешно. Мойер предложил оперившемуся ученику свою кафедру в Дерпте. Это был удивительно благородный шаг. Сам Иван Филиппович понимал, что это справедливо, потому что Пирогов был достоин и большего.
Зиму 1836 года Николай Иванович встретил в Петербурге, потому что ждал, пока министр соблаговолит утвердить его на кафедру в Дерпте. Ждать сложа руки он не умел, непрестанно работал. Позже он так вспоминал об этом времени: «Целое утро в госпиталях – операции и перевязки оперированных, – потом в покойницкой Обуховской больницы – изготовление препаратов для вечерних лекций. Лишь только темнело… бегу в трактир на углу Сенной и ем пироги с подливкой. Вечером, в 7 – опять в покойницкую и там до 9-ти; оттуда позовут куда-нибудь на чай, и там до 12-ти. Так изо дня в день».
Оперируя в госпиталях, Пирогов буквально творил чудеса, не отказываясь от, казалось бы, безнадежных случаев. Для его страстной натуры вопрос в ту пору решался так: если можно оперировать, значит, нужно оперировать. Петербургские врачи с нетерпением ждали его операций, ведь это была настоящая хирургическая школа.
В покойницкой Обуховской больницы Пирогов прочитал для ведущих петербургских врачей курс лекций по хирургической анатомии. Поскольку в империи Николая I даже курс анатомии нельзя было прочитать без высочайшего разрешения, один из известнейших русских медиков, лейб-хирург его величества Арендт, испросил требуемое разрешение и сам стал самым ревностным слушателем Пирогова.
Лекции молодого хирурга были точны и наглядны. Каждое утверждение подкреплялось демонстрациями одновременно на нескольких трупах: на одних он показывал положение органов в той или иной области тела, на других делал все операции, производящиеся в данной области.
В Академии наук перед почтеннейшим собранием Пирогов прочитал лекцию о ринопластике. Он купил в парикмахерской манекен из папье-маше, отрезал у него нос, а лоб обтянул куском старой резиновой галоши. Рассказывая ход операции, выкроил из резины нос и с блеском пришил его на место. Он убедительно говорил об огромных возможностях пластической хирургии, о не изученных еще способностях человеческого тела, таких как «восстановление целости поврежденных частей и развитие новой жизни в частях, перемещенных или пересаженных».
Фактически профессорская деятельность Пирогова началась еще до его утверждения в профессорском звании. По существу, это произошло в Риге и продолжилось затем в Дерпте и Петербурге.
Министр Уваров принял будущего профессора Пирогова в домашнем халате. Как говорится, «О, времена, о нравы!» Он согласился назначить Пирогова в Дерпт, поругал дерптских студентов и указал на необходимость исправлять их нравственность, поскольку во время посещения Уваровым Дерпта студенты позволили себе посмеяться над господином министром. Уваров играл поясом от халата, думал о чем-то своем, ему было не до Пирогова, не до кафедр хирургии и вообще не до ведомства народного просвещения, которым он руководил. Он жил своей далекой от интересов Пирогова жизнью. Что ж, каждому свое.
Профессорская жизнь началась для Пирогова с освоения немецкого языка. Заканчивая первую лекцию, Пирогов сказал: «Господа, вы слышите, что я худо говорю по-немецки. Поэтому мои лекции могут оказаться не такими ясными, как мне бы хотелось. Прошу вас сообщать после каждой лекции, в чем я не был достаточно вами понят, и я готов вновь повторять и объяснять все, что необходимо». Скоро хирургия стала у студентов одним из любимейших предметов. Когда ученики попросили у Пирогова его портрет, то он подарил им литографию с надписью: «Мое искреннейшее желание, чтобы мои ученики относились ко мне с критикой, моя цель будет достигнута только тогда, когда они убедятся в том, что я действую последовательно; действую ли я правильно? – это другое дело; это смогут показать лишь время и опыт».
Молодой профессор начал с того, что объявил главным девизом своей деятельности абсолютную научную честность. Этот девиз он пронес через всю жизнь.
В 1837 году – на втором году профессуры – Пирогов выпустил первый том «Анналов хирургического отделения клиники императорского университета в Дерпте». В 1839 году вышел в свет еще один том.
«Анналы» – это собрание историй болезней, распределенных по разделам в зависимости от характера заболевания.
Подробные, тщательные описания сопровождались статьями-обобщениями, размышлениями, заметками, выводами. В «Анналах» много записей с анализом ошибок: «…я совершил крупную ошибку в диагнозе», «…чистосердечно признаюсь, что в этом случае я, может быть, слишком поторопился с операцией», «…в нашем лечении была совершена только одна ошибка, в которой я хочу чистосердечно признаться», «…при этом я не заметил, что… глубокая артерия бедра… не была перевязана», «…больного, описанного в случае 16, я таким образом буквально погубил… Я должен был быть менее тщеславным, и если я уже однажды совершил ошибку, решившись на операцию, то мог хотя бы спасти больному жизнь ценою жертвы конечности».
Пирогов требует от себя правды и честности. Не случайно он взял эпиграфом к «Анналам» слова Жан-Жака Руссо: «Пусть труба Страшного суда зазвучит, когда ей угодно, я предстану перед высшим судьей с этой книгой в руках. Я громко скажу: вот что я делал, что думал, чем был!»
Николай Бурденко назвал пироговские «Анналы» «образцом чуткой совести и правдивой души», Иван Павлов – «подвигом». «Анналы» – это правдивый рассказ о том, как распознавали болезни, как лечили, как заблуждались и как побеждали медики того времени. Но «Анналы» – это и научный документ, на страницах которого нашли место важные пироговские прозрения. Бесстрашные шаги из прошлого в будущее. Отказ от шаблона мысли, шаблона взгляда, шаблона действия, от «непостижимого стремления человеческого ума заключить природу в ограниченные рамки искусственной, надуманной классификации».
Операции шли иначе, чем сегодня. Вот, например, описание операции по ампутации бедра: «…Были сделаны два боковых разреза, чтобы можно было отвернуть кожу. У границы отвернутой кожи мышцы перерезаны двумя сильными сечениями и кость перепилена. Длительность операции – 1 минута 30 секунд. Было наложено шесть лигатур, одна кожная артерия перекручена. Во время операции и наложения повязки больной то и дело впадал в глубокий обморок, который преодолевался холодным опрыскиванием лица и груди, втиранием под носом аммиачной нюхательной соли и небольшими дозами винного напитка. Больной просил соленого огурца и получил ломтик».
Пирогов много оперировал. За первые два года профессорской деятельности он провел триста двадцать шесть крупных операций: перевязывал артерии, ампутировал конечности, удалял руку вместе с лопаткой, вылущивал опухоли, делал глазные операции, занимался пластической хирургией.
Николай Иванович оперировал не только в Дерпте. Брал двух-трех помощников и отправлялся в поездку по губернии. Поездки эти называли в шутку «Чингисхановыми нашествиями». В небольших городах Пирогов останавливался на неделю и успевал сделать полсотни и больше операций.
В Риге, где в военном госпитале было полторы тысячи коек, он являлся в госпиталь к семи утра, совершал обход, делал операции, потом спускался в покойницкую – вскрывать трупы. Из госпиталя ехал в городскую больницу. Оттуда – в богадельню. А дома его ждали больные – амбулаторный прием. И это обычный рабочий день!
Но и у него не всегда все получалось. В воспоминаниях Николай Иванович откровенно смеется над собою, рассказывая случай, когда «самомнение поставило» его «в чистые дураки». «Прибыв в Дерпт с полным незнанием хирургии, – пишет он, – я на первых же порах, нигде ничего не читав о резекциях суставов, вдруг предлагаю у одного больного в клинике вырезать сустав и вставить потом искусственный… Мойер покачал головою и начал трунить надо мною… А нелепицу эту я сам изобрел. Я должен был прикусить язык и смеяться над собственною же нелепостью».
Интересно, что литературный талант Пирогова проявляется даже в его специальных текстах. Он пишет: «Кровь протекает под пальцем с жужжанием…», «Упорство свищей…», «Шум кузнечных мехов в области сердца…», «Необходимо держать нож, как скрипичный смычок, одними только пальцами…» Он сообщает о больном, доставленном для ампутации: «Один только вид его толстой, отечной, опухшей ноги у всякого отбил бы охоту притронуться к ней ножом…». А вот как Пирогов учит производить ампутацию, не вынимая ножа из раны: «Подобно каллиграфу, который разрисовывает на бумаге сложные фигуры одним и тем же росчерком пера, умелый оператор может придать разрезу самую различную форму, величину и глубину одним и тем же взмахом ножа при гармоничных движениях действующей руки…»
А это описание жизни в Дерпте: «Вот я наконец профессор хирургии и теоретической, и оперативной, и клинической. Один, нет другого. Это значило, что я один должен был:
1) держать клинику и поликлинику, по малой мере 2,5–3 часа в день;
2) читать полный курс теоретической хирургии – 1 час в день;
3) оперативную хирургию и упражнения на трупах – 1 час в день;
4) офтальмологию и глазную клинику – 1 час в день;
итого – 6 часов в день.
Но шести часов почти никогда не хватало; клиника и поликлиника брали гораздо более времени, и приходилось 8 часов в день. Положив столько же часов на отдых, оставалось еще от суток 8 часов, и вот они-то, все эти 8 часов, и употреблялись на приготовления к лекциям, на эксперименты над животными, на анатомические исследования для задуманной мною монографии и, наконец, на небольшую хирургическую практику в городе».
По субботам у профессора собирались студенты. Это было умное и веселое общество, где увлеченно говорили о вивисекциях и вскрытиях, внимательно слушали рассказы об операциях знаменитых хирургов, выискивали нелепости в их приемах и объяснениях – и хохотали, как над удачным анекдотом.
Пирогов не повторял ошибок своих университетских учителей, он объединял теорию и практику в прочный, неразделимый сплав. Студент осматривал, выслушивал, ощупывал больного – предполагал, подозревал, искал. А профессор часто спрашивал «Почему?» И студентам надо было объяснять почему.
В 1837 году было опубликовано одно из самых значительных сочинений Пирогова «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». Это был результат его восьмилетних трудов. Наука, которую он создавал всей своей практикой, теперь утверждалась в четких теоретических положениях и практических рекомендациях.
«Хирург, – писал Пирогов, – должен заниматься анатомией, но не так, как анатом… Кафедра хирургической анатомии должна принадлежать профессору не анатомии, а хирургии… Только в руках практического врача прикладная анатомия может быть поучительна для слушателей. Пусть анатом до мельчайших подробностей изучит человеческий труп, и все-таки он никогда не будет в состоянии обратить внимание учащихся на те пункты анатомии, которые для хирурга в высшей степени важны, а для него могут не иметь ровно никакого значения».
Пирогов, как правило, начинает с конкретной идеи, которая оказывается применимой к огромному кругу проблем. Хирургическую анатомию он разрабатывает и утверждает на базе совершенно конкретного учения о фасциях. Досконально изучив ход каждой фасции, он вывел определенные закономерности взаимоотношений фасций оболочек с кровеносными сосудами и окружающими тканями. То есть открыл новые анатомические законы. Пирогов считал, что если голова «не уравновешивает» руку обширными анатомическими познаниями, нож хирурга, даже опытного, «плутает, как дитя в лесу».
«Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» содержала свыше полусотни таблиц. Каждую операцию, о которой говорилось в книге, автор проиллюстрировал двумя или тремя рисунками. Он писал, что «хороший анатомо-хирургический рисунок должен служить для хирурга тем, чем карта-путеводитель служит путешествующему».
Когда Николай Иванович поехал во Францию учиться, он осознал, что его уровень как хирурга весьма высок. «Мне было в высшей степени приятно видеть, что ни одно из новейших достижений французской хирургии не осталось мне чуждым и все они время от времени встречались хотя бы в практической работе», – признавался он.
Пирогов также писал из Парижа, что «твердо взял себе за правило больше видеть, чем слышать. То, что здесь слышишь, к сожалению, часто противоречит тому, что видишь. Поэтому я стараюсь больше наблюдать госпитальную практику здешних хирургов, чем посещать их лекции».
В Париже он много ездил по госпиталям и анатомическим театрам, проводил дни на бойне, где разрешали вивисекции над больными животными.