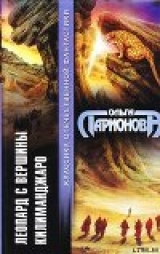
Текст книги "Лгать до полуночи"
Автор книги: Ольга Ларионова
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Черта с два. Ничего он ей не скажет, и промолчит он вовсе не потому, что не хочет делиться с ней кошмаром пережитого.
Он уже догадывался, почему он промолчит...
– Ирод! – вдруг завопила Анна тоненько и оглушительно. – Утопил зверя!
Она взвилась вверх, словно ленточка светло-зеленого серпантина, и Алан глядел теперь на нее снизу, помаргивая от перекрестного эха, рушащегося на него со всех сторон.
– Зверь! – кричала Анна, и уже было совершенно непонятно, кому адресуется ее крик.
– Прекрати вопли, – попросил Алан. – Перед ежом стыдно. Он же водоплавающий, я его на дню раз пять окунаю. И вообще, кто тебе позволил стать на ноги? Я же сказал – все твое дальнейшее существование будет проходить у меня на руках.
Она задрала подбородок и принялась разглядывать небо, словно голос доносился именно оттуда.
– А мне уже не позволяют? .. – тихонечко, как бы про себя, удивилась она. – Ну, ладно, тогда лови.
Он едва успел приподняться и протянуть руки, как она обрушилась на него.
– Сорок шесть килограммов, – доверительно шепнула она, – это все-таки слишком много для одной клубничной грядки, не так ли? Сорок шесть килограммов бабьей плоти и двести граммов коньяка.
Она лежала у него на руках, и ему совершенно безразлично было, что она будет говорить.
– Твой утопленник явился, – обрадовал ее Алан тоже шепотом.
Анна приподняла ресницы и скосилась на Тухти, который сидел на краешке грядки, оглаживая свае брюшко сверху вниз – сгонял остатки влаги, и сдержанно облизывался.
– Ладно, доедай, пока я добрый, – сжалился Алан, – все равно ведь завтра улетим, никому это будет не нужно.
Вместо того, чтобы порскнуть в клубничник, еж вдруг как-то недоуменно оглядел Алана, все еще державшего Анну на руках, и вдруг разом посветлел, зайдясь бледными перламутровыми бликами.
– Это он так смущается? – спросила Анна.
– Замерз, наверное, – буркнул Алан. – Ну, пошевеливайся, баловень, скоро стемнеет.
– Он боится темноты?
– Это я его боюсь в темноте. А посему загоняю в закуток.
Тухти перестал чесать белое брюшко, опустился на четыре лапки и, скорбно подрагивая хвостами, исчез за грядкой.
Алан знал, почему еж побледнел: каким-то загадочным об разом этот зверек угадывал ложь, которую он органически не переносил. Стоило Алану солгать, и Тухти тут же стремительно утрачивал свой великолепный марсианский багрянец.
Но вот таким обесцвеченным, до лягушачьей прозелени, как сегодня, Алан не видел его ни разу.
Анна же знать этого не могла, и не нужно было ей это знать.
– Темнота, – повторила она. – Поскорее бы. Устала я от твоего золотишка. Думала, оно сгинет куда-нибудь, так ведь нет, весь день сияло, как проклятое. Одно спасенье – на коньяк похоже. Вот и вечер пришел, и теперь оно... – она задышала прямо в ухо Алану, так что у него защекотало где-то возле барабанной перепонки. – По закону сохранения материи оно исчезнет с неба и перельется – в меня. Погляди, я стала тоненькая-тоненькая, аж прозрачная. И позваниваю тихонько. Не слышишь? Странно. Я ведь превратилась в тонюсенькую золотую пластинку. Подними меня повыше и посмотри сквозь меня на что-нибудь – я ведь просвечиваю... Ну, поднимай, поднимай, не бойся, только не отпускай – я улечу...
Она вдруг оборвала свое полусонное бормотанье, и он с ужасом понял, что она совсем не пьяна, а просто расслабилась, чтобы позволить себе отдохнуть, отключила все тормоза; но когда усталость пройдет, она деловито поднимется, кликнет Тухти, чтобы принес ей туфельки, и все кончится.
– Анна, – потерянно зашептал он, – Анна, Анна...
Он твердил только это, целуя сонное лицо, но тут увидел ее глаза, зеленые колодезные глаза, распахнувшиеся так широко, что он невольно поперхнулся и смолк.
– Господи, да почему же – нет? – проговорила она с безмерным удивлением. – Ну почему – нет?..
И он понял, что она говорит не ему, а самой себе. И еще на него вдруг напал (вот уж совсем не к месту!) приступ глобального виденья, и он разом представил себе ту вселенскую даль, из которой она прилетела к нему, и всю ту массу занятых людей, которых она оторвала от дела, перевернула все их планы и все-таки убедила в правомочности своего каприза, и все это вместе было сущим пустяком по сравнению с тем, что она сумела-таки прийти к согласию с самым взбалмошным, непостоянным и несговорчивым существом во всем Пространстве.
Она о чем-то договорилась сама с собой.
Что-то промелькнуло в душе Алана, какой-то мгновенный всплеск, но она попросила тоненьким детским голоском:
– Алька, да заслони ты от меня это окаянное небо! – и он больше не мог ни думать, ни взвешивать, ни сомневаться.
И они больше не видели, как медленно коричневеет и угасает это небо, как стихает ветер, и не было им дела до того, что земной вечерний запах петрушки и тмина лениво ползет в ложбинку между грядками и безнадежно запутывается в ворсинках лилового пледа.
А потом совсем стало темно, и зажглись звезды, такие яркие, что можно было уже посмотреть па часы. Алан осторожно освободил руку, оттянул рукав и глянул на циферблат.
Было без двадцати двенадцать.
День остался позади, день, полный отчаянья и блаженства, надежд и разочарований, полный ее голоса, яблочных бликов ее платья, нежного угара ее волос, перемешанного с домашним огородным духом, застоявшимся между грядками. И другого такого дня никогда не будет, потому что это был самый счастливый и прекрасный день его жизни. И этот день прошел.
Он наклонился, осторожно просунул руки под плед и поднял Анну. Она не проснулась, только беспокойно завозила щекой по грубому ворсу, отыскивая, куда бы ткнуться носом. Ни секунды не колеблясь, он отнес ее в лабораторный корпус, в маленькую комнатушку рядом со шлюзовой. Опустил на диван. Она и тут не проснулась, пробормотала что-то невнятное, в чем он очень постарался услышать собственное имя. Он торопливо поцеловал ее, и тогда она повторила отчетливей, так что он сумел разобрать: «Разбуди меня... сразу после полуночи...»
***
...Ровная желтизна заполняла собой все небо, и две белые инверсионные линии, забираясь все выше и выше, усугубляли правдоподобие этого земного утра.
Анна потянулась, дивясь редкой крепости своего сна, но тут же
вспомнила все свои, многочисленные пересадки: с грузовика – на заправочный буек, с буйка – на лайнер-подпространственник, и так далее. А время везде местное, корабельное, из утра окунаешься прямо в вечер, или ночь следом за ночью, и ни поспать толком, ни пообщаться, хотя на каждой посудине как минимум два-три знакомых. Но вот после сегодняшнего блаженного сна и тело, и нервы пришли в норму, и теперь она лежала, глядя вверх и тихонько расправляя на себе не снятое почему-то платье. Поначалу ей казалось, что сквозь тонкую ткань ее ладони вбирают всю свежесть, молодость и независимость, которые прямо-таки излучались ее телом и до обидного бесполезно рассеивались в Пространстве.
Потом поняла – нет. Не тело. Это было блаженство ощущения теплой живой ткани, из который было сшито ее платье именно платье, маленькое, удивительно женственное, облегавшее ее, как лягушачья шкурка бедную заколдованную царевну. Земное платье, а не осточертевший космический комбинезон. Но с комбинезонами будет покончено. И не когда-нибудь, а через десять минут.
Итак, короткий разговор с Аланом – такие сцены не должны быть ни длинными, ни эмоциональными. Факт в чистом виде и классической формулировке. И все. За день мимо пройдут два лайнера, это она выяснила, кто-нибудь из них да подберет. Разумеется, одну.
Она упруго поднялась, в последний раз пригладила свое многострадальное платье, и тут только до нее дошло, как же она будет смотреться в своем светло-оливковом кимоно с карминным кантом – и под этим ослепительно желтым небом! М-м-м...
Цветовые диссонансы она воспринимала болезненно, до стона, до одури, мгновенно впадая в смятение или бешенство. А багаж уже па Большой Земле, и с собой решительно ничего!
Закутаться в простыню? У нее не античная фигура.
Раздеться совсем? Поймут неправильно.
А вообще-то на этих маяках имеется переключатель погодно-световой программы. Так что не надо ждать милостей от природы. Нужно только незаметно выбраться, пока Алан не проснулся...
Она нашарила туфельки, отворила дверь и очутилась нос к носу с абсолютно голым супругом.
Ну, что тут будешь делать? Оставалось только стоять и любоваться. Благо было на что. Нет, без шуток, здесь решительно было на что посмотреть. Мало того, что сложен он был как юный и неиспорченный еще сатир – в этом золотом сиянии он и сам, казалось, светился ровным светом одухотворенности. Одним словом, аура.
«А ведь я его действительно нисколечко не люблю, – подумала Анна. – Ничутеньки. Иначе мне стало бы больно от того, что без меня ему и не грустно, и не холодно. Даже напротив. Вон ему как привольно живется! И дышится. И прыгается. И дурачится... господи, да с каким же это розовым чудом? Вероятно, это вместо кошки или канарейки. Или вместо меня... Но мне ведь не больно. Мне – никак. Хотя нет, вру. Я ведь стою и любуюсь, да мне просто радостно, что этот дивный мужик был моим господином и повелителем... То есть не то, чтобы был – а бывал. Ну, вот я его таким и запомню. Только нужно побыстрее сказать все, что я собиралась, и поставить точку на нашем... на моем космическом бродяжничестве. Вот так. Я, Анна Первая и Прекрасная, возвращаюсь в свои земные владения, дабы царствовать там одиноко и радостно. Такова моя королевская воля».
Она знала, что надо торопиться, потому что при первых же ее словах этот сказочный золотой мальчик, которым она любовалась беззастенчиво и безразлично, исчезнет, и останется только раб, который будет заглядывать ей в глаза снизу вверх, стараясь угадать, что же такое сделать, чтобы заслужить подачку ее ласки.
Поэтому она страшно обрадовалась, когда он сказал что-то своему рыжему чуду, что-то про срам и про завтрак. С набитым ртом разговор получается всегда как-то непринужденнее, можно будет обойтись без вступления и улететь сразу же, встав из-за стола.
– Необходимо дополнение, – сказала она, даже не здороваясь, устанавливая на весь последующий разговор дружеский и непринужденный тон. – Срам прикрыть попроворнее, завтрак сочинить на двоих.
Так и полыхнуло от него темным светом, и кулаки сжались с такой силой, что волна напрягшихся мускулов побежала вверх по обнаженным рукам, взметнулась на плечи и пропала за спиной, сойдясь между лопатками. На какой-то миг ей показалось, что над пей навис альфа-эриданский пещерный медведь.
– Я тебя когда-нибудь убью, – пообещал он и, повернувшись, пошел прочь, голый и невообразимо дикий.
Вот тебе и на! Именно сейчас, когда нужно было начинать свою программную речь, он вдруг предстал перед нею таким, каким она его в жизни еще не видела.
Но ведь она еще не начала.
«В конце концов, – сказала она себе, – от объяснения все равно не уйти, поскольку я не собираюсь отступать от своего решения. Пусть фавн, пусть бог, пусть золотой зверь – все равно это ненадолго, а затем я начну его угнетать, отвлекать от, заводить на, приводить в... короче, придется перебираться в другую зону дальности. Конечно, он никогда не спросит, как я развлекаюсь в этой самой зоне – ну не настолько же он атавистичен. Но все-таки я связана. И не ощущением своего замужества – за последние полтысячи лет брак наконец-то стал тем, чем и должен был всегда быть, то есть состоянием удобным, как хорошо сшитая перчатка: греет, но не давит. Нет, пока я связана с Аланом, меня гнетет именно мое положение властительницы. Какой чудак в глубокой древности умудрился во всеуслышанье изречь, что мы в ответе за тех, кого приручаем? Четвертовать надо за такие светлые мысли. Привязывать к четырем астероидам... Потому что услышишь такое – и привяжется на всю жизнь. Но теперь с этим покончено, покончено, покончено... будет покончено – часа через два. А два часа – на любованье этой неожиданной дикостью. В конце концов, могу я позволить себе такой каприз? Могу, потому что хочу. Такова моя королевская воля».
И она направилась своей королевской поступью к кухонному комбайну.
Акт принятия пищи необыкновенно сближает, если, естественно, едят не тебя, – это знает каждая настоящая женщина. Кормление любимой собаки сближает вдвойне. Это знает каждый настоящий человек. Следовало провести совместное кормление розового ежа, и надо сказать, что Анна вклинилась в этот процесс просто мастерски. Накормить затем мужа уже проблемы не составляло. Но плавность сближения была резко нарушена чудовищно некорректным вопросом Алана:
– Так зачем ты пожаловала?
Хм, зачем... Она смотрела ему прямо в лицо, опершись на стол острыми локотками, словно ножками циркуля. Если сказать ему, зачем она действительно сюда прилетела, то это значит провести магическую черту, которую никто из них уже не переступит.
– Я хотела немножко побыть с тобой.
Это не правда и не ложь – это частичка правды, начало объяснения. «Побыть с тобой, чтобы сказать тебе...» Пока она еще не солгала ему, пока она просто не сказала правды.
«Ну-ну, – прикрикнула она на себя, – самой себе-то и совсем незачем врать. Да, я уже лгу. И буду лгать до полудня. Пока не налюбуюсь. Уж очень ты, оказывается, хорош, когда у тебя шерсть дыбом».
И, как назло, шерсть начала опускаться – тут тебе и измотанная душа, и оазис женственности, и воплощенное чародейство...
«А вот уж нет, – сказала она, теперь уже обращаясь к нему,– и не подумай возвращаться к своему номинальному состоянию. Потому что я тебя все равно сейчас вздерну на дыбы! Раз уж я пожелала, то быть тебе золотой гориллой до тех пор, пока будет на то моя воля».
– А не ты ли сам всегда прогонял меня? Не ты ли вышвыривал меня в Пространство, как шелудивого котенка? Не ты ли...
Впрочем, кажется, этого она уже не говорила.
Но и реакция получилась не та. Он весь сжался, втянулись щеки и почти сошлись ноздри, он сказал что-то ледяным тоном и ушел одеваться. Вернулся подтянутым, тщательно одетым, но ничего в его внешнем виде не было сделано для нее.
«Ну погоди же, – усмехнулась она, – что-то ты совсем забыл, на что я способна...»
Она скинула туфельки и совершенно однозначно забралась на постель. Когда-то он назвал ее веточкой омелы на первом снегу... Когда-то. Но тогда он был совсем ручным, домашним.
– Я просто хочу побыть с тобой, – ужасающе спокойно проговорила она. – Как раньше.
И тогда былое бешенство снова накатило на него. Раньше... Да он, кажется, зарычал... Нет, он что-то крикнул, а потом захлебнулся, а потом она и вовсе не слышала ничего, потому что все ее силы уходили не на сопротивление – избави бог, столько добиваться! – а на то, чтобы сохранить свое лицо совершенно спокойным, ибо инициативу со стороны женщины она почитала не просто грехом, а грехом смертным, и теперь надо было держаться изо всех сил, чтобы ни губы, пи ресницы не выдали упоения этим грехом. И когда она поняла, что дальше держать себя в шорах уже нет никаких сил, она шепнула: «пожалуйста, погаси небо», и свет погас, и Алан ничего не увидел.
А когда она смогла приоткрыть глаза, в комнату снова вливался медовый свет, и где-то неподалеку журчала вода. Итак, ей дано время на то, чтобы одеться. Она подняла руку, закинула ее за голову. Одеться... Вот уж некстати! Тело стало по-птичьему легким и по-змеиному гибким... Змееящерка...
Она тряхнула кудряшками и заставила себя сесть. Все это чушь и чепуха. Птицеящеры не были ни легкими, ни гибкими. И главное – бесперспективными. И вообще – полдень уже миновал.
В комнату бесшумно вкатился пурпурный еж, весь в мелких завитках, как актиния, не сбавляя скорости, перекатился на спинку и блаженно представил для всеобщего обозрения атласное брюшко. Господи, да почему же она должна быть несчастнее этой скотинки, которая делает что хочет и тем живет?
Ведь впервые ей так легко, так солнечно, что потом, через десятилетия, не будет ни горько, ни стыдно вспомнить эти часы. Так почему же не позволить всему этому продлиться еще ненадолго... до обеда? А после десерта сказать правду.
Но ведь для того, чтобы не было горько и стыдно, надо еще и Алана удержать в должных рамках. Что его всегда выводило из себя? А, сравнение с Наполеоном. Прелестно! Правда, до сих пор она действительно не терпела куртуазных сцен посреди рабочего дня, и каждый раз, когда на ее супруга нападал несвоевременный бзик, она с неподдельной ненавистью вспоминала французского императора, который, по преданиям, хранимым мстительной женской памятью, в таковых ситуациях даже не отстегивал сабли.
Но сейчас-то все было совсем иначе. И даже весьма... Вот только теперь уже не надо про жену, и про беду... и про бессмысленную любовь... Нет, положительно, надо в авральном темпе одеваться, иначе вся станция превратится в болото из розовых слюней. И как это трудоемко – постоянно удерживать мужчину, сползающего на четвереньки! Ну не хлестать же на каждой фразе. Остается единственный способ приведения его в состояние равенства – работа.
«Ну, тогда поехали», – сказала она себе и натянула ставшее ненавистным зеленое платье.
Аврал был абсолютно не нужен, но тем интереснее было доказывать его необходимость и затем учинять. Возня, с аппаратурой, пусть тяжелая и грязная, не вызывала у Анны отвращения, а наоборот – заставляла почувствовать себя эдакой Золушкой. Она двигалась легко и стремительно, сознательно добиваясь изнеможения и отупения, которые позволят Алану снова и не менее упоительно стать ее властелином, но вместо усталости с каждой минутой обретала все большую свободу и непринужденность. Она с удивлением наблюдала за собой, понемногу понимая, что все это потому, что впервые она была с Аланом уже свободной, и эта большая независимость спасла ее от той маленькой отчужденности, которая, как рыбья косточка, всегда присутствовала и ее отношениях с мужем.
«Наверное, я старею, – сказала она себе, естественно, и мысли не допуская, что так оно и может быть на самом деле, – иначе откуда бы взяться сразу такому количеству мудрых мыслей? Если бы я улетела сразу же после завтрака, я бы не открыла для себя, например, четкой аксиомы: для того, чтобы быть счастливой, надо стать ни капельки ничем не связанной... Хотя, по правде говоря, одна тоненькая ниточка на мне еще осталась: это даже не то, что я буду говорить, а то, о чем я собираюсь молчать. Долго ли еще? Да до первых сумеречных теней. До первой звезды. Не длиннее. Такая паутинка не помешает мне плавать и кувыркаться в невесомости собственных капризов. До первой звезды я буду вольна, как летучая рыбка. Вот сейчас мне уже надоело играть в работу, мне угодно просто-напросто распуститься, так почему же нет? Честное слово, я сделаю это восхитительно!»
И она распустилась, и была так восхитительна, что не заметила первых вечерних теней, и не было классического обеда, а были клубничные грядки с теплой ложбинкой между ними, и было упоительное пойло, и откровенная чушь, которую они оба несли в полное свое удовольствие, а когда она уже не в силах была произнести ни слова, она должна была сознаться себе, что еще ни разу в жизни не испытала такой полноты подчиненности.
«Ну, вот теперь и можно сказать то, зачем я прилетела,– спокойно подытожила она свои мысли. – Беда только в том, что губы не слушаются. Придется лгать до полуночи. Я немного вздремну, а потом проснусь, я это умею, и все скажу, и начнется новая жизнь, с незапрограммированным цветом неба и немагнитофонным криком птиц, и еще с кем-то, кого я обязательно найду хотя бы по той простенькой примете, что он будет всегда, при любых обстоятельствах, немножечко выше меня... А пока – немножко поспать на этих руках. Они заслужили. И потом – ведь это только до полуночи. Господи, и зачем я попросила на завтра яблочно-зеленое небо?.. »
Она уже спала и не слышала, что ее подымают, и несут, и опускают на узкую койку возле шлюзовой камеры – абсолютно точно на вчерашнее место, на котором она проснулась, чтобы увидеть над собой проклятое янтарное небо. Последнее, что еще пробилось сквозь ее сон, был торопливый поцелуй, а вот удаляющиеся шаги – уже нет.
А он уже бежал в генераторную, не разбирая дороги, и даже не боясь наступить на ежа, потому что до полуночи оставалось совсем немного, но он уже знал, что успеет, что не позволит навсегда уйти этому сказочному, самому счастливому в его жизни дню. Все складывалось само собой – и то, что именно вчера ему наконец удалось превратить станцию в камеральную машину времени, работающую в ограниченном цикле, и уверенность в успехе – ведь пропадала же она на его глазах на те десять минут, которые он установил на временном реле. Если бы он остался внутри, он их попросту бы не заметил, но он вышел в Пространство и умудрился стать свидетелем первого во Вселенной чуда – двукратного повторения коротеньких десяти минут. Именно на такой срок станция и исчезала из реального бытия.
А теперь будет двадцать четыре часа. Целый день, который будет повторяться вечно, потому что каждый раз без нескольких минут двенадцать он будет срывать с приборов синтериклоновые чехлы, радуясь тому, что ничего вчера не переставил, не разъединил, не порушил, а сегодня мешает только вязкий вакуумный клей на приборных чехлах. Утром его не будет... Не будет и обещанного яблочного неба. Будет тот же самый – самый счастливый день.
Он включил циклическое реле, вылетел из генераторной, в несколько прыжков пересек лужайку и, срывая на ходу одежду, успел кинуть в рот шарик быстродействующего снотворного. Еще через секунду он лежал ничком на постели – совсем как вчера, и в последний момент на него накатил ужас: а вдруг это все происходит уже не в первый, а в сто тридцатый или в десять тысяч шестой раз? Что если это – всего лишь бессчетное повторение однажды прожитого счастливого дня?
Да и счастливого ли? Он вспомнил ее незамутненно-спокойное лицо, выражение которого столько раз ставило его сегодня в тупик. Что укрывалось за паутинкой этого бесстрастия?
И вдруг с изумляющей отчетливостью пришел ответ: ложь. Весь этот сказочный день ей угодно было лгать. До завтрака, до обеда. До полуночи. Почему же он поверил? Да потому, что за все эти годы ему досталось так мало тепла и доброты, что он просто ошалел от ее сегодняшних даров да еще и уверенности в том, что больше это не повторится никогда.
Он захлебнулся от ощущения малости того, что было отпущено ему судьбой, и устыдился жалости к самому себе, а пуще всего – своего нежелания схватить какой-нибудь брус потяжелее и разнести вдребезги проклятое циклическое реле. В конце концов это ведь несоизмеримо – быть счастливым целый день, и всего несколько секунд осознавать, насколько призрачным было его счастье.
Но до полуночи не осталось уже никаких секунд, и он ощутил легкое головокружение и услышал легонькое «пок!», словно вылетела пробка от шампанского. И он очутился уже во вчерашнем сне, не подозревая, что ему предстоит прожить ослепительный, невероятный день, наполненный страстью и отчаяньем, любовью и ложью...
* * *
Внутри станции ровная желтизна послушно заливала условное небо, а снаружи, легонечко помахивая крылами в абсолютном вакууме межзвездного пространства, неторопливо пролетал ангел. (Ольга Николаевна, да вы что? У вас же типичная сайнс фикшн, какие тут, к чертям, ангелы? – Ах, да не придирайтесь, пожалуйста, ангел тут никакой роли не играет, просто мне нужен некто, всеведущий, но отнюдь не всемогущий – взгляд со стороны. Так что оставьте его в покое, пусть поглядит.)
Да, так вот. Пересекая отдаленный сектор космического пространства, ангел вдруг наткнулся на невидимую, но абсолютно непроницаемую преграду. Звезды сквозь нее не просвечивали. Он потрогал ее перламутровым перстом и задумался. Неужели шеф сотворил? На него не похоже. Ангел напрягся и мгновенно уяснил суть происходящего. Вот оно что: вечное заключение и пытка пожизненным счастьем. Господи, жестокость-то какая, и за что?
Ну, ей-то поделом. Лгать в любви – это такой грех, что пусть теперь и занимается этим, пока звезды не потухнут.
А он? Ангел долго и печально взвешивал на сухоньких ладошках липкий ком вины. Да, пожалуй, и ему в самый раз. Потому что тот, кто позволяет себя обманывать, виновен в той же самой мере, как и тот, кто лжет.
И, утерши руки о хитон, ангел последовал дальше.
–=-
Ольга Ларионова, «Лгать до полуночи» (1991)
Авторский сборник: «Леопард с вершины Килиманджаро», АСТ, Terra Fantastica. 2001, стр. 725-749.








