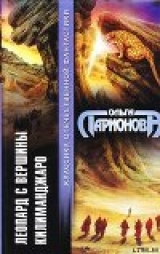
Текст книги "Лгать до полуночи"
Автор книги: Ольга Ларионова
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Ольга Ларионова
Лгать до полуночи
Ровная желтизна подымалась выше и выше, пока не заполнила своим теплым сиянием все небо, безоговорочно вытеснив предутреннюю синеву. Стойкость и бестрепетность этого янтарного зарева порождали сомнение в его правдоподобии, если бы не две инверсионные линии, тянущиеся ввысь за невидимыми точками ракет. Линии пересеклись и стремительно побежали дальше, расплываясь и теряя свою геометрическую безукоризненность.
И все-таки... Белые пушистые нити, перечеркнувшие небо, точно заиндевелые провода, – и жаркая, неукротимая желтизна, какая бывает только над раскаленными пустынями.
Было в этом сочетании что-то от лукавого.
Еще некоторое время Алан полежал, просто и естественно радуясь этому золотому утру, и ничему другому. Потом вспомнил вчерашнее. Припомнилось все разом, и Алан даже тихонечко закряхтел, как от ощущения реальной физической тяжести, которую он сам навалил себе на горб, и ведь справился... Справился!
Алан упоенно гикнул, вылетел из постели и ринулся к окну, распахнутому от стены до стены. Звоэ! Да здравствуют сапиенсы! Он прекрасно понимал, что со стороны он выглядит отнюдь не сапиенсом, а форменным орангутангом, золотым орангутангом, купающимся в золотом утреннем воздухе. Но глядеть на него со стороны было некому, и он перелетел через подоконник и плюхнулся в невысокую траву, оступился на чем-то круглом и растянулся во весь рост, благодаря судьбу за то, что здесь отродясь не водилось крапивы. Круглое оказалось теннисным мячом, по нерадивости Ухти-Тухти не разысканным с позавчерашней разминки. День позавчера выдался пасмурный, прохладный, вот он и позволил себе часок попрыгать у стенки.
Зато вчера было не до тенниса... При одном воспоминании о вчерашнем дне на него снова накатил такой восторг, что он схватил мячик и с криком: «Тухти, ищи!» – швырнул серебристый шарик прямо в небо. Мячик угодил точно в пересечение белых линий, упруго срикошетировал и исчез где-то за бассейном. Махнув на него рукой, Алан разбежался, прыгнул в воду и дельфином пошел по периметру – бассейн был до безобразия мал, и чтобы получить хотя бы минимальное удовольствие от пребывания в воде, приходилось учинять цунами среднего калибра.
На травку он выбрался ползком, опрокинулся на спину и зажмурился. Никто ведь этого не смог, а у него получилось. Пусть он запустил аппаратуру всего на десять минут, да и то с опаской, что в самый неподходящий момент ему на голову свалится кто-нибудь совершенно посторонний и абсолютно невежественный, до которого с трудом дойдет не суть эксперимента – куда уж! – а только вся его еретичность и несомненная запретность, и тогда – все, такого стечения обстоятельств уже никогда не случится... Но никто не свалился, и он смог в тишине и одиночестве закончить начатое. Смог! При этом коротеньком слове, произносимом даже не вслух, но все же наполнявшем все уголки этой станции, его снова обуял такой восторг, что он свечой взвился вверх, словно обнаружил, что он лежит не на теплой синтетической траве, а прямехонько на заснеженном пляже для моржей.
– Тухти, бездельник! – заорал он во всю мощь своих легких, рассчитанных явно на больший объем, чем скромный свод автономной космической станции, на которой до недавних пор работал гравитационно-нейтринный маяк. – Где мой мячик, дармоед окаянный?
Тухти с победно задранными иглами, нежно-алый, словно недоваренный омар, выкатился из-за угла и внезапно замер, как будто врезался в невидимую стену.
– Вольно, – сказал ему Алан.
Тухти медленно опустил иголки, которые тут же кротко подогнулись книзу. В таком положении он удивительно напоминал маргаритку исполинских размеров или, на худой конец, розовую волнушку. Мячик нехотя скатился у него со спины и тут же исчез под лопухом.
– Сколько тебе говорить: подавай прямо в руки, невежа, – назидательно проговорил Алан, нащупывая мяч босой ступней
Тухти выпростал мордочку из-под роскошной шапки своих игл и с любопытством посмотрел на человека. При этом одно ухо у него было поднято, другое – опущено.
– Вот как был дворнягой, так дворнягой и остался, – ворчливо заметил Алан, и в подтверждение его слов Ухти-Тухти тут же высунул оба свои хвоста и завилял ими в разных плоскостях.
– Ну, будет подхалимничать-то, – Алан вскинул руки, потягиваясь и, как всегда, жалея, что никто не догадался подвесить прямо к небу пару примитивных гимнастических колец. – Пойдем-ка в помещение, прикроем срам и сочиним добрый завтрак!
Он повернулся к лабораторному домику, подле которого, как часовенка Василия Блаженного, прилепилась кухонька. Тело, обмытое морской водой и обсушенное теплым ветерком, положенным к желтому аравийскому небу, двигалось легко и упруго, и совсем не хотелось забираться даже в прохладный льняной комбинезон, а тем более – приниматься за какую-то работу. Но надо было торопиться, потому что по всегалактическим правилам, относящимся к наиболее соблюдаемым, ни на каких космических объектах, будь то станции, буйки, планеты или астероиды, людям не позволялось находиться в одиночку.
В любой момент мог подгрести какой-нибудь скутер, и уж тогда... Он встряхнул головой, отгоняя от себя навязчивое видение чужака, и тут же увидел перед собой Анну.
Она стояла неподвижно и, вероятно, уже давно, прислонившись к стене лаборатории, – тоненькая, словно бледный вьюнок, подымающийся вверх по серой кирпичной кладке.
– Необходимо дополнение, – проговорила она так, словно они расстались только вчера вечером, – срам прикрыть попроворнее, завтрак сочинить на двоих.
– Я тебя когда-нибудь убью, – пообещал Алан.
Он повернулся и пошел к своему коттеджу, тяжело ступая по скрипучей траве и тоскуя по той легкости, с которой он двигался минуту назад. В дверь он не вошел, а перегнулся через подоконник, стащил с кровати простыню и соорудил из нее подобие тоги. В таковом виде и прошествовал на кухню, но вместо того, чтобы включить пищевой комбайн, принялся демонстративно нарезать антоновские яблоки в Тухтину миску. Потом насыпал в ручную мельницу можжевеловых ягод и так же неторопливо перемолол их все, пока изжелта-белые кругляши яблок не покрылись слоем лиловатой пудры. Услыхав издали лакомый запах, Тухти примчался со всех ног и ткнулся в миску, победно и небезопасно задрав свои плоские обоюдоострые иглы.
Алан всегда любил смотреть, как ловко и аккуратно насыщается этот зверек, но сейчас за спиной уже позвякивала посуда, утробно урчал и клокотал комбайн, и оборачиваться – это значило делать первый шаг навстречу. Он сидел, не шевелясь, и только мысленно умолял своего ежа хрупать яблоки помедленнее.
– Вот еще грибы, – сказала из-за спины Анна, и Алан почувствовал, как ему в лопатку уперлась какая-то посудина. Дай ему грибков, он по своей природе просто обязан их любить. А кстати, это он или она?
– Это кобель, – мрачно констатировал Алан, радуясь тому, что она сама начала разговор и теперь ему не придется как-то выпутываться из безнадежной ситуации, в которую обязательно выливается чересчур затянувшееся молчание.
– Садись к столу, стынет, – пригласили его.
Оп присел, словно был тут в гостях. Стол сверкал изяществом сервировки, на тарелках (светло-оливковых, с тоненькой пурпурной каемкой – в тон ее платья) – бледные лепестки тепличного салата и ломтики консервированной дичи. Может быть, она ждет, что он достанет из своих закромов контрабандную бутылку? Не пройдет. Она собирается что-то сказать, так пусть разговор будет деловым.
– Омлет положить?
– Половинку... Спасибо. Так зачем ты пожаловала? – Она поставила на скатерть острые локотки, прислонилась щекой к сложенным ладошкам. Очень спокойное, очень светлое, совсем юное лицо.
– Я хотела немножко побыть с тобой.
Он видел, что это правда, вернее, частица правды, и прикусил язык, чтобы не спросить – а зачем? Потому что тогда она сказала бы уже неправду.
– Спасибо за заботу, но все работы я уже свернул. Не сегодня, так завтра мы с Тухти подсели бы на какой-нибудь сухогруз.
– Но по правилам до этого момента на твоей станции должен находиться еще один человек. Почему не я?
Он посмотрел на нее с нескрываемым отчаяньем:
– Потому что ты мне всю душу вымотала. Потому что там, где появляешься ты, возникает вот такой оазис воплощенного женского чародейства...
– Так уж плохо?
– Это не плохо, пока это есть. Но когда потом начинаешь вспоминать все это... О, чертовщина, меня уже повело жаловаться!
– Но ведь это ты всегда прогонял меня.
Опять же как спокойно и как безапелляционно! Он, видите ли, ее прогонял. Так ведь и прогонял, именно так, а не иначе. Потому что от скуки и в силу своих колдовских талантов она умудрялась переворачивать не то что вот такие маяковые буйки – целые планеты. Вот и сейчас, спрашивается, каким образом она сюда попала? Ведь ее экспедиция находилась в совершенно другой зоне дальности, никаких транзитных лайнеров из тех краев не прибывает, а это значит, что она подняла шум на все Пространство и уговорила кого-то сделать чудовищный крюк, чтобы подбросили ее сюда, и ведь надо же – все ее слушались, а кого она не сумела убедить, тот просто дрогнул перед ее напором, и вот она здесь наперекор здравому смыслу и тем более – режиму экономии горючего...
– И тебе снова захотелось побыть со мной, несмотря на опасность, что я снова тебя выгоню?
Она посмотрела на него как-то исподлобья – взгляд был новый, непривычный, как платье после всех бесчисленных комбинезонов, предписываемых космическими традициями.
Он принялся складывать посуду в раковину. М-да, раньше она всегда глядела на него прямо, широко раскрытыми посторонними глазами. А теперь в ее взгляде была и мгновенная оценка всего того, что сейчас с ним делалось, и еще что-то – сострадание? Но она вовремя спохватилась – не нужно было ему этого замечать.
Неужели он уже выглядит в ее глазах жалким? Ну, если и так, то он не даст ей возможности наслаждаться подобным зрелищем продолжительное время.
– Спасибо, – сказал он, резко подымаясь. – Я не задержу тебя. На сборы мне нужно не больше двух часов.
Он прошел к себе, старательно оделся. Никакой небрежности, но и без нарочитой парадности. Вытащил из ниши свои книги, катушки с записями, ракетки. Только личные вещи, а что касается генераторов – станция законсервирована, и весьма возможно, что снова понадобится только через много десятков лет. Кому тогда придет в голову, что аппаратура расставлена и скомпенсирована как-то слишком причудливо? Реле длительности, что вынесено на внешнюю оболочку, вообще не найдут. Как говорится, концы в воду. Сложиться быстренько, и тогда можно дать кодированный пеленг всем проходящим кораблям – кто-нибудь да подберет. Чтобы недолго тут ждать...
– Так я побуду с тобой, раз уж я для этого прилетела?
– Ты прилетела, чтобы быть моим дублером, Так что потрудись пройти в генераторную и проверить режимы защитных блоков.
Она снова быстро и удивленно глянула на него, потом забралась на его аккуратно застеленную постель и, скинув туфельки, подобрала ноги.
– Это ты своего ежа будешь гонять по станции, – сказала она, – в хвост и в гриву. Я просто хочу побыть с тобой. Как раньше.
А вот этого она лучше бы не говорила.
– Как раньше? А ты хоть помнишь, как это было – раньше? Во всяком случае, мы не просто были друг с другом. Не помнишь? Ну, так я тебе напомню, как это было раньше...
Ведь должно же было хоть что-нибудь дрогнуть в ее спокойном лице, но оно по-прежнему было так невыразительно, так безмятежно; что хотелось схватить его в руки, и мять, и ломать эту светлую непроницаемую корку, обнажая то сокровенное, что она привезла с собой и так старательно прятала, – до поры...
До какой поры?
Он жадно всматривался в ее лицо, в то, как медленно, без малейшего трепета опускаются ресницы, как тихо шевелятся чуть подкрашенные губы – «пожалуйста, потуши небо...» Он нашарил на стене выключатель, внезапная темнота полыхнула со всех сторон, и все стало, как раньше.
А потом наступило отрезвление и вместе с ним пришла разделенность, как он понял, теперь уже необратимая.
Он тихонько сполз с постели, ощупью пробрался в ванную, совершенно не тревожась тем, что под ногами может оказаться клубок пронзительно режущих дикобразьих игл. Не зажигая света, он бросился ничком на теплую кипарисовую решетку и пустил воду.
Она всегда была его другом и помощником, эта вода, насыщенная пузырьками веселого колючего воздуха, острого, как можжевельник, и пряного, как слова, которые говорятся в тот миг, когда невозможно сказать ни слова. От начала дней его и во веки веков вода смывала с него всю нечисть, всю горечь, надо было только довериться ей, и она изгоняла из него все, что не было так же чисто и свежо, как она сама. Но сейчас вода утекала в душистую кипарисовую глубину под решеткой, а горечь оставалась. Уже начав задыхаться, он дотянулся до двери и чуть-чуть приоткрыл ее.
Прозрачно-золотой клин разрубил парную темноту, и Аллан прикинул, что времени прошло более чем достаточно для того, чтобы подняться, прибраться, застелить постель и вообще повести себя так, словно ничего и не было. Ну, хватит же у нее если не ума, то хотя бы жалости, чтобы это осознать?
Он выключил воду, нашарил в шкафчике какую-то одежонку, натянул ее прямо на мокрое тело и вошел в собственную спальню, как в старые времена подымались на эшафот.
Она таки ничего не прибрала. Она даже с постели не поднялась, а лежала на краю, свесив руку, разметав короткие, развившиеся прядки волос, и негодяй Тухти, лежа на спине, пытался подпрыгивать, пружиня и отталкиваясь от пола иголками, и когда это ему удавалось и он дотягивался до свесившейся руки, он покусывал кончики пальцев, что было щекотно и безболезненно.
– Зверь, уберись, – шепнула она, когда услышала приближающиеся шаги. – И уберись побыстрее, а не то тебя сочтут ренегатом...
Тухти послушно испарился.
Алан подошел к постели, присел на корточки, стараясь заглянуть в ее лицо, но светлые жесткие прядки прятали от него глаза, и щеки, и нос, оставляя для обзора лишь изящно очерченный, своенравный подбородок. Это Алана отнюдь не устраивало, и он протянул руку, чтобы отвести от лица эти прядки.
– Если ты полагаешь, что твои наполеоновские манеры дают тебе право дергать меня за косички, то ты ошибаешься, – донеслось из-под тускло-золотой шапки.
После таких вот скоропостижных сцен она и раньше дразнила его Наполеоном, вкладывая в свои слова затаенную, понятную ей одной насмешку, и он каждый раз не решался спросить ее, что именно она имеет в виду, опасаясь услышать, что-де не что иное, как Ватерлоо. Сейчас он также меньше всего хотел бы углубляться в исторические аналогии, но просто нужно было от чего-то оттолкнуться, и он сказал:
– Я в Наполеоны экстерьером не вышел, да и ты ведь не мадам Рекамье. Ты моя жена, ты моя беда...
– Слышу что-то новенькое! – изумилась она, приподымаясь на локте и отводя назад свои волосы, так что на какую-то минуту превратилась в маленького алебастрового сфинкса с огромными удлиненными глазами. – Я сейчас быстренько оденусь, и мы вплотную займемся сборами, а ты тем временем докажешь мне свою гипотезу о шашнях прелестной Юлии-Аделаиды. Ведь до сих пор как-то считалось, что с Буонапарте она ни сном, ни духом... Туфельки дай. Да не на ту... Ага. Первая леди твоего королевства благодарит тебя, ясновельможный сэр. А что до того, что я – твоя беда, то это было очевидно с самого первого дня нашего бесподобного супружества. Платье, пожалуйста... По-моему, я достаточно просидела голой, чтобы чувствовать себя отомщенной за твой утрешний костюм. Ой... Меня еще в жизни не одевали с такой ненавистью.
И снова его ужаснуло то спокойствие, с которым она произнесла эту фразу, – спокойствие, которое не позволяет ничего обратить в шутку. Но до шуток ли было ему...
– Анна,– проговорил он через силу,– почему ты говоришь о ненависти, когда видишь сама, что я просто и бессмысленно продолжаю тебя любить?
Она долго и внимательно смотрела на него, и слова он не мог понять, что же кроется, за этой паузой, потом сказала:
– А если любишь, то зачем мы сейчас говорим все это друг другу? Пойдем работать, я уверена, что у тебя в блоке обеспечения еще полнейший бедлам.
Она встала, деловито затянула поясок и направилась в блок обеспечения – разгребать полнейший бедлам, и он обреченно поплелся следом, зная, что там все в порядке, и приборы зачехлены, и киберы размонтированы, и анализаторы обесточены, придраться не к чему, но она критически скользнула светлым оком по синтериклоновым чехлам и постучала носочком плющевой туфельки по лежащему на полу течеискателю:
– Год-два он проваляется в безопасности, а вот три-четыре десятка лет – вряд ли. Станцию может прошить, при спадении давления синтериклон выдержит, но вот застежки... У тебя есть под рукой хотя бы гипоцем в аэрозольной тубе? Залить все швы – пустяковое дело, до обеда управимся, только зверюгу своего убери, нюх у него тонкий, еще зайдется...
Ни в какой инструкции о залитии швов вакуумным пластиком и речи не было, но Алан послушно приволок коробку с яркими тубами, и они добрых два часа предавались этому занятию, и она действительно хорошо знала свое дело – неплохой химик-аналитик, она, как и все члены комплексных экспедиций в Дальнем Пространстве, умела и могла непредставимо много для хрупкой и взбалмошной молодой женщины. Он, не пряча жадного взгляда, неотрывно следил за ее движениями, за тем, как острые коленки обрисовываются под светло-зеленым платьем, заляпанным пенными кляксами, как дисгармонично розовеет ободранный правый локоть, и, боясь до конца признаться себе в том, что только такая и только сейчас она и близка ему по настоящему, он молился теперь об одном: только бы она не устала, потому что когда кончится эта суета – еще черт ее знает, что Анна выкинет...
Устала она неожиданно, и присела прямо на какой-то зачехленный прибор, и сказала:
– Ну, вчерне вроде все дырки заткнули, а если где и осталось, то гори оно синим огнем, ладно?
– Ладно, – восторженно согласился он. – А хочешь, я тебе настоящий синий огонь учиню?
– Пунш? – живо заинтересовалась она.
– Почему это – пунш? Вот уж, действительно, чисто женские ассоциации... Просто у меня небесный свет в семидесяти вариантах. Для себя я полагаюсь на случайный выбор, но если ты хочешь, я покопаюсь в катушках и найду настоящее северное сияние. Хочешь?
– Ты мне найди лучше кусочек хлеба с маслом...
– Господи всевышний, творец черных дыр и прочего космического непотребства! Да я тебе сейчас такого наготовлю... Иди, мой руки.
– Иди, иди... А если у меня ножки не ходят?
Он схватил ее на руки и, не вполне соображая, что делает, потащил не в душевую, а через всю лужайку, к бассейну. Бесцеремонно потряс, освобождая ноги от туфелек, и когда они шлепнулись на траву, усадил ее прямо на низенький барьерчик, так что босые ступни окунулись в теплую воду.
– Тухти! – крикнул он и, когда еж примчался, виляя хвостами и тем выражая предельную готовность к выполнению приказов, велел:
– Отнеси эти плюшевые галоши в комнату и не смей их приносить, как бы тебя ни обхаживали. Будут взятки совать – попробуй только дрогнуть!
– Обречена на босоножество? – с любопытством спросила Анна. – Ножки наколю. Белые.
– А ты вообще больше не будешь ходить. Отныне и во веки веков. А токмо пребывать у меня на руках.
– Отныне. И во веки веков, – она произнесла это с таким спокойствием, что снова у него всколыхнулось что-то внутри.
Не к добру...
– Ты поплещись, – крикнул он как можно веселее, отгоняя эту непрошеную тень, – ты побрязгайся, а я уж что-нибудь приготовлю. Ты ведь у меня не привереда?
– Я у тебя не привереда, – проговорила она так спокойно и так обстоятельно, словно после каждого слова ставила точку.
Он отмахнулся от этого спокойствия, как от наваждения, и помчался на кухоньку. Врубил комбайн на сверхскоростной режим. Бросился обратно, к теплой раковине бассейна, отражавшего безоблачное золотое небо.
– Страшно окунаться, – призналась Анна. – Такое впечатление, что по поверхности разлилась какая-то тонюсенькая пленочка. Вылезешь из воды – и на тебе все цвета побежалости, как на придорожной луже.
– Почто так непоэтично? Сказала бы – как на венецианской майоликовой чаше...
– Точно. Как на майоликовой лоханке!
– Анна, фу!
– Как на майоликовом урыльнике. Знаешь такое слово? Нет? Напрасно. Ты только вслушайся: ур-рыльпик!
– Анна!
– А как звучит! Это же серебряный взлет фанфар под барабанную дробь! Ах, Алька, не умеем мы слышать... Урыльник!!! Да с этим словом надо бросаться на подвиг, в битву...
– Ежа постеснялась бы.
– Ах да, братья наши меньшие... Между прочим, это у меня голодный бред. Где обещанный кусочек хлеба с маслам?
– Ой, бедная моя, я сейчас...
– И с икрой! – крикнула она ему вдогонку.
Он слетал на кухню и тут же вернулся, нагруженный, как гобийский дромадер. Край скатерти, перекинутой через плечо волочился по траве.
– Замори червячка, а там и картошка спечется.
– Это какой такой червячок имеется в виду? – подозрительно спросила она.
– Не знаю... Фольклор, – растерялся он.
Она посмотрела на него и фыркнула:
– Знаешь, какой ты сейчас со стороны? Как будто опустил все иголки и подвернул их под себя.
– И стал нежно-сиреневым.
– А что, эти твари еще и цвет меняют? Ты, между прочим стели скатерку, раз принес.
– Меняют, куда же им деться. В зависимости от настроения. Подержи-ка хлебницу... А знаешь, перетащу-ка я тебя во-он туда, у меня там две грядочки – одна с зеленью разной, петрушкой да кинзушкой, а другая – с клубникой.
– Живые? – восхитилась она.
– А как же? Пока я по другим маякам шастал, у меня тут специальная программа работала, поливально-светоносная. По точнейшему субтропическому графику. Зато всегда на столе – свежая закусь.
– Закусь! А...
– «А» тоже имеет место. Контрабандой, разумеется, но ты моя законная жена, а посему не можешь свидетельствовать против меня на суде.
– А что, были такие правила?
– Ага. Когда были суды. Ну, посиди еще немного, моя умница, я все устрою.
Он наклонился, привычно поцеловал ее в теплый золотой висок и помчался все устраивать. Все или не все, но пушистое ложе с банкетным столом он учинил в полминуты – для этого пригодился вигоневый плед, брошенный в ложбинку между грядками.
– Это – старый-престарый коньяк, – предупредил он, отвинчивая крышку на причудливой, антикварного вида фляге.– Пожалуйста, не обманись в его крепости.
– Цхе-цхе-цхе, какая забота! А что, старая алкоголичка тебе сегодня не требуется?
Он знал, что Анна не умела пить вино – в Пространстве такое случалось слишком редко, а на Земле хватало удовольствий и без этого. Он налил совсем понемножку.
– За то, что ты пришла, – сказал он.
– Короче – со свиданьицем!
– Нет, – повторил Алан. – ЗА ТО, ЧТО ТЫ ПРИШЛА.
Он не старался придать своему голосу особую благоговейность, просто так получилось, и он наконец заметил, как дрогнули у нее глаза – не ресницы, а именно глаза. Что-то с ними произошло – то ли сузились зрачки, то ли цвет мгновенно потемнел...
– Ты знаешь, – поспешно проговорила она, словно стараясь снять этот невольный налет высокопарности, – мы лежим нос к носу, как два крокодила.
Он вытянул шею и постарался посмотреть на нее сверху.
– А ты действительно похожа на маленького светло-зеленого крокодильчика, и быть вблизи такого носа я отнюдь не возражаю. Только не болтай задранной ногой, босой притом – это нарушает сходство.
– А ты ожил, как рептилия на солнце. Изъясняешься высокопарно. А когда я прилетела, ты только и мог, что обещать меня прибить.
– Убить. Это разные вещи – вернее, разные обещания. Кстати, почему ты появилась так незаметно?
– Я прилетела где-то ночью, свет был погашен, небо темное, вот я и задремала на каком-то диванчике там, в закутке у шлюзовой. Проснулась – небо золотое...
– Я уже запрашивал диспетчера, нас подберут не раньше, чем утром, так что завтра я сотворю тебе самое синющее на свете небо – эдакое сапфировое яйцо изнутри...
– Выеденное. Спасибо. Не скажу, что оно очень пойдет к моему оливковому платью, да еще и мятому. Нет уж, если хочешь быть до конца галантным, то раздобудь мне нежно-яблочный оттенок – ну, как шкурка у спелой антоновки.
– Будет тебе шкурка спелой антоновки. И серединка будет. Все тебе будет, моя умница, совушка моя ночная перелетная...
– Что касается ночных тварей, то предпочитаю жабу.
– Про жаб ты рассказывала мне в ночь с восемьдесят четвертого на восемьдесят пятый день нашей супружеской жизни. Подумать только, с какими тварями ты меня примирила! Тухти вот таскаю с маяка на маяк. Как по-твоему, он хорош?
– Бесподобен. Тухти, не лижи мне пятку, подхалим несчастный! .. Ой! Алька, забери его немедленно, иначе я...
Алан осторожно подсунул руку под теплое, безопасное брюшко и, размахнувшись, швырнул ежа прямо в бассейн.. Раздался специфический звук – сумма плюханья и хрюканья.
– Ну вот, и я, как мрачный сандовский Альберт, пожертвовал ради тебя своим единственным другом.
– О, господи всемогущий и всепространственный! Обереги нас от черных дыр и сентиментальной старухи Жорж. Ты что, совсем свихнулся в своей глуши, что читаешь эту бретонскую корову?
– И не токмо. А все, что вольно или невольно ассоциируется с тобой. Вот, например, Саади...
– Который целовал исключительно в какое-то хрестоматийное место.
– Ну, конечно, ты всегда была нетерпима к традиционализму. Но тысячу лет назад не было ни традиций, ни штампов, о вот как разговаривали с любимой, только послушай: «...и зубами изумленья небо свой прикусит палец, если ты с лица откинешь...» Ну, в общем, что-то там откинешь.
– И что-то обнажишь.
– Анна, ты опять?
– Вот до этих самых пор.
– Дразнишься?
– У-у-у! Провоцирую! Да еще как.
– Анна! Анна, я...
– Алька, ты меня не любишь, ты меня только хочешь! – Ох, как он ненавидел эту ее формулу!
– Если бы ты только могла представить себе, что это такое – столько времени мотаться с маяка на маяк и любить тебя платонически, на расстоянии в десятки парсеков...
– Точнее – ненавидеть.
– На таком расстоянии это одно и то же. Но теперь ты пришла...
Она проворно перевернулась па спину и приподняла руку ладошкой кверху. На ладони стоял пустой стакан.
– Налей-ка мне еще этого дивного пойла и не жадничай. А пока мы будем пить, придумай мне какую-нибудь сказочку поправдоподобнее, почему это вчера вечером, когда мы подлетали, твоего маяка не было на месте.
Вот этого он никак не ожидал. А он-то наивно полагал, что его эксперименты останутся тайной для всей Вселенной! Сердце колотилось так сильно, что в такт ему подрагивали руки. Чтобы как-то скрыть эту дрожь, Алан пошарил вокруг себя – наткнулся на флягу. Снова свинтил крышечку и старательно отмерил ей полстакана. Подумав, добавил еще. Ну и вопрос! Хотя что – вопрос. Знала бы Анна ответ...
– То есть как это – маяк пропал? – спросил оп вполне естественным тоном.
– А вот так. По координатам выходило, что он должен был торчать у нашего крейсера прямо под килем, а ни гравилокатор, ни визуальные приборы ничего не показывали. Пеленга, естественно, тоже не наблюдалось. Мы уж думали – прямое попадание. Разнесло какой-нибудь праздношатающейся глыбой, хотя это и архималовероятно. А через пару минут глядь – все на месте. И пеленг исправный. Бывало у тебя подобное?
– И не такое бывало, – равнодушно проговорил Алан, делая вид, словно задерживает дыхание исключительно из любви к неповторимому букету. – Я давно уже замечал, что на корабле, который почтен твоим присутствием, половина команды автоматически теряет способность логически мыслить. Вероятно, теперь твое очарование распространилось и на приборы.
– Складно врешь, – удовлетворенно проговорила она, приподымаясь на локте, чтобы отпить из своего стакана. Просто удивительно, до чего же она спокойна! У любого другого человека в таком положении неминуемо начала бы дрожать рука. А эта – нет, и тонкая лабораторная посудина безмятежно покоится на узкой ладошке.
Он тоже сделал глоток, заел краснобокой недозрелой клубничиной.
Он ничего не хотел ей рассказывать, хотя трудно было удержать все это в себе – то, что до сих пор, наверное, не испытал ни один человек на Земле... И не на Земле – тоже. Ведь что бы он ни вкручивал сейчас Анне, а станция-то действительно пропадала, исчезала из реального континуума на несколько заданных минут (и надо ж было этому крейсеру подгрести именно в это время!), и что самое страшное – это то, что Алан наблюдал все это со стороны.
Он заблаговременно облачился в скафандр и выплыл в пространство, нетерпеливо поглядывая то на ручной секундомер, то на матовый гигантский пузырь станции, серебрящийся точно кокон водяного паука. Алан прекрасно знал, что именно должно произойти, он был подготовлен к этому и не испытывал ничего, кроме естественного любопытства, и все-таки ужас, который охватил его в тот момент, когда этот кокон превратился в НИЧТО, был просто ни с чем не сравним. Может быть, что-то подобное он ощущал в самой первой своей экспедиции, когда впервые в жизни увидал человеческий труп.
Но тогда это была смерть человека – в сущности, явление страшное, но реальное, если не сказать более. Каждому человеку предстоит умереть.
К тому же тогда вокруг него были другие люди.
А сейчас рядом с ним была временная смерть материи, и такое даже представить себе было невозможно, настолько это было нереально. Алан предусмотрительно держался поодаль, и тем не менее у него возникло ощущение, словно у него выдернули опору из-под ног. В стремительно навалившемся на него оцепенении Алан осознал, что на миллионы километров вокруг не существует ни одной материальной пылинки, и, прежде чем он успел что-нибудь обдумать, руки его уже сами собой нащупали кобуру реактивного пистолета, и мягкий толчок отдачи бросил его прямо на то место, где совсем недавно была станция.
Там была преграда. Нечто. От него можно было оттолкнуться, и оно тотчас же исчезало, и сознание снова мутилось от ужаса, так что Алан даже не мог потом припомнить, просвечивали звезды сквозь это нечто или нет.
А потом станция появилась, как ни в чем не бывало, но даже сейчас при одном воспоминании об этих минутах на Алана накатывал такой ошеломляющий страх, что делиться им с Анной он не мог и не хотел.
Вместо ответа он в третий раз отвинтил крышечку с заветной фляжки и, пока темно-золотая струйка мягко вливалась в согретый ладонями стакан, лихорадочно придумывал, на что бы такое перевести разговор, чтобы уйти подальше от таинственного исчезновения станции.
Он чувствовал, как деревенеет его тело в вязкой тишине непомерно затянувшейся паузы. А может, все-таки сказать правду? Иначе с какой-то периодичностью вопрос этот будет повторяться, и каждый раз вот так же неметь, маясь от неуменья соврать... Сказать?








