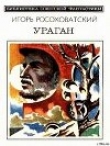Текст книги "Знаки Зодиака (сборник)"
Автор книги: Ольга Ларионова
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
И тогда со всей остротой встал вопрос о преодолении парадокса времени. Жители всей планеты дебатировали вопрос: а имеет ли смысл запускать корабли, которые в силу этого проклятого парадокса смогут вернуться обратно только через несколько десятилетий, если не столетий? Порочный круг, из которого не вырваться: увеличивается скорость и, казалось бы, сокращается время возвращения домой… Но неумолимо возрастает разрыв между отсчетом времени в системе Земли и в кабине корабля. Чем фантастичнее скорость, тем медленнее движутся стрелки корабельного хронометра. И возвращение домой практически теряет смысл: домой – не получается. Дом исчезает в прошлом. Вот уж воистину – чем лучше, тем хуже. И действительно, хорошего вышло мало. Из восемнадцати кораблей, посланных в просторы галактики, за эти три четверти столетия вернулись только два: инфраскоростная модель Балабина и лайнер Атхарваведы, облетевший Шестьдесят Первую Лебедя. Атхарваведа открыл несколько планет, одна из которых получила его имя, и выдвинул идею преобразования энергии в обратное время.
Традиционно-остроумные физики, еще четверть столетия доводившие общие мысли Атхарваведы до реального воплощения в виде компактного прибора, дружно именовали свою установку «темпоральным холодильником» и утверждали, что возятся с ней исключительно из удовольствия насолить старику Эйнштейну, ибо уже давно установлено, что из всех мыслителей, когда-либо обитавших на Земле, именно этот печальный любитель игры на скрипке умудрился сделать открытие, принесшее затем всем ученым (не говоря уже об остальных жителях планеты) максимальное число осложнений и неприятностей.
А затем дингль, который еще не назывался динглем, был опробован на автоматической модели. Небольшой космический катер описал петлю в пространстве, двигаясь с субсветовой скоростью, вернулся к околоземной станции, откуда был запущен, уже в начале будущего века, и тут автоматически сработала установка Атхарваведы – специальный резерв энергии был преобразован в обратное время с таким расчетом, чтобы корабельные часы снова совпали с земными. Звездолет был выброшен из будущего в настоящее (то есть для себя самого – переброшен в прошлое) и подошел к космическому причалу, словно был обыкновенным грузовиком с Юпитера.
Собственно говоря, «темпоральный холодильник» мог отодвинуть корабль в любой момент прошлого, но из соображений более этических, нежели энергетических, было решено поставить на этом преобразователе жесткий ограничитель, позволяющий только выравнивать времена – земное и корабельное. Но не более. Таким образом, субсветовой космолет попадал после возвращения в ту точку временной оси, где он находился бы, не действуй на него парадокс близнецов. Пусть с момента его вылета на Земле проходило сто лет, а в кабине корабля – два месяца, компьютер дингля скрупулезно высчитывал разницу и отправлял корабль назад, в прошлое, ровно на девяносто девять лет и десять месяцев.
Таким образом, и на звездолете, и на Земле ожидание продолжалось одинаково – два месяца. А парадокса времени словно и не бывало. Как будто прав был убежденный скептик Герберт Дингль, так до самой смерти и не поверивший в существование парадокса времени. Теперь Дингля вспомнили, начали склонять его по делу и без дела, посылать в его адрес шутливые поклоны и приветы, и как-то так получилось, что к моменту создания первой мощной практической установки ее уже никто иначе не именовал, как только «дингль». Так незлобивая память физиков соединила величайшее достижение века с именем давно позабытого профессора-ретрограда, и, кажется, именно Финдлей тогда вспомнил про историю с Василием Блаженным, и хорошо тогда было ему шутить, он и не подозревал, что через полтора года именно он поведет на Усть-Чаринский космодром первый корабль, на котором будет установлен этот первый действующий дингль, и что испытания этого корабля закончатся вот этим невыносимым ожиданием – не собственного спасения, куда уж! – а возможности спасти своих современников от надвигающейся невиданной катастрофы.
Двадцать шесть секунд. Двадцать пять. Двадцать четыре.
– Как быть с резервным баком? – крикнул Оратов.
Эльза махнула рукой. Какой там резерв? Основных баков хватит больше чем на тысячу лет, только бы ничего не произошло в эти самые последние секунды, только бы…
– Реле забыли снять! Реле ограничения! – не своим голосом заорал Финдлей.
Ну, это работы на пять секунд – сорвать реле. То самое реле, которое автоматически уравновешивает времена – земное и корабельное. А хорошо, что Оскар спохватился, иначе скачка в прошлое просто не произошло бы – ведь оба времени сейчас одинаковы, уравнивать нечего, сколько ни гони энергии на преобразователь. С реле скачок получился бы нулевым. Но сейчас ограничитель выдран из своего гнезда, провода скручены, теперь уже ничто не мешает динглю зашвырнуть «Антилор» со всем его содержимым в любые доисторические дебри. Ничто не мешает, кроме тех восьми секунд, которые еще остались на прогрев. Семь секунд. Шесть. Пять. Четыре…
– Ну же!.. – не выдержал Финдлей.
Эльза повернула голову и стала спокойно смотреть на него, и это спокойствие длилось целую вечность – секунда, другая, третья… «Снежная королева, – подумал Оратов, – Снежная коро…»
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ К ПУСКУ ГОТОВ!
Это как в детстве, когда разом зажигаются огни на новогодней елке. Загораются на ней полуторавольтовые лампочки, и приходит то состояние человеческого духа, которое лежит у предела шкалы абсолютного счастья. На обыкновенный язык оно переводится словами: «Вот оно!..»
– Ввожу весь запас, – сказала Эльза полувопросительно, словно кто-то мог ей возразить. Возражать же было некогда и нечего: каждый полный энергобак – это лишняя взрывная мощность при ударе о поверхность. И каждый использованный конденсор – это еще одна сотня лет в прошлое, это еще большая уверенность в том, что там, внизу, в зеленом мареве тайги (или доисторического леса) нет и не может быть людей.
– Ну, поехали! – произнесла Эльза традиционную фразу, с которой начинался любой звездный полет, хотя «Антилор» был первым кораблем, который уходил не к звездам будущего, а к Земле прошедших тысячелетий…
Когда светящаяся точка на экране расширилась, утратила свою яркость и растворилась в сероватом мерцающем фоне, Полубояринов невольно задержал дыхание и на один миг прикрыл глаза. Всего на один миг, потому что до сих пор они только ждали, а теперь надо было действовать. Координационный центр автоматически превращался в штаб борьбы с последствиями взрыва. Собственно говоря, в этот миг он уже думал не об Эльзе, Оратове и Финдлее, а о том, как организовать сюда, в Прибайкалье, доставку специальных антирадиационных дивизионов.
Поэтому, когда прошла уже не одна секунда, а двадцать, тридцать, и минута, он осторожно шевельнулся и глянул на старшего координатора, словно говоря: «Пора, Дан, дружище». Но Эризо по-прежнему стоял навытяжку возле опустевшего экрана, словно часовой в почетном карауле.
– Пора действовать, дружище, – проговорил наконец Полубояринов. – Ведь там сейчас пострашнее Хиросимы.
Дан, не поворачивая головы, поднял сухую ладонь, как будто хотел загородиться от прямого попадания этих слов. Полубояринов повел плечами это у него получилось так же заметно, как все, что он делал. Дан весь напрягся и замахал рукой, словно самое главное сейчас было – не распугать установившуюся над пультом мертвую тишину; наконец, он глянул на Полубояринова, и тут только до него дошло, что тот до сих пор ни о чем не догадывается.
– Они летят, – почти не шевеля губами, прошептал Дан. – Какая Хиросима? Они еще летят…
Экран перед ним был абсолютно пуст.
– Где? – так же шепотом переспросил ошеломленный Полубояринов.
Тогда Дан небрежно кивнул куда-то в сторону, и начальник координационного центра, следуя его жесту, удивленно поглядел направо, потому что знал собственный центр как свои пять пальцев, и ничего имеющего отношение к «Антилору» здесь быть не могло. Действительно, на стене висел лишь примелькавшийся и ставший поэтому неприметным так называемый «черный атлас», на котором кружочками, на расстоянии кажущимися совершенно черными, были обозначены все несчастные случаи, имевшие место в Приземелье за последние три с половиной века. И только вблизи эти точки приобретали металлический отлив: коричневатый – катастрофы с космическими грузовиками, обошедшиеся без человеческих жертв; лиловые – разведывательные и пассажирские полеты, стоившие жизни экипажу, и, наконец, немногочисленные зелено-золотистые, словно спинки жуков-бронзовиков, крапины нерасследованные происшествия и не поддающиеся объяснению явления, напоминающие последствия космических аварий.
Один из таких кружков, залезая зеленым бочком на мелкую надпись «Подкаменная Тунгуска», имел самую древнюю в этом атласе пометку:
«1908 г.»
К этому-то кружку и протягивалась сейчас сухая ладонь Дана.
«Неужели они рискнули запустить дингль? – опешил Полубояринов. Выходит, рискнули и успели… Сообразили – и успели. Я один, как идиот, ничего не понимал…»
– Вот, значит, как оно было, – бормотал он уже вслух. – А мы-то считали, что на Тунгуске тогда не погиб ни один человек…
– Помолчал бы ты, Григорий, – сказал Дан. – Они еще летят.
А они действительно еще летели. Летели так, словно ничего не случилось. Ровно светился всеми своими контрольными лампами оживший центральный пульт, лениво покачивались стрелки всех корабельных приборов, сыто гудел генератор защитного поля, вибрировал под ногами пол – тормозные двигатели с безоглядной щедростью пожирали энергию, словно энергобаки «Антилора», как всегда, были полны до краев. А ведь дингль-бросок оставил после себя лишь крохи. Все основные баки он выдоил дочиста. И заплатил за это еще одним чудом: во время дингль-перехода все стало на свои места, энергораспределитель словно прочистил свое горло и начал исправно перекачивать энергию из последнего, резервного бачка, от которого так небрежно отмахнулась Эльза, на все приборы, двигатели и генераторы. Почему это произошло?
Почему? Потому. На то они и были первыми испытателями дингль-корабля, чтобы принять на свои плечи все чудеса, которые может преподнести скачок во времени. Все? Черта с два – все. Те, кто будет вторыми, да и третьими, тоже хлебнут. Сюрпризов, по-видимому, надолго хватит. Беда только – уже не предостеречь тех, кто будет следующими. Не передать им…
«Что это? – подумала Эльза. – Уж не предсмертная ли тоска, горечь незавершенности земных дел? Чушь. Романтические штампы. Это естественный анализ только что проделанной работы. Допущен просчет: один из основных баков тоже надо было придержать и тем обеспечить сейчас мягкую посадку. И тогда – пусть тайга, пусть хоть мамонты и пещерные волки, пусть вся доисторическая зубастая нечисть – но это была бы жизнь… А ведь Оратов и Финдлей тоже думают сейчас об этом».
Она искоса глянула на Оратова. Нет, непохоже, чтобы он думал об этом. Оратов был космическим асом, и если из четырех двигателей проработают немного хотя бы два, он посадит корабль.
Но на одном не посадит и он.
Двигатели взревывали и снова умолкали – Оратов вкладывал уже не только все мастерство, но и всю интуицию в то, чтобы экономить на каждом маневре хотя бы кроху горючего. Оскар находился рядом, в какие-то моменты их головы касались друг друга. Финдлей не спускал глаз с высотомера и время от времени что-то вполголоса подсказывал Оратову. В кабине становилось жарко – ни у кого не подымалась рука включить генератор охлаждения. Надо экономить энергию. Оставлено самое необходимое, такое, как прокладчик курса, который торопливо как ни в чем не бывало высвечивал на карте агрогорода и атомные станции, связки и выходы подземных коммуникаций, зоны бесканальных энергопередач и еще многое такое, что теперь существовало только в его электронной памяти и чего, естественно, не было там, внизу.
– Мы сейчас пересечем дорогу… – тяжело переводя дыхание, проговорил Оскар. – Я это точно помню. Чугунную дорогу.
– Железную.
– А нас порядком подбросило вверх…
– Естественно. Изменение массы корабля в момент дингль-перехода баки-то ведь опустели…
– В пространстве мы этого смещения попросту не уловили.
– В пространстве мы много чего не уловили… – Оратов осекся: выключились сразу два двигателя.
Несмотря на гул, по-прежнему наполняющий рубку, Эльзе показалось, что кругом стало нестерпимо тихо. Ведь если в грохоте и свисте урагана умолкнет плачущий ребенок – матери покажется, что на мир снизошли покой и тишина…
Опять какие-то сентиментальные ассоциации. Откуда ей знать, что думают матери? Опираться надо на собственный опыт, а не на прочитанную в перерывах между полетами беллетристику. Позади у нее испытания, подготовка к испытаниям, отчеты по проведенным испытаниям – и не было времени ни для материнства, ни, в сущности, для любви. Годы испытаний, десятилетия испытаний – и как же мало оказалось этого сейчас! Многолетний опыт, в нужный момент не обернувшийся тем безошибочным даром, который именуется интуицией…
Финдлей снова что-то сказал Оратову, но от нестерпимой жары кровь пульсировала в висках, и Эльза уже не расслышала, о чем он говорил. Оратов упрямо качнул головой. Корабль дернулся еще раз, словно собирался набрать высоту. Высота. Еще бы немножко запаса высоты. И чуточку энергии в основных баках.
А вот это уж совсем лишнее – если ко всему прочему «Антилор» потянет на вращение… Молодец, Оратов. Справился. Если бы она придержала еще один бачок, они бы вообще со всем на свете справились.
– Идем строго по программе… – донесся до нее голос Финдлея, – и, насколько мне помнится, публикации двадцатого века приписывали нам невразумительные вариации по скорости и высоте…
– Этих специалистов сюда бы, – выдохнул Оратов.
– Между прочим, пора бы пройти Кежму, – не унимался Оскар. – Авторы публикаций о тунгусском метеорите требуют, чтобы мы круто свернули на восток.
– Ну, это нам не по карману… – уже не расслышала, а догадалась Эльза.
Даже не по гулу, а по вибрации пола она чувствовала, что еще один из двигателей сейчас захлебнется. «Антилор» мчался все дальше на север, неуклонно гася скорость, но все-таки она еще была настолько велика, что о посадке нельзя было и мечтать. Половину бака бы на тормозные, ну не половинку, так хотя бы треть…
– А ведь это Чуня, – каким-то звенящим фальцетом завопил вдруг Оскар. Чуня! Вы понимаете? Мы прошли это место, и нас несет на север, все дальше на север, к океану…
Оратов замотал головой, словно отмахиваясь от совершенной несуразицы, но потом, видимо, краем глаза усмотрел прокладку курса. Тогда он налег грудью на рукоятку управления и так, пригнувшись к пульту, медленно повернул голову назад и глянул на Эльзу.
Она кивнула.
– Так оно и есть, мальчики, – проговорила она хрипло и подумала, что голос ее вряд ли доносится до них сквозь гул захлебывающихся двигателей и лиловую пелену нестерпимого печного жара. – Я тут прикинула в уме… Даже если баки были наполовину пусты, то и тогда мы должны очутиться на целый порядок глубже в прошлом, чем полагали сначала…
Оратов глядел на нее, то ли не слыша ее слов, то ли не веря им. Потом нашарил на панели управления какой-то тумблер и, не глядя, нажал его. Тоненько засвистел генератор охлаждения, и в кабине стало можно дышать.
– Значит, это были не мы, – медленно проговорил он, все еще глядя вполоборота на Эльзу. – А если не мы, то кто же?
Эльза сделала слабое движение руками – вот уж, мол, чего нам не будет дано разгадать. А дано им было еще несколько минут, потому что, оказывается, третий двигатель как-то незаметно вырубился, и «Антилор» шел теперь на одном-единственном, и посадка была с этого момента совершенно невозможна, и больше всего на свете Эльза боялась, что сейчас кто-то скажет: раз уж это были не мы, то, может быть, у нас есть хотя бы один шанс?..
Но Финдлей хлопнул себя по коленке и восторженно завопил:
– Братцы, так ведь нам же памятник поставят! – И загрохотал так, что казалось, включились все двигатели разом. – Никто же на базе не догадается, что это были не мы, и нам такой монумент отгрохают!..
Оратов ударил себя по лбу, откинулся на спинку кресла и тоже захохотал – искренне, неудержимо. Эльза и сама чувствовала, что ее разбирает смех. Это было нелепо, а если глядеть со стороны, то просто страшно, и тем не менее через минуту хохотали уже все трое, хохотали до слез.
– Нас высекут из камня – во! – в масштабе десять к одному, как фараонов, из царственного карнакского песчаника!
– Фи, Оскар, мы будем смотреться только в мраморе…
– Тогда почему бы не отлить наши фигуры из хрусталя? С голубой подсветкой…
– Уймитесь, фантазеры, – попыталась вмешаться Эльза, – там же трясина!
– Чепуха! Тем, кто построил «Антилор», по плечу любая трясина и вечная мерзлота! Монумент будет висеть в воздухе на антигравитационной подушке!
– Братцы, мы забыли про салют! Вменить в обязанность всем космолетам, возвращающимся на Землю…
– Троекратный, Оскар, троекратный!
Ни в этих словах, ни в интонациях не было ни на йоту фальши, так веселиться могли только люди, которые долго и дружно делали какое-то чертовски сложное дело, и вот они свалили его с плеч. И решить эту задачу помогла им сказка о неведомом, трагически погибшем корабле, залетевшем из чужой звездной системы прямо на Подкаменную Тунгуску. Не припомни они эту легенду – и мысль запустить зачехленный и опечатанный дингль пришла бы слишком поздно.
Но они успели. До своего океана они дотянули.
Последний двигатель отключился, когда они шли над Таймыром. Взрыва не произошло – энергобаки были пусты. Они просто канули в ледяной океан, дойти до которого было их последней целью.
Вернись за своим Стором
Было уже больше пяти. Астор шел пустеющим институтским коридором, и, по мере того как оставались позади стеклянные двери лабораторий и мастерских, уходили привычные дневные мысли, уходило все то, что делало его просто физиком. Оставалось пройти шагов двадцать, спуститься по традиционным ступеням вестибюля, миновать сосновую аллею и войти в свой дом, расположенный в каких-нибудь пяти минутах ходьбы от института и двадцати минутах полета до Союза писателей.
Когда он дойдет до своего дома, он уже окончательно перестанет быть физиком, потому что наступит вечер. По вечерам же он был не просто Астором Эламитом, а всемирно известным писателем. Он шел не спеша, хотя именно сегодня ему следовало торопиться. Но он заглядывал в каждую дверь, входил иногда в какую-нибудь комнату, осматривался, заглядывал за шкафы и приборы. Он отдыхал. Это был маленький перерыв, передышка, отдушина между теми двумя состояниями, через которые он с неумолимой периодичностью проходил каждый день. Именно так – не профессиями, а состояниями. Несколько минут, когда он позволял себе быть не тем и не другим, а просто усталым, отрешенным от всего человеком. И, как всегда, эти минуты он тратил на то, чтобы найти Рику – он знал, что она еще не ушла из института.
Он нашел ее на подоконнике в малой кибернетической. Она сидела, положив подбородок на колени, грустная и нахохлившаяся, и было видно, что ко всем ее маленьким девчоночьим бедам только и не хватало Астора.
Он подошел к ней и остановился. Надо было что-то сказать. А он даже и не представлял себе, для чего он ее искал. Надо понимать, ему просто доставляло удовольствие ее видеть. Но вот теперь, глядя на нее, он искал в себе это самое удовольствие, радость, пусть маленькую, но обязанную, возникнуть, – и не находил. Что общего было между ним и его белобрысой нерадивой практиканткой? Он частенько думал над тем, какая же сила заставляет его искать ее, мучительно подыскивать нелепые, чужие фразы, и все-таки искать, и все-таки говорить, и все-таки смотреть на нее…
– Почему вы остались? – спросил он невыносимым голосом. – Вы же знаете, что энергоподача прекращена по всему институту.
Она посмотрела на него с высоты своего подоконника и кротко ответила:
– А я энергии не потребляю.
«Забавно, – подумал Астор, – но что я буду делать с этой сценой вечером, когда все это будет происходить уже не в жизни, а в моей повести, когда я буду уже не я, а другой, моложе и обаятельнее, и не с этим дурацким именем – Астор, удивительно напоминающим кличку благородной охотничьей собаки, – а тот Стор, внешне напоминающий капитана из старого бульварного романа, наделенный всем тем, чего так не хватает мне самому? С девчонкой-то я уже разделался – я превратил ее из долговязой белобрысой Рики в златокудрую красавицу Регину, но как быть с этим диалогом? Могу ли я позволить, чтобы и в моей повести она мне так же дерзила?»
– Ступайте домой, – сказал он как можно строже. – Практикантам не позволяется задерживаться в помещениях института без присмотра сотрудников.
– А вы за мной присмотрите, – сказала она, подтягивая колени к груди и освобождая кусочек подоконника. – Вы сядьте рядышком и присмотрите за мной.
«Ну, голубушка, – думал он, продолжая стоять, – а вот это я уже непременно сохраню. Моя Регина обязательно скажет: а вы присмотрите за мной… И подвинется на подоконнике. Но вся беда в том, что я, то есть не я, а Стор, сядет рядом, и что будет потом, господи, что будет потом… Ведь знаю, что все банально до отвращения, аж пальцы на ногах поджимаются, и все-таки буду писать. Литература, черт ее дери…»
– Послушайте, девочка, – сказал он, заранее чувствуя, что будет сейчас говорить совсем не то, что нужно. – Я неоднократно советовал вам переменить профессию. Не теряйте времени, порядочного физика из вас не выйдет. Не тот склад характера.
– Я и не собираюсь стать порядочным физиком. – Она нисколько не смутилась. – Я с этого только начну. А потом я стану Настоящим Писателем, как вы.
Он удивленно посмотрел на нее. Он никогда не говорил в институте о своей второй профессии – он тут же поправился: о своем втором состоянии.
– Это много труднее, чем стать просто физиком, – сказал он медленно. Можно писать всю жизнь и не стать Настоящим Писателем.
– Вот я и буду писать всю жизнь.
– Но сначала надо научиться писать на бумаге.
Это очень мучительно – писать на бумаге. Ты сам знаешь о своем герое так много, что невольно перестаешь понимать, удалось ли тебе вложить в подтекст все то, что никак не умещается в печатных строчках. Для тебя этот подтекст существует потому, что все то, что ты думал, когда создавал свою повесть, или роман, или даже коротенький рассказ, все это всегда при тебе, и, когда ты перечитываешь написанное тобой, тысячи ассоциаций роятся у тебя в голове и волей-неволей создают то переплетение звуков, запахов, ощущений и желаний, которое делает написанное живой плотью; но все это только для тебя. А как проверить, существует ли все это для постороннего читателя?
И даже свое собственное, оно может звучать совсем по-разному в зависимости от того, написано ли это пером, напечатано на машинке или оттиснуто типографским способом. Вот и разберись, где у тебя вышло по-человечески, а где – просто никуда. Пишешь и пишешь, мучаешься несказанно и в один прекрасный день решаешь послать все к чертям, потому что уже очевидно, что ничегошеньки из тебя не получилось, – и вдруг, как снег на голову, решение Совета Союза писателей о том, что тебе присваивают право быть Настоящим Писателем.
И ты перестаешь писать на бумаге.
– Хочу так же, как вы, – упрямо повторила Рика, – хочу быть Настоящим Писателем и создавать живых людей.
«Совсем еще девчонка, – подумал Астор, – совеем еще глупая. Все они в определенном возрасте мечтают или летать на Уран, или быть Настоящими Писателями. Но, как правило, к шестнадцати годам это проходит. Половина из них марает бумагу, но дальше бумаги идут единицы. Единицы со всей планеты. У остальных проходит. Пройдет и у этой, пройдет само собой, так что не надо ничего говорить. Разубеждать девчонку в желании стать кем-нибудь занятие неблагодарное и, главное, начисто бесполезное».
– Для того чтобы создавать живых людей, мало хотеть, – с удивлением услышал он собственный менторский тон. – Это право присваивает Совет писателей, но и оно не пожизненно. Его могут дать и могут отобрать. И потом, среди Настоящих Писателей чрезвычайно мало женщин. По всей вероятности, это происходит потому, что женщины имеют возможность создавать живых людей другим, более естественным путем, и это у них получается лучше.
Рика покраснела так стремительно, что Астор даже перепугался, но она только крепче прижала коленки к груди, подождала, пока ей не показалось, что краска уже сошла, – а на самом деле она держалась еще минут десять, и снова повторила упрямо и зло:
– Вот хочу и буду, хочу и буду. Это будут мои люди, совсем мои, я их выдумаю, заставлю дышать, двигаться, мучиться, а главное – жить по-человечески. Понимаете – я научу их жить так, как я хочу.
– Понимаю, – медленно сказал Астор. – И я об этом мечтал. Я мечтал о том, как мои герои будут жить. Я мечтал о том, как я их произведу на свет божий. Я заранее знал, как непозволительно я буду их любить. Но так же, как и вы, я забывал, что рано или поздно я должен буду их убивать.
Он сказал это и тут же пожалел, и не потому, что этого не надо было говорить Рике, а просто он хотел отдохнуть и ни о чем не думать до тех пор, пока он не дойдет до своего дома, но вот то, что подсознательно мучило его даже днем, когда он думал о своей физике, вырвалось наружу, и теперь ему не будет покоя даже на эти несколько минут.
Наверное, все отразилось на его лице, потому что Рика спустила ноги с подоконника, прыгнула на пол и пошла к нему с каким-то странным-выражением, почти гримасой.
– А!.. – сказал он и, махнув рукой, быстро пошел прочь, пошел из института, пошел по короткой сосновой аллее домой, где ждал его диктофон, соединенный непосредственно со студией Союза писателей, и всю дорогу он не знал, что же ему делать, потому что повесть его подошла к своему естественному концу, и этот конец должен был стать концом его Стора. Конец – это вовсе не обязательно трагическая развязка. Конец – это даже тогда, когда «они поженились и жили долго и счастливо». Конец – это точка, когда герой, которого ты вынянчил и выходил, на ноги поставил и выучил творить те чудеса, которые самому тебе не под силу, завершает отмеренный тобою отрезок своего пути; кульминация, развязка – и он больше не повинуется тебе, больше ему с тобой делать нечего. Он больше не твой.
И вот ходишь, и маешься перед тем, как поставить эту самую последнюю точку, и ищешь способ сделать своего героя если не бессмертным вообще, то хоть смертным по-человечески, и ничего не можешь придумать, и тянешь, и тянешь время, пока не наступает такой день, как сегодня, когда кончать надо обязательно. Потому что Настоящий Писатель не имеет права уходить из жизни, не распорядившись судьбой своего героя. Это было жестоко, но справедливо, иначе все старались бы оставлять свои произведения незаконченными, чтобы позволить своим героям жить иллюзорной жизнью студии, жить в мире декораций и проектируемых объемных фигур, которые заменяют персонажей второго плана.
Это очень тяжело – прекратить существование собственного героя, поэтому право быть Настоящим Писателем предоставлялось только очень мужественным людям. Астор не относил себя к разряду таких людей, но, по-видимому, так считали другие; он не ошибался в себе, и вот теперь, когда его первая повесть, не написанная на бумаге, а разыгранная созданными им живыми людьми, фактически давно уже подошла к своему концу, у Астора не хватало мужества поставить точку.
Но сегодня было необходимо это сделать, потому что завтра в его лаборатории ставился эксперимент, который мог закончиться довольно печально. Астор не мог послать никого и шел сам – он один знал, насколько велик риск.
Завтра все могло быть.
Значит, сегодня необходимо было кончить со Стором.
Астор дошел до ступеней своего дома и оглянулся. Громада института, окруженная соснами, высилась, словно снежная гора. Рика, наверное, снова взобралась на подоконник и смотрит ему вслед. Белобрысая Рика, которую один раз в день он обязательно должен был видеть. Откуда она узнала о его втором состоянии? И потом это «хочу создать живых людей»… В студии не принято говорить о своих героях, что они живые люди. Говорят «сценические биороботы», или «материализованные образы».
Но ведь это действительно почти живые люди, живущие краткой, наперед заданной, но чертовски яркой и завидной жизнью. Как Стор.
Астор сел, подвинул к себе диктофон и вдруг почувствовал… Это было странное, невероятное ощущение минутного всемогущества. Да черт побери все на свете, ты же человек неглупый, почти талантливый человек. Настоящий Писатель притом! Так ищи же выход, делай невозможное, спасай своего Стора! Еще есть время. И не тяни со всеми этими амурами, подоконниками и златыми кудрями! Главное – это Стор. Спасай его!
Он включил диктофон.
– Выйдя из института, – начал он, – Стор знал, что никогда, ни теперь, ни потом, он уже не увидит Регину.
«Так ее, рыжую, – подумал он, – ее-то я дематериализую без всякой жалости».
Он быстро шел по аллее, но, когда она уперлась в дверь его дома, вдруг помедлил и, обогнув его, очутился на посадочной площадке, где каждый вечер, начиная с пяти, его ждал маленький спортивный мобиль. Он поднял машину в воздух и через двадцать минут уже был там, где за частыми стволами сосен поднималась дымчатая стена студии. Она огораживала площадь в несколько сотен квадратных километров и поэтому казалась совершенно плоской. Стена уходила высоко в небо, и облака сливались с нею, делая ее бесконечной. Здесь когда-то Стор впервые встретился с Региной, и теперь он бессознательно нашел это место, возле корявого, облепленного муравьями пня, и стал ждать, сам не зная чего, присев прямо на короткий сухой мох и изредка сбрасывая с ботинка огромных красных муравьев, упрямо шедших напролом…
Астор немного подумал: может, добавить еще что-нибудь? И выключил диктофон. Абзац принят, он поступил на студию. Теперь, пожалуй, кибер-ассистенты ужа расшифровали его и готовят реквизит: мобиль для полета и все такое, а павильоны прежние – копия дороги от института до самого дома Астора, площадка для мобилей за домом и роща. Но это уже не павильон, это натура, столь редкая в студии.
Пора.
Астор вышел из дому, вывел машину из гаража и резко взмыл вверх. Он взял направление не на главный корпус студии, а туда, к стене, как раз к тому месту, куда с другой стороны через некоторое время должен выйти его Стор.
Астор не любил летать на большой высоте. Оживленные трассы пролегали в стороне и значительно выше, поэтому он спокойно смотрел вниз сквозь прозрачное дно машины и пытался представить себе, что же происходит сейчас там, на студии.