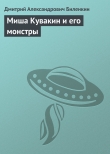Текст книги "Мальчик из Холмогор (Повесть)"
Автор книги: Ольга Гурьян
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Ольга Гурьян
МАЛЬЧИК ИЗ ХОЛМОГОР
Повесть
Рисунки
И. Ильинского


ГЛАВА ПЕРВАЯ
По краю гребешка шла надпись: «Корень учения горек, а плоды его сладки», а пониже была вырезана картинка: учитель сечет тонким прутом – лозой – ленивого ученика, а прилежный ученик сидит на лавочке и читает большую книгу.
Мишенька Головин смеялся каждый раз, когда брал в руки гребешок. Ленивому ученику было больно, и он корчил смешную рожу, а сам Миша уже умел читать большую книгу – псалтырь.
Причесавшись и повесив гребень на поясок, Миша пошёл поздороваться с матушкой. Она дала ему пирог с рыбой и велела идти гулять на улицу.
Миша повертел пирог, раздумывая, с какого конца его надкусить, но тут откуда-то сверху прыгнул ему на плечи большой пушистый кот Васька. Кот замурлыкал. Миша скорей надкусил пирог и поднял его повыше. Но кот протянул длинную лапу, вытащил кусок рыбы, спрыгнул и убежал. А Миша доел остальное и пошёл гулять.
На улице ребятишки бегали взапуски, и Миша тоже стал бегать, а когда пробегал мимо колокольни, то увидел, что дверь приоткрыта, и решил за ней спрятаться. Живо юркнул он внутрь и, понатужившись, захлопнул дверь.
Сразу стало темно и тихо. Он постоял, ожидая, что сейчас прибегут ребятишки искать его, но никто не шёл. Видно, не успели его хватиться.
Глаза понемногу привыкли к темноте, и Миша уже мог различать высокие ступени круто уходящей вверх лестницы. Наверху едва светлеющими полосками намечался четырёхугольный люк.
Миша вскарабкался по лестнице, руками и плечом приподнял люк и очутился на втором ярусе колокольни. Отсюда кверху вели ступени ещё уже и круче первых. Наконец, вскарабкавшись по третьей лестнице, Миша выбрался к колоколам.
После темноты свет показался так ярок, что он на мгновение прищурился, а потом открыл глаза и стал смотреть. Он очень любил смотреть сверху на реку Двину.
Под городом Холмогорами Двина делилась на множество рукавов, и каждый из них имел своё название. У села Матигор, где жили Головины, Двина называлась Матигоркой, дальше встречалась с Куропалкой и переходила в Куростровку. Среди воды зеленели острова. Прямо перед Мишей расстилался низкий Нальё-остров. Сюда ездили на сенокос. А за Нальё-островом Миша смутно различил Куростров.
Оттуда были родом и мать Миши, Марья Васильевна, и её брат, Михайло Васильевич Ломоносов. Но ломоносовский дом отсюда было не видать.
Город Холмогоры лежал налево, на запад, совсем близко.
Двина у города была широкая, у пристани стояли корабли. Вверх и вниз по реке скользили паруса, прямые и косые.
Тут Миша увидел карбас[1]1
Карбас – парусно-гребное судно старинного образца, с палубой. Карбас лёгок, поворотлив на ходу. Распространён на Севере и в наши дни.
[Закрыть], который плыл к Матигорам. Он причалил у высокого берега, и из него вышли пять мужиков и пошли прямо к Мишиному дому. Это было очень странно. Что было делать пяти здоровым мужикам в будний день в чужом доме? Ведь не в гости же они приехали? И Миша, сгорая от любопытства, кубарем скатился вниз, перебежал улицу и влетел в сени.
Сверху из горницы раздавались голоса. Говорили медлительно, с расстановкой. Матушка приговаривала что-то ласково, нараспев. Значит, всё-таки гости.
Миша тихонько поднялся по лестнице, отворил дверь горницы, у порога поклонился и незаметно забрался на печь. Отец был строгий и не любил, чтобы малые ребята без дела толкались средь взрослых людей. С печи всё было хорошо видно.
Матушка расставила угощение на столе, и гости сидели, расстегнув кафтаны, так что видны были новые рубахи. Они вели медлительную беседу.
– …А сам Михайло Васильевич, хоть и профессор академии, и в генеральском чине, и у самой царицы во дворце принят, перед земляками своими не важничает. Встретил он нас на просторном крыльце, как был, по-домашнему, в белой рубахе, в халате. Матрёна Евсеевна сама на погреб за пивом бегала, и Михайло Васильевич до ночи нас угощал…
Матушка пригорюнилась, спросила:
– Как там живётся Матрёшеньке одной, без отца, без матери?
На печи Миша навострил уши. Матрёша была его старшая сестра. Она уже год жила в Петербурге. Миша очень её любил, ловкую, весёлую, с косой ниже пояса, с сильными руками. Бегала она быстрей Миши, плавала дальше, ныряла глубже. Каково-то ей живётся?
– Хорошо живёт в дядином доме, всем довольна. Михайло Васильевич её наравне с родной дочерью держит, и всем хозяйством она у него ведает.
Марья Васильевна заулыбалась, принялась угощать:
– Кушайте, дорогие гости!
– Благодарствуй, Марья Васильевна, мы и так сыты. Привезли мы Михайлу Васильевичу треску да морошку и в закупоренных склянках морскую воду, как он нам прошлый год наказывал. Михайло Васильевич наши подарки принял и много расспрашивал про родные края и про морские плавания. Велел нам опять быть к нему на другой день и в своей карете возил нас в адмиралтейство. Там всё адмиралы и генералы, и он нам приказал при них говорить, и опять нас расспрашивали про морскую воду, и когда-де она замерзает, и много ли льдов в Белом море, и про другие дела. А потом опять повёз нас к себе, и опять угощал, и всё про тебя спрашивал, Марья Васильевна, и про Мишеньку про твоего: как-то мой племянник и крестник растёт, велик ли вырос, понятлив ли?
Гости сидели так долго, что Миша на печи успел проголодаться и с горя задремал. А когда он проснулся, гостей уже не было. Мать с отцом негромко о чём-то беседовали. Матушка утирала слёзы платком. Миша спрыгнул, бросился к ней, но отец прикрикнул:
– Ты чего здесь делаешь? Тебе давно пора спать!
Матушка накормила Мишу, и он ушёл к себе и лёг. А на другое утро в доме начало твориться что-то необычное…
С утра Марья Васильевна пошла в подклеть[2]2
Подклеть – нижнее, нежилое помещение деревянного рубленого дома; использовалась как кладовая или, в зимнее время, как хлев для мелкого скота.
[Закрыть], где хранились сундуки и укладки[3]3
Укладки – коробки, шкатулки, ларчики, в которых хранились вещи и одежда.
[Закрыть]. В подклети было темно, окон не было, свет падал через открытые двери. Марья Васильевна достала холсты, начала перебирать их – одни откладывала, другие убирала и наконец набрала столько свёртков, что едва поместились в руках. На лестнице они рассыпались, и Миша помог подобрать их, а Марья Васильевна жалобно улыбнулась и сказала:
– Это тебе на рубашечки.
Миша удивился, зачем ему на рубашки столько холста, что на целое приданое хватило бы. А Марья Васильевна разложила холсты на столе и принялась кроить. Потом вдруг, бросив холсты неубранными, опять ушла вниз и принесла станок, на котором ткут пояски.
– Почини, Миша. Станочек, без дела лёжа, рассохся. Я тебе поясок вытку.
Миша удивился, зачем ему новый поясок, когда старые ещё хороши, но ничего не сказал и стал чинить. Марья Васильевна села рядом и, сложив руки, смотрела на него. Потом вдруг поднялась и сказала:
– В последний раз мы с тобой так-то вдвоём сидим.
Миша побледнел, услышав страшные слова «в последний раз». То ли матушка больна, то ли сам он заболел и ещё не знает об этом? То ли собрались его женить на чужой, на взрослой девушке, не посмотрев на то, что ему всего восемь лет, раз уж он такой рослый и грамотный? Миша знал немало случаев, когда женили ребят лишь немногим его постарше. Наверное, поэтому и рубашки ему будут шить…
Внизу под горой стояло несколько карбасов, общая собственность деревни. Марья Васильевна и Миша переправились через реку и дальше пошли пешком. Миша очень любил эти долгие прогулки с матерью. Такие у них бывали занятные разговоры, столько вопросов можно было задать и получить на них ответ, а иной раз Марья Васильевна сказывала сказку такую длинную, что и на обратный путь хватало.
Но сегодня она шла молча и её милое лицо было так печально, что Мише стало не по себе. Вдруг она проговорила:
– Недолго тебе быть с нами.
Миша зарыдал. Он представил себе, что уже не матушка будет ласково приказывать, а чужая сердитая девушка будет на него кричать. Чужая семья в далёкой деревне примет его в дом, и будет он вместо батрака выполнять тяжёлую, не по силам работу и есть впроголодь.
– Не плачь, сынок! – воскликнула Марья Васильевна, а сама вытерла глаза рукой. – Чему быть, того не миновать. Мы с отцом долго думали и порешили, что лучше это, чем в море промышлять, плавать в бурю и непогоду, пока не потонешь в холодной пучине, как дедушка твой потонул.
– Маменька, – сквозь слёзы спросил Миша, – кого вы за меня посватали?
Марья Васильевна так удивилась, что слёзы сразу высохли на её щеках.
– Что ты, Мишенька! – сказала она. – У нас этого и в мыслях не было. Да ты же ещё молоденький, рано о женитьбе думать.
– Маменька, а как же Петьку женили двенадцати лет, Ванюшку соседнего – по десятому году…
– Не плачь, чудачок, – сказала Марья Васильевна. – Мы тебя не женим. Женят малолетних, когда ребят в семье много и кормить их нечем, а ты у нас один сын. И ещё женят, когда хотят даровую работницу взять в дом, а я с хозяйством справляюсь. Мы с отцом тебя любим и никогда тебе зла не причиним. Наша разлука ещё не очень скорая, и мне она тяжелей, чем тебе. А тебя ждёт хорошая жизнь, и радость, и всё самое лучшее…
Тут они увидели стоящий на отлёте ломоносовский дом.
Он стоял особняком от других домов и был сложен из тяжёлых неотёсанных брёвен, поседевших от времени и непогоды. Дом был высок – «клеть с амбаром», как называют такие дома в тех местах. Внизу в амбаре не было окон, а в жилой избе редкие и маленькие окошки были прорублены почти под самой крышей, и слюда в них потускнела и подёрнулась паутиной. На сеновал вёл со двора бревенчатый помост-взвоз. Он был чист, словно подметён, ни одного клочка сена на нём не валялось. Давно возы не въезжали, а ветры развеяли последние былинки.
Марья Васильевна и Миша поднялись из пустых сеней по покосившейся, скрипящей под ногами лестнице. Ступив на шаткую ступеньку, Марья Васильевна охнула и сказала:
– Как бы лестница не обрушилась! Обветшала вся. – Но всё-таки пошла дальше.
В темноватой горнице было холодно и тихо.
– Сынок, – сказала Марья Васильевна, – пойди поиграй на солнышке. А я тут проветрю немного.
Она подняла оконце. Ворвался солнечный луч, в нём заплясали пылинки.
Миша сбежал вниз, обогнул дом и очутился на обширном, заросшем сорняком пустыре. Он медленно пошёл вперёд, протаптывая путь среди высоких, по пояс, сухих, прошлогодних трав, пока не увидел у своих ног четырёхугольный пруд.
Этот пруд выкопал ещё дедушка, Василий Дорофеевич Ломоносов, и тогда этот пруд был проточный, а теперь зарос. Дедушка сажал в этот пруд рыбу и, чтобы она не ушла, загородил сток решёткой.
Миша присел на берегу и стал смотреть в воду.
Тёмная и мутная вода слегка зыбилась, а на дне что-то блеснуло, померкло, вновь заблестело и вновь помутилось. Как будто не то двигалось что-то, не то вода шевелила травы, и они скрывали и открывали таинственный, отливающий золотом предмет.
Миша очень хорошо знал, что это всего лишь ржавая решётка, но нарочно представил себе, что это сокровище морского царя, которое он подарил богатырю Садко-новгородцу. Новгородцы плавали далеко и даже добирались до поморья, до Холмогор.
Кто знает, может быть, Садко спрятал свои богатства в этом пруду. Хотя, конечно, тогда ещё здесь не было пруда, и место было пустое, и всё это выдумки.
Миша вздохнул, лёг на живот и стал смотреть на колыхающиеся в воде травы.
«И зачем это нужно сокровище? – подумал он. – Если бы я был Садко, я бы попросил морского царя, чтобы он позволил мне погулять по морскому дну. Я бы там всё как следует рассмотрел. Какие там травы растут на самом дне, и куда солнце уходит, когда оно вечером опускается в воду, и какие ледяные горы споднизу – гладкие или шершавые. Рыбы наловил бы полную пазуху и кита посмотрел бы, какой он чудо-юдо рыба-кит…»
– А я кита видел, – раздался вдруг совсем рядом чей-то хрипловатый голос.
Миша поднял голову и увидел неподалёку под деревом трёх мальчиков. Один был Мишин дружок и приятель, десятилетний Андрейка Шубный, и два других, постарше, незнакомые; Миша застеснялся чужих мальчиков и хотел было спрятаться, но Андрейка уже заметил его и замахал рукой. Миша нерешительно ступил несколько шагов. Тогда Андрейка потянул его за руку и усадил рядом с собой. Незнакомый мальчик, презрительно усмехнувшись, продолжал свой рассказ:
– Я его издалека увидел. Сперва подумал, будто качается на волнах тёмный остров и из чёрной скалы бьёт кверху вода. Струя высоко взвивается и падает вниз, рассыпается брызгами. А это не остров, а рыба-кит. Огромный – страх! Вот не соврать, на спине целую деревню можно выстроить и ещё останется место для выгона – коров пасти. А пасть у него будто ворота тесовые: такой вышины, такой ширины, целый корабль, распустив паруса, может заплыть.
– А ты не врёшь? – спросил второй паренёк и рассмеялся.
– Может, и прибавил маленько, ведь я его не мерил. На него издалека смотреть и то страшно. Подумать, такая громадина, а тоже играет, резвится. Хвостом по воде бьёт, из ноздрей воду кверху мечет…
– Эка невидаль! – небрежно прервал второй. – На кита издалека посмотрел! Мы этих китов промышляли.
– Уж ты промышлял! Тебя там не хватало! – обиженно возразил первый.
– Раз с собой взяли – значит, не хватало. Я могу рассказать, если желаете слушать. Я врать не стану.
– Расскажи! – попросил Андрейка.
– Расскажи! – повторил за ним Миша.
– Выехали мы на промысел в четырёх карбасах. Как подплыли, гарпунщик стал кидать в кита гарпуном… Ты, Андрейка, видал гарпун?
– Каждый день вижу! – гордо ответил Андрейка. – У нас дедушка Фома Иванович был гарпунщиком. У нас на стенке его гарпун висит. Такая палка крепкая, на одном конце у неё крючок острый железный, а к другому концу привязан длинный канат…
– Метнули гарпунщики гарпуны, впились крючки в кита, и как начнёт кит метаться, в воду нырять, а мы за ним мечемся на этом канате. Такое кит волнение поднял, прямо бурю! Бьёт хвостом, рвётся, хочет уплыть. Один карбас у нас волной захлестнуло, перевернуло кверху дном. Люди выбрались, на перевёрнутом дне сидят, будто зайцы на бревне в половодье. А мы им даже помочь не можем, потому что кит как угорелый нас самих по морю мотает. Только кричим им: «Держитесь, братцы!» Потом уж, когда кита убили, сняли их, карбас помогли обратно повернуть. Только вёсла пропали.
– А я… – начал Андрейка.
Но первый парень перебил:
– Китов я, конечно, не промышлял, а в настоящую бурю попал. Не в такую, которую кит хвостом поднял, а в самую настоящую. Вот страх-то был. Унесло нас в открытое море. Волны высокие, выше гор…
– Опять врёшь! – перебил китолов.
– И не вру. Всё это я вовек не забуду! Вынесет нас на верх волны, а потом вниз обрушит. Отец привязал меня ремнями к скамье, чтобы за борт не смыло. После буря улеглась, а нигде берега не видать – унесло нас. Мы замесили ржаную муку в бочке с водой и неделю этим тестом кормились. Оно прокисло, от запаха мутит, а мы едим. Ну, уж когда добрались до становища, тут уж мы хлебушка поели!
– А я… – начал Андрейка.
– А мы другой раз… – перебил китолов.
– Да не мешай ты ему рассказывать, ему тоже рассказать хочется! – крикнул первый парнишка. – Рассказывай, Андрейка.
– Меня отец прошлый год взял на промыслы, – начал Андрейка скромным и тихим голосом. – И нас буря застала далеко от становища. У нас там на мелком месте вёрст на пять был растянут ярус – такая снасть…
– Знаем, – перебил китолов, – верёвки длинные, на якорях укреплены, а к длинным верёвкам короткие привязаны, с крючками, с наживкой…
– С наживкой, – повторил Андрейка. – Я рассказываю, а не ты! У нас уже часть яруса была выбрана, треску с крючков снимаем. Тут ветер поднялся, начало нашу плоскодонку[4]4
Плоскодонка – небольшая неустойчивая лодка.
[Закрыть] кидать. Но мы за ярус ухватились и держимся. Якоря выдержали, мы на них и отстоялись. А трепало так, что чуть о каменную мель не разбило.
– Ми-шень-ка! И-ди сю-да!
Это звала матушка.
Миша вскочил и побежал к ней. Она уже ждала его на пороге, и они пустились в обратный путь. Летом ночи на Севере белые. Солнышко окунётся в реку и, обмывшись, тотчас опять вынырнет. Тем только и отличается ночь ото дня, что всё тихо. Птицы не поют, и люди спят.
В белой сонной реке плескались вёсла. Миша как сел в карбас, сразу задремал.
Дома их встретил отец, сказал как ни в чём не бывало:
– Пока вы ездили, я подрядился доставить соль на Мурман, на промыслы. Завтрашний день уеду и Мишу с собой беру.
Марья Васильевна ахнула и изменилась в лице.
– Мал он ещё, – прошептала она.
– Плавание не опасное, прибрежное. А паренёк на море скорей подрастёт.
«Вот она, разлука! – подумал Миша. – Чего же матушка испугалась? Ведь она раньше знала. А может, не знала и не про эту разлуку шла речь?»…
Большая лодья[5]5
Лодья – большое парусное трёхмачтовое судно.
[Закрыть], на которой ехали отец с Мишей, всё плыла и плыла на северо-запад. Берега становились суровее. Густые ельники сменились скудными болотами, низкими холмами, буграми. Лишь изредка росли на них берёзки, искривлённые ветрами.
Однажды Миша увидел, что за левым бортом клубами стелется белый пар, всё кругом заволакивает густой пеленой.
– Солеварни, – сказал отец. – Отсюда соль повезём на промыслы.
Лодью нагрузили солью и поплыли дальше и наконец пристали к пустынному берегу, где в избушках, кое-как сбитых из корявого леса и обложенных галькой и песком, жили рыбаки.
Миша вскоре со всеми познакомился и подружился, и ему уже не хватало длинного дня, чтобы переделать все свои дела.
Он просыпался оттого, что тёплый предутренний ветерок щекотал ему лицо. Потом бежал к морю смыть сон с глаз и, зажав в руке кусок хлеба, спешил узнать, что сегодня будет.
От берега отчаливала шняка – одномачтовый парусник. Оттуда звали:
– Миша, едем с нами! – И сильные руки, подхватив его поперёк туловища, словно щенка, поднимали на воздух и бережно опускали на скамейку рядом с кормщиком[6]6
Кормщик – рулевой.
[Закрыть].
Иногда шняка шла на вёслах, и, случалось, весельщик давал Мише подержаться за весло: учись, мол, грести. А иногда кормщик протягивал ему конец верёвки, привязанной к рулю, и говорил:
– Помоги править, что без дела сидеть!
Так они доплывали до того места, где был растянут ярус, и тут Миша знал, что друзьям уже не до него, и старался не мешать, а если удастся – и в самом деле помочь.
Начиналась спешная и трудная работа. Кормщик правил, стараясь не зацепить ярус. Весельщик подгребал. Шняка, приплясывая, двигалась толчками вперёд. Рыбаки вытягивали ярус, и на каждом крючке трепетала серебряная рыбина. А Миша старался помочь, подавал наживку, мелкую морскую рыбёшку.
На становище он возвращался облепленный рыбьей чешуёй, гордый и голодный. Ел наскоро, потому что уж ждали новые дела.
– Миша, идём рыбу солить!
Он бежал и помогал солить. Рыбу потрошили тут же на берегу и тугими рядами укладывали в яму, вырытую в песке и выложенную дёрном. На кучи брошенных внутренностей слетались чайки. Хитрые птицы часами качались на волне, ждали улова, чтобы потом жадной стаей накинуться на корм.
Поздним вечером Миша снова шёл навестить друзей. Суровые, усталые рыбаки подвигались, чтобы дать ему место, и говорили:
– Здравствуй, ласковый, желанный наш! – и просили: – Спой нам или стих скажи.
Под гул моря и крики дерущихся чаек Миша говорил:
– Я прочту вам стихи. Это сочинил Михайло Васильевич Ломоносов:
Когда по глубине неверной
К неведомым брегам пловец
Спешит по дальности безмерной;
И не является конец;
Прилежно смотрит птиц полёты,
В воде и в воздухе приметы…
В конце августа Миша вернулся домой с промыслов. Марья Васильевна обняла его, удивляясь его росту и силе:
– В дядюшку ты пошёл, в Михайлу Васильевича, такой же статный и высокий.
Через несколько дней Марья Васильевна сказала Мише:
– Поедем на Куростров, с Шубными прощаться.
– Как же прощаться? – спросил Миша. – А ты не ошиблась, маменька? Ведь я только что приехал. Значит, здороваться?
– Вижу я, сынок, ты уже совсем большой стал, если смеешь задавать матери вопросы, – сурово сказала Марья Васильевна, и Миша смущённо замолчал.
Когда они сели в карбас, Миша попросил:
– Маменька, зачем тебе грести? Меня теперь весельщики обучили.

Но мать ответила:
– Не так ты ещё велик, чтоб я тебе вёсла доверила.
У Шубных их встретили радостно. Все были дома: и старик Фома Иванович, и его племянник Иван Афанасьевич с вдовой матерью Евфимией, с сыновьями, с замужней дочкой.
– Ой, гости дорогие, чем мне вас угощать? – приговаривала бабушка Евфимия, в то время как дочь, невестка и племянница бегали взад и вперёд, неся блюда, миски и кувшины. – Не чаяла я, что сегодня вас увижу. Недаром кошка с утра умывалась и хвост у ней на юг указывал. Куда хвост, оттуда и гость. Надо бы мне, глупой старухе, тут же с утра тесто поставить, пирогов напечь…
Между тем стол был уже накрыт и заставлен обильной едой. На самой середине стояла резная из кости солоница, которую в бытность дома выточил Федот Иванович, младший сын Ивана Афанасьевича. Теперь он уже несколько лет жил в Петербурге.
– Мы тоже хотим по первому снегу послать Мишу в Петербург, в ученье, – сказала Марья Васильевна.
Миша в углу горницы хвастался перед Андрейкой своей силой. Услышав матушкины слова, он ахнул так громко, что все обернулись. Не обращая ни на кого внимания, он бросился к матери и схватился за её сарафан. Марья Васильевна погладила его по голове, но посмотрела строго. Он тотчас присмирел.
– В ученье? Это хорошо! – сказал Фома Иванович. – Превзойдёт там все науки.
– Он у нас уже учён! – похвасталась Марья Васильевна. – Чему могли, всему дома обучили, а дальше и сами не знаем. В Холмогоры в школу отдать бы его, да туда не примут. Все знают: не поповский он сын, а крестьянский. Хоть мы государственные крестьяне, а не барские, не крепостные, всё равно не возьмут. А Михайло Васильевич обещался в Петербурге всему его обучить.
– Ни мы, ни деды наши в школы не ходили, – заговорила бабушка Евфимия. – Наукам не учёны, а живём хорошо, богато. Рыбой, солью промышляем, корабли водим. Чего лучше? А псалтырь читать без школы обучится.
Марья Васильевна не посмела спорить с почтенной старухой, только вздохнула и сказала:
– Он у нас по псалтыри бойко говорит, и писать может, и стихи знает наизусть.
– Стихи знает? Это хорошо, – сказал Фома Иванович. – Скажи, скажи стих! Да погромче, да поотчётливей, пусть и бабушка Евфимия послушает, а то она у нас глуховата стала. – И сам, приложив руку к уху, подвинулся поближе.
Миша растерянно посмотрел на мать, но она шепнула ему:
– Читай, не бойся!
Миша вышел на середину горницы, одёрнул рубашку и, крепко держась руками за поясок, начал:
Науки юношей питают,
Отраду старцам подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Тут он запнулся, набрал дыхание и скороговоркой закончил:
Науки пользуют везде —
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.
– «В покое сладки и в труде». Это хорошо! – сказал Фома Иванович. – Это правильные стихи. Учёный человек нигде не пропадёт, и всем людям он полезен и приятен. Так-то, бабушка Евфимия! А откуда же эти стихи будут?
– Это дяденьки Михайла Васильевича Ломоносова сочинение, – важно ответил Миша.
– А я Михайла Васильевича грамоте обучал, – заговорил Иван Афанасьевич. – Сам-то я с малолетства писать умел, крупно да старательно. Меня иной раз и взрослые мужики звали вместо них в бумагах расписываться. А Михайло Васильевич с отцом на море ходил много раз, а грамоты не знал. Но когда захотел обучиться, то обучился у меня в короткое время совершенно. Охоч был книги читать и притом имел природную глубокую память.
– Глубокую память? Это хорошо, – заговорил Фома Иванович. – А у меня память с чего-то плоха стала. Что вчера было или в прошлом году, того я совсем помнить не стал.
– Год сейчас тысяча семьсот шестьдесят четвёртый, – сказал Иван Афанасьевич, – а месяц кончается август…
– Месяц-то я знаю, – перебил Фома Иванович, – нечего над дядей подшучивать! А годы считать я и вправду забыл. Уж очень много их прожил. Вот, что раньше было, то я всё хорошо помню. Помню, как Михайло Васильевич из отцова дома ушёл в Москву. Я ему сам в том помог…
– Твой дедушка, Мишенька, а наш сосед, Василий Дорофеевич Ломоносов, – начал Фома Иванович свой рассказ, – был к сиротам милостив, с соседями обходителен, только грамоте не учён. Как умерла его жена, матушка Михайла Васильевича, он другой раз женился. А как та жена тоже вскорости померла, он взял за себя третью, Ирину Семёновну, твою бабушку. Всем бы она хороша была, но невзлюбила пасынка. Не по нраву ей пришлось, что он ученью больше был предан, чем хозяйству, что за книгами сидит, а в дому от этого занятия прибыли не видать. И теперь из женского полу многие так считают, а в те времена и подавно, и винить её не приходится.
Стала она возбуждать в Василии Дорофеевиче гнев против сына. От криков и попрёков прятался Михайло и в подклети и на повети[7]7
Поветь – крыша нежилого строения, скотного двора, хлева; здесь: крыша над всем двором.
[Закрыть]. По целым дням сидел за книгами не евши, лишь бы в дом не возвращаться.
А зимой сколько раз видал я на задворках одинокий след! Спрячется, сердечный, где-нибудь подальше от людей. Сидит в амбаре и окоченелыми пальцами страницы перевёртывает.
Тут надумал его отец женить; дескать, женится – переменится. Сговорил за него хорошего отца дочь.
Но Михайло Васильевич не хотел жениться, и стала ему жизнь в отцовском доме непереносима. Кроме того, слыхал он от людей, что учёные книги все по-латыни пишутся, а латыни обучиться ближе Москвы негде.
Михайло Васильевич пришёл к нам за советом, говорит:
«Я отцу в ноги падал, просил меня отпустить учиться добром – он не соглашается. Я решил, потайно уйду».
Я ему говорю:
«Как ты уйдёшь, Михайло, без паспорта да без денег? Тебя, беспаспортного, на Москве поймают и будут на площади палками бить, будто беглого. Одумайся!»
А Михайло Васильевич говорит:
«Я на всё согласен и всякое мученье приму, такая во мне охота к наукам».
Тут, видя его упорство, обещался я ему помочь. У меня в Холмогорах был знакомец, который этими делами ведал. Я с ним поговорил, и он согласился выдать Михайлу Васильевичу паспорт, что он отпущен в Москву сроком на год.
Дал я Михайлу Васильевичу паспорт, дал ему новое полукафтанье, чтобы было в чём в Москве ходить, и ещё заимообразно три рубля денег. Деньги немалые. Если зря не тратить, на них бы ему полгода пропитаться можно.
Сделал я это и жду, что дальше будет. А ничего нет. Каждое утро просыпаюсь, думаю: «Ночью не ушёл ли?» Нет, не ушёл. Сколько-то дней протекло, а тут из нашего села отправлялся на Москву обоз с рыбой. Все люди вышли на улицу провожать. Смотрю – и Михайло Васильевич здесь. Я его тихонько спрашиваю:
«Вот бы тебе попутчики?»
Ничего он не ответил. Обоз ушёл. Михайло Васильевич как ни в чём не бывало домой воротился. Я нарочно мимо прошёл, вижу, во дворе дрова колет, на меня и не глядит, будто и не брал у меня паспорта и денег.
Сон у меня всегда был короткий. Бывало, все спать лягут, а я по горнице брожу или во двор выйду, посмотрю на небо, на звёзды: какова завтра погода будет?
Вот заснули все, и у Ломоносовых тоже, вижу, огни погашены. Вышел я во двор, хожу взад-вперёд, под валенками снег поскрипывает. И почудилось мне, будто не я один шагаю, а ещё чьи-то шаги слышу. Я остановился, а скрип громче. И вдруг передо мной Михайло Васильевич.
«Ухожу я, – говорит. – Прощай, Фома Иванович! Спасибо тебе, вовек не забуду».
«Прощай, Михайло, – говорю. – Как же ты идёшь? И котомки у тебя не видать».
«Всё моё при мне, – отвечает. – Две рубахи надеты и нагольный тулуп и две книжки любимые за пазухой».
Обнялись мы с ним, простились, и он ушёл. Вот, слышу, скрипит снег, скрипит всё тише, и вовсе ничего слыхать не стало…
– Дедушка, а он догнал обоз? – спросил Андрейка, когда Фома Иванович замолчал.
– Догнал, милый. На третий день догнал, да приказчик отказался взять с собой. Другой бы обратно воротился, а Михайло Васильевич дождался другого обоза и с ним уже пошёл в Москву.
– Каково ему, сердечному, было от родного дома, от отцова хозяйства столько вёрст за санями по морозу вышагивать! – сказала, горестно вздохнув, бабушка Евфимия.
– А я тоже так пошагаю? – испуганно спросил Миша. – За санями по морозу?
– По морозу – это хорошо! – сказал Фома Иванович. – Морозец, он бодрит. Лишь бы валенки целые были. Я сам моложе был, сколько вёрст отшагал.
– Маменька, а у меня валенки целые? – спросил Миша. – Прошлогодние-то я проносил, помнишь?
– Да что ты, Фома Иванович, что ты, Мишенька! Разве мы с отцом тебя так отпустим? С отцовского согласия парнишка едет, а не против его воли. И я небось ему родная мать, а не мачеха. Нет, как санный путь станет, пойдёт в Петербург обоз с рыбой. А поведёт его хороший человек, Евсею Фёдоровичу давнишний знакомый, Иван Макарыч. Уж мы с ним договорились, и он обещает Мишеньку доставить и сдать Михайлу Васильевичу на руки в целости.
– В целости – это хорошо! – сказал Фома Иванович, и все засмеялись.
– Марья Васильевна, уже весь обоз прошёл, одни наши обшевни остались, – сказал Иван Макарович и, ловко обхватив Мишу, поднёс его к матери, чтобы она могла его благословить. – Долгие проводы – лишние слёзы.
Заплаканный Миша обеими руками ухватился за мать и не мог оторваться.
– Марья Васильевна, прощайся, пора! – повторил Иван Макарович.
– Прощай, Мишенька. Будь хорошим! – проговорила Марья Васильевна.
– Прощай, сынок! – сказал отец.
Иван Макарович усадил Мишу в обшевни, хлестнул лошадей, обшевни повернули, и родители скрылись с Мишиных глаз. Миша свернулся комочком и застыл молча, только иногда вздрагивал.
Иван Макарович бежал рядом, погоняя лошадей и изредка поглядывая на Мишу. Когда выехали за околицу и догнали обоз, он прыгнул в обшевни, достал из-за пазухи кусок пирога и сунул его Мише.
– Может, покушаешь?
Но Миша дёрнул плечом, не подымая головы.
Прошло несколько времени, и Иван Макарович сказал:
– Смотри, Мишенька, сполохи играют.
– А пусть, – ответил Миша.
– Я бы на твоём месте посмотрел. Подыми голову-то. Может, таких и не увидишь больше. Вот приедешь в Петербург, Михайло Васильевич спросит: «Сполохи видал?» А ты ответишь: «А пусть». Это ему не понравится.
– Почему? – спросил Миша и поднял голову.
– А как же? Он сам до чего на них смотреть любил! Как разгорится сияние, он выбежит из дому, ляжет наземь, на спину и неотрывно на него глядит. Как уж потухнет свет, а Михайло Васильевич всё ещё лежит и смотрит. Растолкают его, растормошат, он очнётся, подымется, уйдёт в дом… Смотри, Миша, уж зори отыграли, стали лучи раскидывать.
Миша поднялся и посмотрел на небо. По всему небу бежали молочно-белые лучи. Они становились всё ярче, краснели, зеленели, и радужные столбы заиграли, сдвигаясь и раздвигаясь, наливаясь багрянцем. Потом замерцали, словно задышали, бледнея и вспыхивая, и погасли.
Миша вздохнул и прошептал:
– Мне есть захотелось! Ты давеча говорил…
– Поешь, поешь! – поспешно ответил Иван Макарович и сунул ему пирог. – Вот приедем на ночлег, щи с рыбой есть будем, жирные.
Миша поел, утёрся и спросил:
– Зачем Михайлу Васильевичу сполохи нужны?