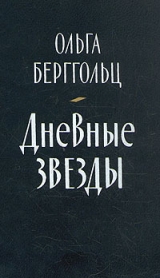
Текст книги "Говорит Ленинград"
Автор книги: Ольга Берггольц
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Хозяйка Ленинграда
Дорогие ленинградки!
Сегодня – наш женский день. Мы отмечаем свой праздник особо: в дни, когда каждый вечер жадно ловим голос Москвы, сообщающий сводку последнего часа, и бросаемся затем к нашим картам (в какой ленинградской квартире нет теперь карты?), чтобы отыскать название того русского городка, который снова стал нашим.
Мы встречаем 8 марта 1943 года как матери, жены, сестры и невесты побеждающейАрмии, которая в упорных и тяжелых боях идет по русской земле к западным ее границам.
Они идут вперед, милые наши, давно ушедшие из дому, давно не виданные сыновья, мужья, братья. Им трудно, они пробиваются сквозь ржевскую пургу, сквозь весеннюю распутицу и ветры украинских степей, идут по железобетонной земле около Ленинграда; да будет с ними вся наша любовь – они идут вперед.
В эти дни отрадно знать, что мы, ленинградские женщины, являемся активными бойцами, уже имеющими огромный воинский опыт. Наши руки, наше сознание, наши сердца приобрели этот опыт в небывалом бою за свой родной город.
А ведь еще недавно немцы, штурмуя Ленинград, подвергая его ужасам блокады и воображая, что все это заставит ленинградцев сдаться, – осмеливались прежде всего рассчитывать на нас, женщин! Они ведь даже особые листовки писали и сбрасывали их в город – специально для ленинградских женщин. Да, да, двуногий скот, вообще не считающий женщину за человека, а тем более – русскую женщину, воображал, что мы окажемся слабее, боязливее мужчин и дрогнем первыми и, в страхе за себя и своих детей, откроем ему ворота города. Немец так и писал: «Женщины! Требуйте хлеба и объявления Ленинграда открытым городом. Саботируйте работы на оборону. Она несет вам гибель…» Но не страхом, а презрением к врагу исполнились сердца ленинградок, утроив, удесятерив их силы – физические и моральные, и женщина вместе с Армией спасла свой город, сохранила ему жизнь.
Благодарная память народа навсегда сохранит рядом с образом комсомолки Веры Чертиловой, поднявшей в атаку роту моряков, образ любой безымянной ленинградки, ведущей под руку ослабевшего мужчину по зимним улицам Ленинграда. Ведь эта женщина тоже шла в атаку. Ведь ленинградка была бойцом везде – и в ледяной комнате у печурки за стряпней обеда, и на огородах, и на крыше своего города. Все, что делала и делает ленинградка, есть невиданное еще в мире сражение за самые основы человеческой жизни.
Всеобщее, извечное, священнейшее чувство на земле – чувство материнской любви – ленинградка обогатила новым смыслом и глубиною. Специальные пытки придумывал немец для ленинградских матерей, чтобы заставить их сдаться: он пытал их жалостью к своим детям и близким. Ведь женщине всего тяжелей не свои собственные страдания и лишения, а страдания ее детей и близких. И сколько было в Ленинграде таких дней, когда мы ничем не могли помочь своим детям, ничем, как бы мы ни хотели. А палач-немец рычал в это время: «Сдавайся, женщина, покорись, перестань защищаться, и дети и близкие твои останутся живы…»
Но наша материнская любовь – это не слепая, животная привязанность к своим детенышам. Мы любим своих детей так страстно, что хотим, чтобы они были не только живы, но и свободны, чтоб они гордились собой, а не влачили существование забитыми батраками у немецких лавочников. И во имя этого мы вместе со своими детьми шли на все и даже на смерть, если было необходимо.
Я получила в июле прошлого года письмо от одной ленинградки-фронтовички, Елены Чижовой. Она писала в этом письме:
«Я потеряла сына, убитого на фронте, куда мы ушли вместе по призыву товарища Сталина. Я горда тем, что сын погиб, спасая друга, сражаясь за Родину…»
Только мы, женщины, знаем, что это значит – потерять свое дитя. Так какое же величие души надо иметь, как надо любить своего сына, чтобы такпереносить его гибель!
Немец ждал, что утраты сломят нас духовно, заставят бессильно опустить руки. Нет! Женщины приняли на себя труд еще больший – в память погибших, во имя живущих.
Ленинградка Слатвинская пишет из далекого колхоза Кировской области, где она работает сейчас председателем правления колхоза:
«…И у меня в январе погибло в Ленинграде самое дорогое для меня существо, которому нет забвения и замены. Но жизнь во имя его, жизнь ради мести за него, ради спасения тысячи таких же, как он, помогает мне превозмочь боль и работать, работать, работать, выращивая ваш хлеб насущный ленинградский…»
Мы так любим своих детей и близких, что даже можем жить после их гибели с удвоенной силой – за себя и за них, ради таких, как они.
Немец разорил дом ленинградки, разметал ее семью, многих женщин оставил без семьи совсем. Но, хозяйка и семьянинка, ленинградка создала новую семью, огромную, такую, где подчас не все члены ее знают в лицо друг друга. Она превратила в одну большую семью весь Ленинград. Так чувство материнства расширило свои права безгранично.
Ленинградка Качановская пишет:
«Для нас, матерей, все дети – нашидети, – пусть это будет трехлетний ребенок или двадцатилетний юноша. А мать – это само трудолюбие, выносливость, это ненасытность в изобретениях для любимого детища…»
Мысль Качановской подтверждается письмом другой ленинградки – Веры Ч. (она просила меня не называть ее фамилии):
«Я тоже жила в большой и дружной семье. Все это отняла у меня война. Но я ни одного дня не чувствовала себя одинокой. Я работала в госпитале, помогала, чем могла, знакомым. Одну приятельницу сестры мне удалось в январе прошлого года вырвать из когтей смерти. И, несмотря на большие трудности, я черпала в заботе о других силу и энергию для тяжелой борьбы. А вот теперь у меня завязалась интересная переписка с бойцами Ленинградского фронта. Я решила поздравить по радио своих друзей-фронтовиков с Новым годом. И вот после этого я стала получать массу писем от совершенно незнакомых мне бойцов. В большинстве это бойцы, у которых родные остались в фашистском плену и им никто не пишет. Со многими у меня завязалась самая теплая и дружеская переписка. И я счастлива, что мои несколько строк могут поднять дух бойца и звать его к новым победам».
Так оставшиеся без семьи Вера и бойцы создали новую, необычную семью. Общее горе и общая борьба породнили их крепче, чем может роднить кровь.
В Ленинграде, как и во всей стране, женщины заменили ушедших на фронт мужчин решительно во всех областях труда. Больше того – женщины встали рядом с мужчинами, как равные, и в армии, и на флоте. Но самое главное в том, что прежде всего, везде и всюду они остались женщинами – матерями, сестрами, дочерьми, подругами: ведь без женской заботы, любви и ласки народ не может ни жить, ни – тем более – воевать… Ведь мы-то сами, товарищи женщины, знаем, что нас заменить некому и некем…
И вот вечные, незаменимые женские качества – выносливость, самоотреченность, любовь – особенно ярко засияли в ленинградках, в женщинах того города, на долю которого досталось столько горя. Вспомним хотя бы, что в бытовых комсомольских отрядах, спасших жизнь десяткам тысяч ленинградцев, были только одни девушки и женщины.
Много тяжкого вынесла ленинградка в борьбе за свой город. Но она не прокляла его, а полюбила с обновленной силой: так любит мать свое дитя, рожденное ею в муке.
«Я счастлива тем, что я ленинградка, – пишет Нина Алексеевна Ситникова, пожарник Ленэнерго, – что небольшая доля и моей работы вложена в оборону нашего красавца города. Своей кровью, будучи донором, я также стараюсь принести пользу нашим доблестным воинам».
В своем приказе к двадцатипятилетию Красной Армии Верховный Главнокомандующий говорит: борьба с немецкими захватчиками еще не кончена, она только разгорается. Эта борьба потребует времени, жертв, напряжения сил и мобилизации всех наших возможностей.
Так говорит Верховный Главнокомандующий, обращаясь к Армии, призывая ее к окончательной победе.
Но мы знаем, что этим приказом Сталин обращается не только к Армии, но и к нам, женщинам.
Мы знаем также, что означают для нас слова: «жертвы», «напряжение сил», «мобилизация всех возможностей»… Уж очень много приняло и вынесло женское сердце за время войны, и тебе, хозяйка города-фронта ленинградка, известно это лучше других. Но, все израненное и обожженное, сердце твое готово принять все, что предстоит, во имя полной победы…
Еще тебе такие песни сложат,
так воспоют твой облик и дела,
что ты, наверно, скажешь: – Не похоже.
Я проще, я угрюмее была.
Мне часто было страшно и тоскливо,
меня томил войны кровавый путь,
я не мечтала даже стать счастливой,
мне одного хотелось – отдохнуть…
Да, отдохнуть ото всего на свете:
от поисков тепла, жилья, еды,
от жалости к моим исчахшим детям,
от вечного предчувствия беды,
от страха за того, кто мне не пишет
(увижу ли его когда-нибудь?),
от свиста бомб над беззащитной крышей,
от мужества и гнева отдохнуть.
Но я в печальном городе осталась
хозяйкой и служанкой – для того,
чтобы сберечь тепло и жизнь его.
И я жила, преодолев усталость.
Я даже пела иногда. Трудилась.
С людьми делилась солью и водой.
Я плакала, когда могла. Бранилась
с моей соседкой. Бредила едой.
И день за днем лицо мое темнело,
седины появились на висках.
Зато, привычная уже к любому делу,
почти железной сделалась рука.
Смотри – как цепки пальцы и грубы!
Я рвы на ближних подступах копала,
сколачивала жесткие гробы
и малым детям раны бинтовала.
И не проходят даром эти дни,
неистребим свинцовый их осадок:
сама печаль, сама война глядит
познавшими глазами ленинградок.
Зачем же ты меня изобразил
такой отважной и такой прекрасной,
как женщину в расцвете лучших сил,
с улыбкой горделивою и ясной?
Но не приняв суровых укоризн,
художник скажет с гордостью, с отрадой:
– Затем, что ты – сама Любовь и Жизнь,
Бесстрашие и Слава Ленинграда!
8 марта 1943
Лето сорок третьего года
(Письмо за кольцо)
В конце августа Ленинград отметит два года своего сопротивления, два года жизни во вражеской осаде.
Для нас, ленинградцев, не покидавших город с начала войны, это не просто два года: каждый месяц из этих двух лет разительно не похож на другой. Больше того – начало и конец ноября сорок первого года – это два совершенно разных периода в жизни города; за три месяца зимы сорок первого – сорок второго года каждый из нас пережил, перечувствовал и познал столько, сколько не смог бы пережить за всю свою жизнь. Весна сорок второго и весна этого года лежат как бы в разных эпохах.
Мы встретили весну сорок второго года с удивлением и недоверием: как, неужели в нашем городе вновь появятся листья и трава, вновь будет светло и тепло? До конца мая из подъездов промерзших насквозь домов несло смертным холодом. Еще и в июне многие из нас ходили в шубах и теплых шапках – мы всё не могли согреться. На первом – после той страшной зимы – концерте, пятого апреля сорок второго года, у людей, совершенно переставших плакать даже над самыми горькими утратами, впервые появились слезы на глазах при виде музыкантов не в ватниках, а в пиджаках, со скрипками в руках.
Так было весной прошлого, сорок второго года.
Весну этого года мы встретили с радостью, но без удивления.
Мы вовремя сменили шубы на демисезонные пальто. Уже никто, как то случалось в прошлом году, не съел тут же, в магазине, семян репы или моркови, выданных для посевов. На солнечной стороне Невского, на ступеньках подъездов и ящиках с песком не сидели цинготники, грея опухшие ноги с черными пятнами на коже; цинга была побеждена почти совсем. Никто не аплодировал проходящему трамваю, никто не плакал от счастья перед афишей с репертуаром театров и кино: все это и многое-многое другое, даже электричество в жилых домах, даже прохладительные напитки в киосках, вновь стало делом обыденным.
Быть может, никто, кроме нас самих, не поймет, какая это огромная победа и что она означает. Ведь враг все так же близок, как два года назад, и еще ожесточеннее стремится убить жизнь города.
Поэтому любая деятельность в Ленинграде есть деятельность военная, есть сражение.
Я в Ленинграде с начала войны; я, как и девяносто процентов ленинградцев, ни разу не видела «живого немца». Тем не менее я, как и все другие, нахожусь в состоянии ежедневной борьбы с ним.
Это безмолвная, ожесточенная, изнурительная борьба. Она изнурительна особенно потому, что это борьба с врагом-невидимкой. Невидимый мне, в сотни раз более сильный, чем я, женщина и горожанка, враг ежедневно посылает в город сотни, а то и тысячи снарядов, стремясь лишить меня дома, кровля которого и без того уже пробита десятками осколков, а стекла в окнах выбиты. Враг-невидимка ежедневно разрушает трамвайные пути, заставляя меня делать длинные концы пешком; он портит осветительную и телефонную сети, разъединяет меня с внешним миром, оставляет во мраке. Печь моя начинает внезапно дымить, потому что в трубу попал осколок; вместо того чтобы просто повернуть водопроводный кран, мне нужно идти за водой с ведром в соседний двор и тащить ее к себе на пятый этаж. Я иду в магазин, но враг-невидимка перед самым моим носом захлопывает дверь магазина: началась воздушная тревога. Когда она кончится? Будет ли цел мой дом или, вернувшись из лавки, вместо него я увижу груду развалин? Вечером я сажусь за мой письменный стол: назойливо, уныло свистят снаряды, мешая сосредоточиться, и я слышу, как хрустят стены города – враг ломает мой прекрасный город, увечит его. Нет ничего печальнее и душераздирающее этих звуков.
И все это ежедневно, и все это – уже третий год.
Один известный ленинградский врач говорил мне, что этой весной в Ленинграде зарегистрирована новая, специфическая для города болезнь, дающая довольно большое количество смертельных исходов – по крайней мере каждый третий из умирающих в Ленинграде умирает именно от этой болезни. Врачи называют эту болезнь «последствием замедленной бомбежки». Это особого рода гипертония – повышенное кровяное давление, которое образуется от непрерывного нервного напряжения – результата непрерывных обстрелов и бомбежек.
Человек внешне может почти совершенно не реагировать на обстрел и бомбежки, он может отлично «держать себя в руках», но нервы его живут независимо от его духа, и больше того: чем лучше человек «держит себя в руках», чем напряженней и спокойнее трудится он, тем больше шансов у его нервов и кровеносных сосудов прийти в негодность. Мужество ленинградцев, восхищающее весь мир, полнокровная трудовая и интеллектуальная жизнь города не обходятся даром. Цена этого – здоровье горожан. Цена обороны города – его кровь.
Эти весна и лето ознаменованы особенно свирепыми артиллерийскими обстрелами. Трагичен был для нас день Первого мая. Немец бил по городу с утра, и варварский этот обстрел был, видимо, продуман. Враг направлял в течение пяти-шести минут ураганный огонь по самым оживленным участкам и затем на час, на сорок пять минут затихал. Полная тишина, люди понемногу начинали приходить в себя, и вдруг снова шквальный огонь, десятки снарядов, и опять тишина – минут на сорок пять, и снова залпы, – и так весь день. Я была свидетельницей того, как на углу Невского и Садовой на трамвайных остановках упало пять фугасных снарядов и, как подкошенные, свалились десятки людей – женщины, дети, старики. Одна девочка запомнилась мне особенно: она бегала вдоль тротуара, скользя по крови, и переворачивала упавших ничком с криком: «Мама! Мама!» Она искала мать. Пять минут назад, нарядная и веселая, она шла с мамой в кино.
Вечером мы шли по тому же самому тротуару в здание Публичной библиотеки, в гости к друзьям, и было страшно ступать по асфальту, несколько часов назад багровому от человеческой крови. У всех нас, собравшихся провести вместе праздничный вечер, было тяжелое настроение. Мы выпили выданное к празднику вино, попросили приятельницу сыграть «Ирландскую застольную» Бетховена, спели эту песню, любимую в Ленинграде, так же как и на многих других фронтах. Но ни вино, ни музыка не смогли в тот вечер заглушить терзающее чувство скорби о погибших согражданах.
Тем не менее в городе, который ежедневно несет жертвы, никто не чувствует себя смертником, ни у кого нет чувства обреченности. Стремление к самым обычным удобствам и радостям характерно для нас. Так, какой-то обновленной любовью полюбили мы свои жилища – не потому ли, что враг все время стремится отнять их у нас? Этой весной ленинградцы особенно рьяно благоустраивали свои квартиры. Зима сорок первого – сорок второго года заставила многих покинуть свои дома и собраться в общежития в своих учреждениях. Но этой весной мы стали возвращаться в свои квартиры.
Мы состязались друг с другом в стремлении сделать наши жилища как можно удобнее, красивей и уютнее. Неважно, надолго ли это… Конечно, все приходилось делать своими руками, но это никого не смущало.
Мы не только обороняем наш город – мы заботливо бережем красоту его, конечно насколько возможно.
Этим летом в саду напротив Адмиралтейства вновь забил любимый ленинградцами фонтан. Хотя статуи вокруг него изранены: пробита осколком щека бронзового Лермонтова, изувечена шея Пржевальского, – но фонтан сверкает и журчит, радуя глаз так же, как цветы в Екатерининском садике и в саду Дворца пионеров.
Между тем каждый свободный клочок городской земли использован под грядки: гряды на Марсовом поле, возле исторических могил Жертв Революции; гряды на склонах Лебяжьей канавки; гряды прямо на улицах, даже во дворах.
Почти каждый житель города стал теперь земледельцем; на рынках уже появились молодой картофель, капуста, морковь. Надо сказать, что ленинградские рынки – особые: здесь не столько торгуют и покупают, сколько обмениваются продуктами. По-прежнему хлеб является основным эквивалентом всех ценностей, и на хлеб обменивается все остальное.
Вы спрашиваете, сколько стоит картофель, – вам отвечают: «грамм за грамм» или «сто за пятьдесят». Это значит, что за один грамм хлеба вы можете получить столько же картошки или свеклы или сто граммов капусты за пятьдесят граммов хлеба. Никто не ответит вам: «килограмм за килограмм» – в осажденном городе счет продуктам ведется все еще на граммы.
Но у ворот рынка, где всегда стоят несколько старух с букетами полевых цветов, та же женщина, которая только что отдала часть своего хлеба за молоко для детей, останавливается и совсем уже за крошечный ломтик покупает большой букет ромашки или колокольчиков и несет его, нередко под обстрелом, к себе домой, чтобы украсить свою комнату. Эти цветы собраны где-то на окраинах города, на передней линии фронта; они напоминают осажденному горожанину о том, что уже третий год отнято у него, – о русских полевых просторах, лугах и лесах, о простой, неспешной мирной жизни. Напоминают и обещают, что она когда-нибудь вернется… А без веры в это нельзя жить и бороться, особенно в Ленинграде…
Август 1943
Наш комсомол
Сегодня хороший день, товарищи, – день рождения комсомола.
Двадцать пять лет, целые четверть века стукнуло нашему комсомолу – моему и вашему комсомолу! Я ревниво не хочу уступать этот праздник только той молодежи, которая состоит в комсомоле сейчас. Нет, это не только ее праздник – это нашпраздник, общий, праздник всего народа. Потому что – ну кто же из нас, товарищи, не был в комсомоле? Если крикнуть сейчас: «Воспитанники комсомола, встаньте!» – встанут миллионы людей, и кого только среди них не будет: будут боевые генералы, матери больших семейств, известнейшие изобретатели, директора, артисты, рядовые бойцы… Иные расстались с комсомольским билетом уже давно, другие – как, например, я и мои сверстники – недавно, года два-три назад.
Я прошу извинить меня за это хвастовство, но именно сегодня мне очень хочется похвастаться, что я недавно была в комсомоле. Не будем скрывать, что многие из нас, бывших комсомольцев, стали не в переносном, а в буквальном смысле слова старымикомсомольцами, то есть седыми, почтенными людьми, отцами и матерями взрослых детей, а некоторые, может быть, даже уже и… дедушками и бабушками. Ну, внуки у них, наверное, еще маленькие, но все же… Ничего не поделаешь, товарищи старые комсомольцы, как уже установлено – время идет…
И все-таки праздник комсомола, его юбилей – это и наш праздник. Мы сдали свои комсомольские билеты, мы стали совсем зрелыми и взрослыми людьми, а наша молодость, наша комсомольская пылкая молодость осталась с нами, в нас. Да, да, я говорю правильно. Я имею в виду молодость как нечто неистребимо комсомольское, то, что называют обычно «комсомольской закваской». И она-то осталась в нас, во всех бывших комсомольцах. Эта чудесная закваска бродит в нас, не дает нам стареть душой, и вот потому-то мы сегодня не вспоминаеммолодость, а празднуемее вместе со всеми сегодняшними комсомольцами.
У нас нет никакой старческой зависти к нашей молодежи, никакого разрыва с ней, никакого непонимания, как то обычно было между отцами и детьми раньше, хотя сегодняшняя молодежь во многом не похожа на нас.
У нас все время, все двадцать шесть лет, один путь, одни идеалы. И именно поэтому завоевания и победы комсомола близки нам как свои собственные, и ощущение, что комсомол – нашаорганизация, не покидало нас никогда, и никогда не оставляло чувство заботы и иногда даже тревоги за судьбы и пути комсомольской организации.
Так, незадолго до войны мне, как и многим из вас, казалось, что нынешние комсомольцы слишком просто относятся к комсомолу, к своему членству в нем… Очень уж легко доставался им нашкомсомол по сравнению со старшим поколением комсомольцев – эпохи гражданской войны – и даже нами – комсомольцами первой пятилетки. Очень уж просто и беззаботно жили наши предвоенные комсомольцы. Страна, уверенно идущая к богатству, с материнской, подчас чрезмерной щедростью баловала своих детей и юношество: все так и плыло им в руки – и образование, общее и профессиональное, и заработки, и широчайший выбор работы и искусства, дворцы, стадионы, театры, великолепный отдых – да, все, все! Это было отлично, но в этом таилась и некоторая опасность, что юношество наше изнежится и в жестокий час испытаний эта изнеженность даст знать о себе.
Но когда наступила война, когда встал вопрос о жизни и смерти народа – с облика комсомола быстро исчез налет «довоенного» благодушия, кажущейся беспечности. И юноши и девушки, носящие звание члена Коммунистического Союза Молодежи, проявили себя так, что мы имеем право гордиться ими перед лицом всего мира. И особенно имеем право гордиться ими мы – все бывшие комсомольцы. В тягчайшей и справедливейшей войне нашей комсомол не только не посрамил знамен, переданных ему всеми предшествующими поколениями комсомольцев, не только не растерял славных традиций, но покрыл комсомольские знамена новой нетленной славой, умножил прекрасные комсомольские традиции.
Незабвенен облик комсомольцев эпохи гражданской войны, облик комсомольцев – строителей пятилеток. Все эти поколения делали свои вклады в общий облик и понятие «комсомолец», все они оставили свою долю вечной молодости – «комсомольской закваски», но, мне кажется, не было еще вклада более крупного и ценного, чем тот, который сделали комсомольцы в дни Великой Отечественной войны. В кровавых боях, на грани жизни и смерти, в тяжком, порой почти непосильном для молодых труде, в жгучих раздумьях возникают черты нового человека в наших комсомольцах, до сияния кристаллизуясь и концентрируясь в отдельных лучших людях комсомола.
Комсомольцы за время войны дали десятки имен, которые стали драгоценными всему народу, имен, произнося которые, мы как бы называем ими лучшие человеческие свойства. Мы произносим коротенькое имя Зоя – и оно звучит для нас как «Верность». Мы говорим: Полина Догадаева – и имя комсомолки, создавшей первый бытовой отряд в страждущем зимой сорок первого года Ленинграде, звучит для нас как символ воинствующего милосердия и великодушия.
Мы говорим: Александр Матросов – и имя комсомольца, закрывшего своей грудью амбразуру вражеского дзота, звучит для нас как «Самопожертвование»… Мы говорим: Феодосий Смолячков – и имя снайпера-истребителя равносильно понятию самой деятельной ненависти.
Преданная Родине до самопожертвования – вот какова наша молодежь, вот каковы наши комсомольцы.
…Среди различных документов я особенно бережно храню один – письмо комсомольца-балтийца Евгения Червонного к своей жене Наташе. Это предсмертное письмо. Евгений Червонный писал его, зная, что скоро погибнет. Но вы не найдете в нем ни страха смерти, ни нот обреченности. Оно полно света и свободы. Это письмо человека, страстно любящего жизнь, оценившего ее во время войны по-новому, зрело и глубоко. Он пишет: «Нам пришлось узнать правду жизни, горькую и твердую, раньше срока, который положен по возрасту. Но тем дороже становится жизнь. Познаешь действительную цену ее, и каждый день или час ее представляется уже не мелочью». Да, он очень любил и ценил жизнь и с презрением говорил о тех, кто недостойно играет ею. И тем не менее по доброй воле он пошел на самую опасную военную работу, имея возможность быть на менее опасной. И сделал он это потому, что, как писал, «здесь можно найти полное применение себе и принести максимум пользы». Проще – это было желание отдать все, что имеешь.
Отдать все, что имеешь, и отдать не потому, что так велит долг, а больше потому, что это потребность сердца, – вот самая величественная, самая лучшая человеческая черта, завоеванная для людей комсомольцами Отечественной войны. Какая в этом безграничная свобода и какая богатая, щедрая, полная жизнь! Ведь самой полной жизнью живешь именно тогда, когда с радостью свободно отдаешь все, что имеешь, благородному общему делу. Тысячи защитников родины являются людьми грядущего. Был таким человеком и Червонный.
…Евгений очень любил свою жену Наташу. Так любил, что, заканчивая письмо, писал: «Я знаю, что тебе трудно будет смириться с мыслью об утрате своего Женьки. Но, прошу тебя, не давай никаких обетов. Постарайся быстро рассеять все мрачное. Устраивай свою жизнь счастливо, так, чтобы могла пожить и за меня».
Он дрался, жил и умирал за жизнь, за живых людей. Он хотел, чтобы они были счастливы. Он не говорит никаких выспренних слов о бессмертии, не претендует на него, но, когда пишет жене: «Будь счастлива, поживи и за меня», он бессмертен. Для него нет смерти. Для него есть только жизнь. И он знает: если он умрет, за него будет жить та, во имя которой он жил, дрался и умер.
Ты чувствуешь или нет, товарищ, какой прекрасный человек, рожденный в дни справедливой войны, встает за строками этого письма?
Вот какие они, лучшие наши комсомольцы, наш сегодняшний комсомол!
Какая честь, товарищ, что ты, и я, и миллионы наших друзей принадлежали и до сих пор душой принадлежим к такой организации, к нашему комсомолу! Какая радость, что живет в нас, живет комсомольская закваска! Какая гордость для всех нас, для всего народа, что есть у нас наш комсомол, славное двадцатипятилетие которого всем сердцем празднуем мы сегодня! И как хорошо получилось, что этот праздник выпал на дни, когда наша армия гонит постылого врага из России!
Мы никогда, никогда, даже в самые черные дни, не сомневались в том, что одолеем врага, что добьемся победы. Сейчас мы уже отчетливо видим ее контуры. Потому-то так торжественно отмечает весь народ, ведущий тяжелейшую битву, праздник своего комсомола, своих юных детей, которые так беззаветно отдают свою молодость достижению этой – уже недалекой – победы.
Будет вечер – тихо и сурово
о военной юности своей
ты расскажешь
комсомольцам новым –
сыновьям и детям сыновей.
С жадностью засмотрятся ребята
на твое солдатское лицо –
так же, как и ты смотрел когда-то
на седых буденновских бойцов.
И с прекрасной завистью, с порывом,
с тем, которым юные живут,
назовут они тебя счастливым,
сотни раз героем назовут…
И, окинув памятью ревнивой
не часы, а весь поток борьбы,
ты ответишь:
– Да, я был счастливым.
Я героем в молодости был.
Наша молодость была не длинной,
покрывалась ранней сединой.
Нашу молодость рвало на минах,
заливало таллинской волной.
Наша молодость неслась тараном –
сокрушить фашистский самолет.
Чтоб огонь ослабить ураганный,
падала на вражий пулемет.
Прямо сердцем дуло прикрывая,
падала, чтоб Армия прошла…
Страшная, неистовая, злая –
вот какая молодость была.
А любовь – любовь зимою адской,
той зимой, в осаде на Неве,
где невесты наши ленинградские
были не похожи на невест…
Лица их – темней свинцовой пыли…
Руки – тоньше, суше, чем тростник…
Как мы их жалели, как любили,
как, тоскуя, пели мы о них!
Это их сердца неугасимые
нам светили в холоде, во мгле.
Не было невест еще любимее,
не было красивей на земле!
…И под старость, юность вспоминая,
– Возвратись ко мне, – проговорю, –
возвратись ко мне опять такая,
я такую трижды повторю.
Повторю со всем страданьем нашим,
с той зимою, с тою сединой, –
яростную, горькую, бесстрашную
молодость, крещенную войной.
29 октября 1943








