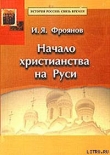Текст книги "Одинокий путник"
Автор книги: Ольга Денисова
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
И после бани, сидя на крылечке дома с кружкой остывшего сбитня, Лешек чувствовал, какой он легкий, чистый и немного усталый. Наверное, в монастыре он никогда не был таким чистым. И новая красивая рубашка, которую ему вышила матушка, приводила его в восторг: можно было часами разглядывать узор на рукавах и груди, со зверями, птицами и деревьями.
Долгими зимними вечерами, у теплой печки и под яркими свечами, колдун переписывал книги. Когда Лешек впервые зашел в одну из маленьких комнат колдуна, то изумился: он не видел других книг, кроме священных, и не сразу понял, зачем колдуну столько. Неужели он читает Писание? Но колдун снова смеялся над ним, и долго объяснял, что книги бывают разные.
И зимой, когда в темноте на дворе делать было нечего, Лешек прочитал первую книгу. Она рассказывала о княгине Ольге и об Игоре, ее муже. Больше всего Лешека поразило, что книга состояла из простых, понятных слов, совсем не таких, как в Евангелии. Как будто неизвестный рассказчик просто записывал то, что говорит. До этого чтение давалось ему с большим трудом, он не понимал, что в этом процессе может быть хорошего, но книга про Ольгу слегка поколебала его представления. Во всяком случае, ему было интересно.
Колдун иногда покупал новые пергаменты и сам переплетал переписанные книги, но чаще брал церковные, относительно доступные, стирал написанный текст и сверху записывал новый. Лешек время от времени заглядывал ему через плечо и спрашивал, что он пишет. Книга, с которой колдун снимал копию, была изрисована непонятными значками, и Лешек недоумевал, как из этих непонятных значков колдун складывает нормальные слова.
– Это глаголица, – улыбнулся колдун, – здесь записано то же самое, только другими буквами. Просто глаголицу скоро все забудут, поэтому я и переписываю их, чтобы тексты не потерялись.
– А про что эта книга?
– Про устройство человеческого тела. Тебе это пока будет скучно, я лучше расскажу на словах, когда-нибудь потом. Это очень старая книга, ей больше чем полтыщи лет. Ее переводили с греческого.
Как-то раз, приехав с торга, колдун привез маленькую книжку, не больше пяти вершков шириной, и несколько вечеров подряд стирал с листов ее содержимое.
– А зачем ты это стираешь? – спросил любопытный Лешек.
– Это Евангелие, я его читал. Ты, наверное, тоже, – хмыкнул колдун.
И, когда книга стала совершенно чистой, в один из вечеров, он вытащил на стол ворох берестяных листов, поставил перед Лешеком чернильницу и сунул ему в руки перо.
– Это будет твоя книга, – улыбнулся колдун, – ты умеешь писать?
– Немного.
– Можешь потренироваться на бересте. Но вообще-то, ничего страшного не будет, если ты напишешь что-то не то, можно стереть и подправить.
– А что я буду писать?
– Как что? Свои песни, конечно. Ты знаешь нотную грамоту?
– Мои песни? В книгу?
– Ну да. Не вижу в этом ничего удивительного. Так умеешь ты записывать мелодии?
– Я никогда их не писал, но умею петь по крюкам, меня учил Паисий. А зачем?
– Вот ты состаришься лет через сто, умрешь, и какой-нибудь другой певун найдет твою книгу и сможет петь твои песни. Разве это не здорово?
– Здорово... – Лешек просиял и растрогался. Это показалось ему удивительным и волшебным, – но я не знаю, как записать это крюками... Я никогда этого не делал.
– Научишься, – пожал плечами колдун, – сначала пиши их на бересте, и пробуй петь. Ты быстро поймешь, я думаю.
И Лешек схватился за эту работу, как одержимый. Ему не терпелось начать вырисовывать буквы на гладких, блестящих пергаментных листах, но он учился сначала разлиновывать их, потом записывать мелодии. Вечерами колдун не мог загнать его в постель – сна у Лешека не было ни в одном глазу, он готов был сидеть над работой всю ночь. Ему виделись листы книги, где, выписанные красивыми буквами и аккуратными крюками, остались бы его песни, понятные неизвестному певцу через сто лет. Но выяснилось, что красивые буквы и аккуратные крюки – всего лишь мечта: на бересте вместо ровных строк у Лешека получались отвратительные каракули.
Просыпаясь утром, он хотел одного – скорейшего наступления вечера. Но колдун неизменно выгонял его на мороз: ездить на лошади, кататься на санках, иногда брал его в лес, как будто на охоту, и учил стрелять из лука – лук колдун сделал ему сам, он был немного меньше обычного, по росту и силе Лешека, но для мелкой дичи вполне годился. И лишь когда сумерки опускались на широкий двор, позволял Лешеку разложить на столе письменные принадлежности.
Только через две недели, исписав почти весь запас бересты, Лешек решился подвинуть к себе книгу, показав колдуну черновик. Первой он собрался написать песню про злого бога, потому что если бы не она, колдун бы, может, не захотел его спасти и не увез из монастыря.
– По-моему, отлично, – похвалил его колдун, – погоди, начнем мы с красной строки. У меня есть красивый трафарет.
И первая буква песни – витиеватая, большая, вырисованная киноварью – легла на чистый лист, приведя Лешека в восторг.
Он долго не мог заснуть, и колдун не гнал его в постель: песня уместилась на одной странице, а внизу осталось немного места, и колдун предложил Лешеку нарисовать там птицу, которую увидел на одном из черновиков. Получилось удивительно красиво, Лешек не мог оторвать глаз от этой первой страницы своей собственной книги. И даже матушка, которая не умела читать, сказала Лешеку, что ей очень нравится.
* * *
Лытка проклинал себя за то, что отпустил Лешека одного: Дамиан поймает его и убьет еще раз, и, наверное, во второй раз Лытка его смерти не переживет. Господь даровал Лытке самое большое счастье за всю его жизнь – чудесное воскресение Лешека из мертвых. Это было чудо, настоящее чудо: двенадцать лет он молил Господа об этом, и Бог сжалился над ним.
Лытка отлично помнил тот день, когда должен был приехать колдун и рассказать про Лешека. Паисий разрешил Лытке уйти с литургии, и сам пошел к воротам вместе с ним. Лытка тогда уже вырос намного выше Паисия, но иеромонах положил руку ему на плечо, как маленькому, и всматривался в дорогу, ведущую от озера. Лытка не верил в плохое известие, нисколько не верил. Лешек не мог умереть, это было бы слишком несправедливо, слишком жестоко. И ждал он колдуна, чтобы услышать, что Лешек поправляется и скоро вернется в приют, и они снова будут вместе.
Лытка вспоминал, как увидел его в первый раз – совсем маленького, плачущего, забившегося в угол спальни. А здоровый, толстощекий парнишка пытался медом измазать его волосы, и приговаривал при этом: «Хочешь еще сладенького?» Лытка знал, что такое волосы, измазанные в меду, да еще и зимой, когда так холодно их мыть. А еще он хорошо знал, что слабых обижать нехорошо. У них в деревне за такое старшие братья малыша накостыляли бы такому шалуну по первое число. Но если у малыша в приюте нет старших братьев, это вовсе не повод над ним издеваться.
Лытка сшиб толстощекого на кровать одним ударом в грудь.
– Ты что? – не понял толстощекий.
– Щас ты у меня получишь «сладенького»! – сквозь зубы процедил Лытка.
– Не понял! – взревел его противник и оглянулся по сторонам, призывая на помощь товарищей. Но Лытка был крепким парнем, и никто не посмел с ним связываться – в приюте тоже имели представление о честности и вдвоем на одного не лезли. Он помог встать плачущему малышу и повел его умываться.
Лешек был удивительным. Лытка любил его, как младшего брата, а может и сильней. Его семья сгорела в избе, когда сам Лытка ушел с ребятами в ночное, пасти лошадей, и никого на этом свете у него не осталось. Полгода он мыкался по добрым людям, пока, наконец, его не подобрали монахи. И приют показался Лытке местом теплым и сытным.
Стоя у Святых ворот, он старался вспоминать только хорошее: как Лешек пел, как смеялся, как весело изображал монахов, но почему-то вместо этого перед глазами все время всплывало его бледное лицо с испариной на лбу, и провалившиеся огромные глаза, которые не помещались между висков, и впалые щеки, и струйка яблочного пюре, стекающая из угла рта на подушку.
Если бы Лытка тогда поднялся с земли чуть быстрее... Совсем чуть-чуть. Он опоздал всего на несколько секунд. Когда Дамиан ударил его в лицо, ему стоило большого труда понять, лежит он или стоит. И земля под ним шаталась и выскальзывала из-под ног, когда он поднимался. Лытка не думал об опасности, он ни секунды не боялся Дамиана, он бы, наверное, отгрыз Полкану руку, если бы подоспевшие монахи не отцепили его от запястья Инспектора, сжав ему щеки пальцами. Но он все равно опоздал.
Мрачная фигура колдуна показалась на дороге, и Паисий сжал плечо Лытки немного крепче. Его горло исторгло какой-то тихий, гортанный звук, вроде стона, и Лытка понял, как Паисий боится. Надеется, и боится.
Колдун, как всегда, спешил, но, увидев иеромонаха с мальчиком, придержал коня, посмотрел на них сверху вниз жестким, холодным взглядом и сказал, коротко и внятно:
– Мальчик умер.
Паисий, до этого смотревший на колдуна широко открытыми глазами, полными надежды, уронил голову на грудь, а Лытка не сразу понял, что означают эти слова, потому что не хотел их понимать.
– Я узнал, кто его родители, и похоронил рядом с матерью, в Серафимовке, – колдун тронул коня с места и, не оглядываясь, направился к больнице.
Паисий разрыдался молча: плечи его тряслись, губы судорожно кривились, и из плотно зажмуренных глаз бежали слезы, и тогда до Лытки постепенно стало доходить, какую весть принес им колдун. Отчаянье, до поры спрятанное где-то внизу живота, вдруг поднялось к горлу, и Лытка схватился за шею руками, как будто это отчаянье могло его задушить. Оно было похоже на невыносимую боль, и от этой боли у Лытки дрогнули и подогнулись колени: он упал на вытоптанную землю, и свернулся клубком, стараясь спрятать лицо, и зажать руками уши, чтобы не слышать слов колдуна, которые до сих пор били в виски набатом: мальчик умер, умер, умер...
Если бы он тогда поднялся с земли чуть быстрее... Совсем чуть-чуть...
Лытка три дня пролежал в горячке, и Паисий приходил к нему и сидел рядом по нескольку часов. Тогда и началась их дружба – старика и мальчика, таких непохожих, разделенных не только возрастом, но и положением.
– Мне сегодня приснился сон, – рассказывал Паисий, – как будто Господь обнимает Лешека и сам ведет в райский сад. И вокруг светло, поют птицы, и идут они по белому облаку...
– А разве Лешека могут пропустить в рай? – удивился Лытка.
– Конечно. Господь ведь любил его, как родного сына, разве же он не простит ему мелких детских грешков? И вся обитель молиться за его спасение, и Иисус слышит наши молитвы.
– А откуда ты знаешь, что Господь любил его, как сына?
– Конечно, любил. Господь всех нас любит, как своих детей. И тебя, и меня.
– Разве? А я думал... А почему он тогда не спас Лешека, почему позволил ему умереть? Ведь бог же всемогущ, разве нет?
– А ты думаешь, Лешеку здесь было бы лучше, чем в райском саду? Господь пожалел его и взял к себе на небо, чтобы свои песни он пел там, в раю, услаждая ими души праведников. Разве плохо?
– Нет, – Лытка насупил брови, – но что же он будет там делать среди этих святых старцев?
– Каких старцев? – теперь удивился Паисий.
– Ну, схимников. Ведь только схимники могут попасть в рай.
– Да нет, мальчик мой, ты ошибаешься. Конечно, врата узки, но и Господь милосерден. Каждому в жизни он предоставляет возможность раскаяться в грехах. И если ты раскаялся искренне, то он тебя простит, как простил бы родного сына. Бог любит нас, а мы, неблагодарные, грешим, и сами стремимся к геенне огненной. И чем страшней наши грехи, тем труднее Господу вырвать нас из рук нечистого.
– Но ведь не грешить невозможно!
– Конечно, человек слаб. Тело вводит его в грехи. Но с собой надо бороться, надо взращивать в себе божественное, отказываясь от скотского. Никто и не говорит, что это легко. Но праведный путь приведет тебя к вратам рая, и душа, избавленная от тела, возликует. Тот же, кто в жизни только и делает, что услаждает плоть, не сможет от нее освободиться и не спасется, скатившись в геенну огненную.
– Но мы ведь служим богу, чтобы спастись от него, разве нет?
– Нет, мой мальчик, кто тебе это сказал? Мы служим Богу, потому что любим его, потому что в молитве обретаем его поддержку, и Он дает нам силы бороться с собой и не грешить.
В следующую субботу, перед исповедью, Лытка долго размышлял о своих грехах, но так и не смог понять, в чем ему надо раскаяться, и сам отправился искать Паисия, чтобы спросить совета. Они проговорили до самой всенощной, и вскоре это стало традицией – прежде чем исповедаться духовнику, Лытка долго говорил с Паисием, тот стал его духовным наставником, раскрывая перед мальчиком тайны истинной веры.
Лытка стал совсем по-другому относиться к службам, и слова, которые раньше он пел, вызубрив наизусть и не вникая в суть, обрели для него божественный смысл, отчего голос звучал по-новому: красиво и одухотворенно.
Он изучил Евангелие, а Паисий помог ему в этом, разъясняя непонятные места, и история Христа потрясла Лытку. Если до этого он всего лишь мечтал о рае, чтобы встретиться там с родителями, сестрами и Лешеком, то теперь почувствовал любовь к Иисусу, и готов был преклонить перед его подвигом колени. Раньше он не понимал смысла распятия, да никто особенно и не стремился его в этот смысл посвятить, но когда разобрался, его сердце преисполнилось трепета и благодарности.
Теперь он истово искал в себе грехи, надеясь хоть в малости приблизиться к Иисусу, стать хоть немного его достойным. Паисий и его духовник безошибочно определили, с каким грехом Лытке нужно бороться в первую очередь: с гордыней – мальчишка был слишком независим, слишком своеволен и смел, смирение оставалось для него загадкой, непонятной абстракцией. Да и его привычка поднимать голову и смотреть на окружающих сверху вниз не соответствовала представлению о добропорядочном христианском поведении.
Но постепенно, шаг за шагом, они помогли Лытке разобраться и в этом вопросе, и он начал сам следить за собой, и иногда обличал наставников в том, что они прощают ему то, чему нет прощения. Зато милосердие давалось ему легко и без усилий, наверное поэтому особенной добродетелью Лытка его не считал. Ведь то, что не требует душевного труда, не стоит ставить себе в заслугу.
Особняком для него стоял вопрос с Дамианом. Лытку грызла ненависть и желание отомстить, а этого чувства Иисус бы не одобрил. Но его сомнения разрешил Паисий: по его словам, в Дамиане шла постоянная борьба между Богом и дьяволом, и дьявол, благодаря греховности Дамиана, постоянно одерживал верх. Надо было ненавидеть не Дамиана, а дьявола в нем, а сам Дамиан заслуживал жалости, помощи и поддержки в борьбе.
Лытка, конечно, подумал, что Дамиан в этой борьбе никакого участия не принимает, но принял слова Паисия к сведению, и, наверное, действительно Дамиана пожалел.
А еще через некоторое время понял, что Паисий, как многие другие иеромонахи, ведут с Дамианом непрерывную борьбу. И не только с Дамианом, но и с самим аввой.
Годы шли, и Дамиан из кастеляна и наставника дружников, вдруг стал Благочинным. Этого от аввы не ожидал никто. Иеромонахи роптали в открытую: Дамиан не имел даже сана священника, а должность Благочинного ориентировалась на духовные ценности. Паисий опасался, что ропот этот приведет лишь к тому, что авва рукоположит Дамиана в иеромонахи, но он ошибся, этого авва делать не стал. И тогда Лытка, которому исполнилось шестнадцать лет, объяснил Паисию и духовнику, что этого авва не сделает никогда, чтобы Дамиан не смог в обход монастыря получить сан игумена. Отцы подивились проницательности мальчика, и после этого частенько рассказывали ему то, о чем приютскому парню знать было не положено, и только для того, чтобы спросить совета.
Впрочем, в семнадцать лет Лытка принял послушание.
Дамиан же удивил всех: из него действительно получился хороший Благочинный. И хотя методы его ничем не отличались от тех, что он применял в приюте, даже иеромонахи не могли придраться к его службе – Дамиан был строг, но справедлив. Исповедь перестала быть для некоторых монахов и послушников номинальным действом, Дамиан заранее докладывал духовникам о наиболее тяжких грехах, совершенных их «детьми», а узнавал он об этом словно по волшебству. Поначалу все думали, что это Господь просвещает Дамиана и во сне посылает ему видения, но вскоре догадались, что божественное тут не причем: Дамиан пользовался таким простым способом, как наушничество. Но в этом иеромонахи не усмотрели греха.
Дамиан добился беспрекословного выполнения устава, разработал систему наказаний за нарушения, и сам авва не смел его обходить. Все случаи, в которых устав мог быть нарушен, оговаривались в отдельном документе, который иеромонахи приняли и утвердили с большим удовольствием: Дамиан хорошо знал, чем можно их подкупить, и не ошибся. Впрочем, его нововведения носили объективный характер, и, если и давали послабление священникам, то только обоснованные и действительно необходимые.
Через год монастырь сиял, как будто назавтра ожидался приезд самого епископа.
Но и это не все, чем порадовал новый Благочинный насельников обители: Дамиану позволили выступить на внешний уровень, и он виртуозно доказал архимандриту греховность князя Златояра, и потребовал в качестве епитимии – или добровольного искупления грехов – часть его земель в пользу монастыря. Златояру пришлось уступить одну их приграничных деревень. Сделал он это без особой охоты, но и не сильно переживая, потому что надеялся осенью собрать урожай как с нее, так и с некоторых монастырских угодий. И вот тут князю впервые пришлось столкнуться с «дружиной» Дамиана.
Этой победой он перетащил на свою сторону многих иеромонахов, и только Паисий, да еще несколько отцов, продолжали потихоньку роптать. Никто не понимал, чего добивается авва.
* * *
Воспоминания о колдуне иногда причиняли невыносимую боль, а иногда согревали и придавали сил, словно он протягивал невидимую руку и обнимал Лешека за плечо.
Когда стемнело – быстро и неожиданно – ветер проник на самое дно густого леса. Он еще не мешал идти, но уже швырял в лицо колючий мелкий снег: к ночи сильно подморозило. Над верхушками же деревьев бушевал настоящий шквал, и Лешек, который любил непогоду, в восхищении, смешанном с опаской, посматривал наверх. Лес ревел, раскачивался и трещал, ветер то тоненько скулил, то подвывал, а то свистел молодецким посвистом.
И только когда деревья расступились, открывая широкое пространство выжженной полосы, Лешек на себе испытал бешенную злобу бурана: тот как будто радовался, что может дотянуться до неприкрытой лесом земли и обрушил на нее всю свою силу. Снег летел с неба, снег поднимался снизу, вихрился, проносился мимо, вился вокруг ног преданным псом и хлестал по лицу оледенелой рукавицей. Лешека в первую минуту чуть не сбило с ног, и, хотя ветер дул ему в спину, дышать приходилось прикрывая рот руками.
Из-за густой снежной круговерти Лешек не сразу разглядел на краю леса серые приземистые тени, цепочкой крадущиеся сзади. Он почувствовал на себе их голодные взгляды: волков было семь. Видно, выходить на открытое пространство они пока опасались и изучали жертву издали. Лешек шел довольно быстро, волков же рыхлый снег не держал, они проваливались по брюхо, но не глубже. Долго изучать человека они не станут: как только убедятся в своем превосходстве, так сразу нападут. И рыхлый снег им не помеха.
Лешек перешел к противоположной стороне полосы, но пока волки за ним не последовали: ветер дул слишком сильно, и помешал бы им добраться до жертвы. Нет, они примерятся, обойдут его со всех сторон и кинутся только тогда, когда будут уверены в молниеносности свой атаки. Их семеро, и, хотя волки по природе довольно трусливые звери, напугать их будет сложно.
В лесу от них не спрячешься: лес – их стихия, их родной дом, там они и раздумывать не станут. Другое дело – открытая полоса, продуваемая ветром и просматривающаяся со всех сторон. Ветер уносит запахи, и глаза человека видят лучше, чем у волков, а темно зимой не бывает.
Лешек думал спокойно, трезво, без тени страха. И снова внутри натянулась струна, делая движения выверенными, точными, обостряя слух и зрение – так учил его колдун, которому ни разу не довелось увидеть, что Лешеку помогла его наука. Лешек поднял лицо – если бы не буран, волки бы давно напали на него, и открытая полоса не смогла бы их напугать.
– Спасибо, Охто, – на глаза навернулись слезы, и Лешек подумал, что ветер донесет его слова до колдуна: закружит вихрем, поднимет над землей и дотянет до самого неба.
Сломанный ветром сосновый сук хоть и был тяжеловат, мог бы стать превосходной дубиной, Лешек обломал мелкие ветви и его верхушку. Это не поможет: не настолько хорошо он владеет таким оружием, чтобы отбиться от семерых зверей. Но, может быть, это на время их отпугнет.
Сколько идти до охотничьей слободы, он не знал, но больше ни на что ему уповать не приходилось: либо он дойдет до жилья до того, как волки решатся на атаку, либо... не дойдет. Дедушка говорил – семь верст. Но это при условии, что он прямо от Никольской пойдет на восток. А Лешек не меньше версты шел вдоль реки. А двигался ли он на восток, или на северо-восток, или на юго-восток, оставалось загадкой: он ориентировался по направлению ветра.
* * *
Лишь в начале следующего лета колдун рискнул взять его с собой на торг, до этого Лешек ни разу не появлялся на людях. Он к тому времени вытянулся и поздоровел: руки у него стали крепче, ноги – быстрей, щеки горели румянцем, и матушка не могла нарадоваться, хотя и жалела его за худобу. Никто в монастыре не смог бы его узнать.
Село стояло на широкой реке Пель, там, где в нее впадала Узица, и жители его занимались в основном кожевенным промыслом и скотоводством. Поскольку каждую неделю, по субботам, в село приезжали крестьяне из окрестных деревень и других, более отдаленных мест, называлось оно Пельским торгом, но и колдун, и местный люд называли его просто «селом».
Торг поразил Лешка и напугал. Он никогда не видел ни такого большого села, ни такого количества людей. В раннем детстве мать, наверное, никогда не брала его с собой, если вообще бывала в таких местах. Больше всего он боялся потеряться, и крепко держался за руку колдуна – лошадей они оставили на входе.
Особенно Лешека удивило то, что среди людей женщин едва ли было меньше, чем мужчин. В монастыре женщины появлялись только с паломниками, и приютские мальчишки иногда бегали на них смотреть, из простого любопытства. Здесь же мальчики и девочки, помладше Лешека, крутились вместе, а девочки постарше уже держались от мальчишек особняком – невестились. Лешек глазел на них широко раскрыв глаза и рот, и колдун время от времени похихикивал:
– Рот закрой, хотя бы. Рано тебе на невест заглядываться. Вот усы вырастут, тогда смотри, сколько хочешь. Впрочем, к тому времени они сами на тебя глазеть начнут.
Мальчишки, которые стайками сновали по торгу туда-сюда, посматривали на Лешека сверху вниз, и он тушевался под их взглядами.
Колдун купил ему сапоги – красивые, красные, с острым носком, чуть загнутым вверх, и Лешек в восторге смотрел на ноги, надеясь, что это прибавит ему веса в глазах сверстников, но, похоже, их взгляды стали еще более презрительными. Колдун покупал всякую ерунду, хотя обычно с торга привозил тяжелые мешки с теми продуктами, которых не водилось в его хозяйстве. И беспрестанно предлагал Лешеку выбрать себе что-нибудь, но Лешека ничего не привлекало – ни сласти, ни безделушки его не интересовали. Он долго с тоской смотрел на деревянную лошадку, сделанную из настоящей лошадиной шкуры.
– Что, нравится? – спросил колдун.
Лешек вздохнул:
– Зачем она мне? Я на настоящей лошади езжу, это же для маленьких...
– Мы можем купить ее просто так, чтобы на нее смотреть.
Лешек на минутку представил себя с этой лошадкой подмышкой, и мальчишек, провожающих его взглядами, и замотал головой.
– Охто, а что, у тебя очень много денег? – спросил он, когда они перешли в другой ряд.
– Достаточно, чтобы купить здесь все, что тебе захочется.
– Что, и лошадь? Настоящую?
– И лошадь. Настоящую. Только зачем нам еще одна лошадь? – улыбнулся колдун.
– Нет, я просто спросил. А откуда ты берешь деньги?
– Я их зарабатываю.
– Как это?
– На той неделе увидишь. А вообще-то, это не так сложно. Хочешь, покажу?
– Хочу... – осторожно кивнул Лешек: что-то в словах колдуна заставило его насторожиться.
– Пойдем, – колдун потащил его к тому месту, где никто ничего не продавал, но все равно толпилось очень много людей: они шумели, показывали вперед пальцами и смеялись. Лешек ничего не мог рассмотреть за их спинами, но колдун поднял его повыше, и тогда он увидел, что в центре круга на задних лапах стоит настоящий медведь, а его за веревку держит худосочный мужичок с острой бородой.
Как ни странно, толпа расступилась, пропуская колдуна вперед – на фоне поселян он выглядел богато и солидно.
Лешек, оказавшись в первом ряду, снова разинул рот – он вообще не видел живых медведей, а уж ученых – тем более. Колдун скрылся где-то за спинами стоящих в первых рядах ребятишек, оставив Лешека одного, но тот этого и не заметил. Мишка залезал в телегу, стоящую у него за спиной и брался за вожжи, словно и вправду собирался погонять несуществующую лошадь, изображал бабу, которая несет ведра с водой, показывал как косят, и как вяжут снопы. Лешек хохотал до слез, впрочем, ребятишки рядом с ним тоже громко смеялись, толкали друг друга и Лешека в бока, со словами:
– Смотри, смотри! Во дает!
И пытались повторять движения мишки, и смеялись друг над другом: Лешек тоже изображал медведя вместе со всеми, сгибаясь и приседая от смеха.
Но как только медведь, зажав в лапах шапку, начал обходить круг, детей как ветром сдуло: они просочились сквозь толпу тихо и незаметно. Зато колдун сразу оказался рядом и положил в шапку большую серебряную монету, отчего лицо хозяина медведя вытянулось в изумлении. Колдун подошел к нему поближе и что-то шепнул на ухо, на что мужичок закивал и почему-то подмигнул Лешеку.
– Ну что, – хитро прищурился колдун, – попробуешь?
– Чего... – не понял Лешек и попятился.
– Петь! – колдун недоуменно повел плечом, – что же еще?
– Как... вот прямо здесь?
– Конечно. Да не бойся, никто тебя не обидит.
Лешек смутился и обрадовался одновременно. Он не верил, что в таком шуме его хоть кто-нибудь услышит, но сама по себе идея петь там, где так много людей (почти, как в церкви), заставила его сердце забиться чаще.
Колдун поднял его подмышки и поставил на телегу, и люди, которые уже собирались расходиться, остановились и подняли головы. И ребятня выползла из толпы в первые ряды, и стайка девочек – его ровесниц, опустив головы, постреливала в него любопытными глазами...
– Спой про соловья, – посоветовал колдун и отошел назад, к мужичку с медведем.
Лешек еще раз восторженно огляделся: можно петь о чем угодно, и ничего не бояться... Он вдохнул, и голос его полетел над шумом толпы, яркий и чистый, и Лешеку казалось, что доносится он до самого неба. Толпа смолкла, и даже крики в торговых рядах стали тише. И, что самое удивительное, она начала прибывать – новые и новые люди подходили и останавливались в задних рядах. Мальчишки удивленно раскрыли рты и перестали возиться друг с другом, девочки подняли головы и смотрели на Лешека, не скрывая восхищения.
И от этого голос его только креп, и печальная песня трогала до слез его самого: он хотел передать, рассказать им всю боль маленькой серой птицы, выразить так, чтобы все это поняли и плакали вместе с ним. Ему казалось, что плотная людская стена пьет его голос, впитывает в себя, и назад к нему возвращается нечто, что не вмещается в груди: смесь восторга, и боли, и блаженства, и скорби. И то, что не вмещалось в груди, выливалось обратно вместе с песней.
Когда над толпой повисла и замерла последняя нота, все молчали, и слезы медленно стекали по их щекам, и мужчины смахивали их осторожно, женщины промокали краями платков, мальчишки размазывали по грязным щекам, а девочки прятали лица друг у друга на плечах. Лешек и сам плакал, чего с ним обычно не бывало. И кто-то из толпы сам кликнул колдуна, и положил в его шапку с собольей оторочкой мелкую монету, и за ним к колдуну потянулись другие руки, и даже мальчишки, у которых монеток не было, сунули, посовещавшись, в шапку какой-то красивый круглый полупрозрачный камушек. Одна девочка сняла с себя подвеску в виде маленького колокольчика, подошла к Лешеку и поманила его пальцем:
– На, возьми, – она протянула колокольчик на веревочке, от чего он несколько раз тоненько звякнул, и, смутившись, отвернулась.
Лешек кивнул и от слез ничего не смог ей ответить.
Он спел еще две песни, с не меньшим успехом, но, закончив последнюю, почувствовал вдруг, что вот-вот упадет: у него не осталось сил ни плакать, ни радоваться. Колдун подхватил его на руки и усадил на телегу, вытирая ему слезы, а потом, внимательно посмотрел Лешеку в глаза, развернул к себе спиной, и мял руками его голову, словно она была тестом для пирога.
– Устал? – заботливо спросил он.
– Ага... – шепнул Лешек.
– Ничего. К этому просто надо привыкнуть. Я знал, что с твоим пением не все так просто, а сейчас убедился. Надо съесть что-нибудь сладкое, и все пройдет.
Колдун кликнул какого-то мальчишку, с любопытством смотрящего на Лешека, дал ему монетку и послал купить меда в сотах, и, как Лешек не отнекивался, заставил его сжевать большущий сладкий восковой кус.
Как ни странно, после этого Лешек ощутил невероятный голод, но, прежде чем пойти обедать, колдун купил на торге множество сластей, две свистульки, красные стеклянные бусики, и дорогущие височные подвески с молочно-белыми камнями в виде капель.
– Мы после обеда пойдем в гости, надо принести хозяевам гостинцев, – пояснил он и подмигнул Лешеку.
Пообедали они жареным гусем, купленным на торге, присев под деревом недалеко от въезда в село. Лешек отдохнул и готов был петь снова, но колдун сказал, что на сегодня хватит.
– Знаешь, сколько денег ты заработал тремя песнями?
– Нет.
– Ну, на лошадь не хватит, но сапожки можно купить еще одни.
– Так много?
– Конечно. Так что в случае чего, голодным ты никогда не останешься.
– А что, ты тоже поешь?
Колдун хмыкнул:
– Да, наверное. Только не людям – богам. Пойдем.
Большое село лежало вдоль широкой Пели, и дома в нем стояли как попало, как показалось Лешеку. Он бы точно заблудился среди многочисленных дворов, огороженных прозрачными палисадами из тонких жердей – одно название, а не ограда. Они проехали по берегу на самый дальний его край, и у домика, стоящего немного особняком, колдун остановился и слез с коня. Во дворе росли высокие вишни и раскидистые яблони. Лешек спешился вслед за ним и увидел во дворе женщину, очень красивую. Впрочем, ему почти все женщины, а особенно девочки, казались красивыми. Эта женщина подвязывала ветви яблонь, еще не склонившихся под весом тяжелых плодов, но, судя по тому, сколько мелких зеленых яблочек на них висело, к осени это бы точно произошло. Она была небольшого роста, и, когда вставала на цыпочки, рубаха обтягивала ее высокую грудь и пышные бедра, и обнажала загорелые гладкие щиколотки. Темно-русые толстые косы упали ей на спину, и она недовольно поправляла их, стараясь закрепить вокруг головы венком, но они падали снова.