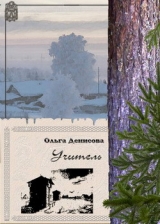
Текст книги "Учитель"
Автор книги: Ольга Денисова
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Ольга Денисова
Учитель
Детей надо баловать – тогда из них вырастают настоящие разбойники.
Е. Шварц, «Снежная королева»
Как во смутной волости, Лютой, злой губернии…
В. С. Высоцкий
Серый туман густой поземкой струился под ногами, словно где-то под опавшими листьями нехотя и вяло кипел котел. Только туман был холоден, как зимняя ночь, и не стремился вверх, его клубы оплетали сапоги, будто змеи, и Микула боялся запутаться в нем, споткнуться, завязнуть – ему хотелось скорее выйти из лесу в поле. Такой же холодный, как и туман, ужас острой иглой колол его в грудь и разливался по телу зябким ознобом.
Темный осенний вечер – настолько темными бывают лишь осенние вечера – застыл вокруг необычайной, неестественной тишиной, в которой отчетливо слышался шорох сухих листьев, дыхание Микулы и стук его сердца. А еще… тонкий звон, висящий в воздухе, замерший на одной ноте, нисколько не похожий на комариный писк: неживой, очень тихий, но от этого не менее явственный.
Лес смотрел на Микулу со всех сторон: из-за деревьев вдоль широкой тропы, из-под опавших листьев, с голых ветвей; буравил взглядом спину и нацеливал невидимые из темноты глаза прямо в лицо. Лес следил за ним, лес крался неслышными шагами, лес сжимал круг – нечто, не издававшее ни звука, нечто осторожное, нечто бездыханное пряталось в непроглядном мраке. Микула ощущал это нечто кожей. Ни зверь, ни птица, ни человек не могут абсолютно раствориться в темноте, лишь гады с остывшей кровью способны спрятаться так, что ни глаз, ни ухо, ни внутреннее чутье не подскажут, с какой стороны встречать опасность. Но присутствие гада нельзя не угадать – особая вибрация в воздухе выдаст его близость.
И Микула чувствовал эту вибрацию. Вибрацию остывшей крови. Чувствовал, знал, угадывал, понимал, но когда из темноты услышал тихий, угрожающий рык, замер на месте, не в силах шелохнуться. Так рычит кошка, или мелкий зверь, и, казалось бы, опасности нет – напуганная ласка или куница поднялась на защиту своего гнезда. Только у Микулы по лицу струями хлынул пот – ледяной пот ужаса. Он знал, что это не ласка и не куница – он ощущал вибрацию остывшей крови. Туман встал на дыбы, взвился островерхим всплеском, и за несколько мгновений до страшной смерти Микула увидел тварь, которая хотела его живой, горячей плоти.
Неделя первая
День первый
Нечай ненавидел холод. Именно ненавидел, а не просто недолюбливал. Холод приводил его в бешенство, холод убивал его, холод пугал и подавлял. Поэтому, едва ночи стали сырыми и стылыми, с сеновала он перебрался в дом, и теперь валялся на печи вместе с тремя малыми племянниками, которых старший брат наплодил в изобилии. Его жена Полёва – маленькая, высохшая от бесконечных родов женщина – и сейчас была на сносях, и кормила грудью младшего сына. Не пройдет и подугода, как младенцу придется освободить люльку и перебраться на печь, к братьям и сестрам. Старшие же мальчики – одиннадцати и двенадцати лет – уже вовсю помогали отцу.
Дети не раздражали Нечая. Их возня и повизгивание ему не мешали, он позволял им ползать по ногам, садиться на грудь, разве что иногда осторожно снимал с себя особенно расшалившегося проказника, и чувствовал себя старым ленивым псом, вокруг которого ползают веселые щенята.
Печь дышала теплом. Нечаю казалось, он никогда не привыкнет к теплу, никогда не насытится им, никогда не перестанет ощущать его блаженство. Летом он ловил каждый солнечный луч, и на закате подставлял лицо остывающему солнцу, чтоб до утра помнить его прикосновение. Но и солнце не могло сравниться с печью – он прижимался к застланным овчиной кирпичам всем телом, и надеялся втянуть, вобрать в себя их жар, накопить, чтобы потом тот защитил его от холода.
Брат Мишата не разделял его восторга. Пока Нечай валялся на сеновале, Мишата еще мирился с его присутствием, когда же Нечай перебрался в дом и стал мозолить брату глаза ежечасно, тот с каждым днем злился все сильней. Хитрый инструмент бондаря переехал из холодной мастерской в дом, заняв не меньше его половины – Мишата поднимался до света, чтобы использовать каждую минуту дня, становившегося все короче и тусклей. Он был старше Нечая на восемь лет – высокий, статный, красивый мужик: длинные, черные, сурово сдвинутые брови над горящими, серьезными глазами, темный чуб, завитком падающий на лоб, лихие усы над пухлой губой. Да, брат Мишата был обстоятельным и благонравным человеком, отцом большого семейства. Каждое воскресенье он ходил в церковь, строго постился по средам и пятницам, приучая к этому детей с малолетства, вовремя и по-хорошему платил оброк боярину, имел уважение односельчан и не последний голос на сходе. Нечая от всего этого тошнило.
Нечай никогда не задумывался о своей внешности, он с десяти лет жил в окружении мужчин, и о женщинах имел весьма смутное представление. Он чем-то походил на брата, только волосы его, такие же темные, не вились, и брови были короче и светлей. К тому же Нечай не сдвигал их к переносице, и глаза его серьезными называть не стоило. Мишата сильно перерос отца, а Нечай оказался и ростом, и сложением ровно таким же как отец, и теперь у него не было проблем ни с одеждой, ни даже с обувью. Полеву злило и это – она надеялась, что вещи отца перейдут к ее многочисленным детям.
Когда он вернулся в родной поселок после пятнадцатилетнего отсутствия, то с удивлением заметил, как смотрят на него молодые девки и бабы постарше, а особенно – вдовы с детьми. Сначала его это удивляло, потом – пугало, а теперь стало веселить. Их не смущал безобразный, разлапистый сизый шрам на левой скуле – след сведенного клейма, впрочем, в этой глуши никто не слышал о том, что колодников клеймят, и клейма эти бесследно стереть невозможно.
Мишата советовал Нечаю жениться на вдове: еще бы, в отцовском доме и без Нечая было тесно, куда уж привести молодую жену! Однако жениться Нечай не собирался вовсе: семейная жизнь нагоняла на него невыносимую скуку. Пока он не хотел ничего – только лежать, впитывая в себя печной жар, и ни о чем не думать.
– Нечай, – Мишата зашел в избу, пригибаясь, чтоб не задеть косяк низкой двери, – мы в лес едем, подсобил бы…
Нечай лишь повернул голову к стене. Тон у брата был вовсе не просительным, а требовательным и недовольным.
– Четвертый месяц валяешься, палец о палец не ударишь! Ребятишки и то работают, ты один – бездельник и пьяница!
Что правда – то правда. Нечай последнее время любил сидеть в трактире – слушать, о чем говорят проезжие люди, смотреть на новые лица, и чувствовать головокружительное забытье, падающее в желудок янтарным жаром подогретого яблочного вина.
– Я с тобой разговариваю, ты глухим-то не прикидывайся!
– Да ну? – Нечай повернулся к брату и растянул губы в улыбке, – а я-то думал: кто это у нас бездельник и пьяница? Неужели, из малых кто успел?
– Хватит! – рявкнул Мишата, – слезай и поехали!
– Не поеду, – вздохнул Нечай и снова улыбнулся.
– А я сказал – поедешь! – загремел брат в полный голос, так что его старшие отпрыски втянули головы в плечи, а кто-то из малых заревел от испуга.
Нечай болезненно скривился – он не хотел серьезной ссоры. На крик из хлева поднялась Полева и робко заглянула в избу, чуть приоткрыв дверь. Со двора что-то крикнула мама, и на лестнице стали слышны ее медленные, неуклюжие шаги.
Нечай повернулся на бок и слегка свесил голову вниз:
– Да мало ли, что ты сказал.
– Ты в моем доме живешь, мой хлеб ешь, да еще и глумиться надо мной будешь? – Мишата сердился не на шутку.
– Это и мой дом тоже, братишка, – хмыкнул Нечай, – ровно настолько, насколько и твой. Отец перед смертью поровну его велел разделить, разве нет?
– Ах ты захребетник! Ты в этот дом ни гроша не вложил, досочки не поправил, и туда же! Да я тебя… Батьки нету, так я тебя поучу!
Мишата протянул руку и вцепился Нечаю в воротник, надеясь стащить с печки. И тогда Нечай озверел. Он всегда зверел, если кто-то хватал его руками. Он терял способность соображать, на него накатывало что-то, от чего темнело в глазах, и пропадал всякий страх. Вот и теперь он спрыгнул с печи – легко и ловко, и услышал, как Полева бормочет себе под нос:
– Правильно, Мишенька, так его. Давно пора проучить бездельника, всем надоел хуже горькой редьки!
Может, если бы не ее слова, Нечай бы и остыл. Он не видел, как в дом вошла мама, да и не успела бы она разнять братьев – Нечай жестко перехватил руку Мишаты, сжимающую его воротник. И хотя старший брат был выше его и гораздо крепче с виду, Нечай без труда оторвал его руку от своей груди и выломал ее одним резким – пожалуй, чересчур резким – движением. Мишата вмиг упал на колени спиной к Нечаю, в его руке что-то хрустнуло, и брат завопил – громко, тонко и жалобно. Нечай выпустил его и отступил на шаг, прижавшись к печке спиной – постепенно бешенство уходило, сменяясь тоской и чем-то, напоминающим жалость.
К мужу с криками кинулась Полева, но, не успев его обнять, передумала и, сжав маленькие кулачки, набросилась на Нечая. Нечай с ухмылкой отбивался от ее бессмысленных нападок, пока мама не ухватила Полеву за волосы и не оттащила прочь.
– Куда лезешь? А? – мама сердилась смешно. Она качала седой головой, и ее чересчур полное тело колыхалось с заметным отставанием, маленький носик морщился от возмущения, припухшие щелки глаз метали молнии и тонкие губы превратились в невидимую полоску.
– Негодяй! – выла Полева в такт тяжелым стонам мужа, – сволочь, захребетник проклятый! Мало ему, что он детей моих объедает! Он еще и мужика мне покалечил!
– А ты бы не подначивала мужика-то, – укоризненно ответила мама, – глядишь, он бы целым остался.
– Родной брат… – выговорил Мишата, с воем пытаясь вытащить руку из-за спины, – в моем доме… родной брат…
– Пока я жива, это мой дом! – мама топнула короткой, толстой ногой с махонькой ступней, – и нечего его делить. Всем места хватит.
– Мама, да он же разбойник! Он нас всех прирежет когда-нибудь! – разревелась Полева, – да вы на рожу-то его посмотрите! Ему еще и смешно!
Смешно Нечаю не было, напротив – было гадко, и противно смотреть на воющего брата, его плюющую злобой жену и притихших, перепуганных детей. А насчет разбойника она верно угадала…
– Он твоему мужу брат родной! – с сердцем ответила мама и повернулась к Нечаю, – а ты что встал? Иди отсюда куда-нибудь, иди! Что наделал-то, а? Чего ухмыляешься?
Нечай пожал плечами. Очень хотелось сказать, как в детстве, что Мишата начал первым. Он вздохнул, сунул ноги в сапоги, накинул отцовский полушубок и вышел вон.
Осенний порывистый ветер еще на крыльце полез под рубашку и кинул к ногам сморщенных яблоневых листьев – по небу быстро, словно уходя от погони, неслись рваные черные облака, над которыми неподвижно застыла унылая серая пелена. Нечай запахнул полушубок поплотней, спустился вниз, похлопал по шее откормленного конягу, запряженного в дровни, и вышел со двора.
Только мама и обрадовалась его возвращению, только мама и верила, что он жив. Он ничего не рассказал ей о себе, но она внутренним чутьем понимала его, ни в чем не упрекала – ей хватало того, что он рядом. Когда-то, когда Нечаю было всего десять лет, и поп Афонька предложил отцу отправить мальчика в монастырскую школу, только мама не хотела его отпускать. Нечай не мог простить отцу, что тот согласился. И хотя отец давно умер, детская обида до сих пор бередила сердце. А мама… Мама всегда любила его больше, чем Мишату. Лишь одному человеку на земле Нечай был нужен – маме.
Он шел по дороге без всякой цели, когда услышал сзади торопливые шаги и шумное дыхание. Нечай оглянулся: его догоняла Груша, глухонемая дочь брата, девочка семи лет. В три года она упала в подпол, испугалась и с тех пор ничего не слышала и не говорила. Пожалуй, Груша тоже любила Нечая. Он подхватил ее на бегу, подбросил вверх и покружил на вытянутых руках – ребенку нравилось, когда с ним играли. Она смеялась молча и глаза ее, такие же серые, как у бабушки, становились щелочками, и маленький нос морщился – она смеялась смешно, так же как мама сердилась.
– Когда-нибудь я сделаю тебе маленькие крылышки, – он поставил ее на землю, – и ты полетишь далеко-далеко, в теплые страны. Говорят, где-то на юге есть края, в которых никогда не бывает зимы.
Девочка прижалась к его боку и пошла рядом, посапывая от удовольствия. Она не слышала, что говорит Нечай, но ему казалось, что она все понимает.
Ее отношения с другими детьми складывались трагично и некрасиво. Старшим хватало ума ее жалеть, но от этого они любили ее ничуть не больше – они скучали с ней, как обычно скучают старшие с младшими. А учитывая ее беспомощность, к скуке прибавлялась лишняя докука. Ребятишки помладше Грушу откровенно боялись и с визгом разбегались, завидев ее на улице. Даже малые братья и сестры сжимались в комок, когда она, помогая матери, пыталась утереть им сопли или накормить кашей. Груша мычала, надеясь их успокоить, но ее мычание как раз и пугало малых, и они, не смея вырываться, замирали с выпученными глазами и приоткрытыми ротиками. Ее чересчур выразительная мимика со стороны казалась болезненной корчей, и малых можно было понять. Да и родители подливали масла в огонь – и мать, и отец, похоже, считали девочку не совсем нормальной, и сами едва умели скрыть отвращение и стыд, глядя на увечного ребенка. Чувство вины – «не доглядели» – мешалось с пониманием никчемности ее дальнейшего существования.
Возможно, Груша помнила те времена, когда мир вокруг был полон звуков. Она умела говорить, когда с ней случилось это несчастье, и теперь не оставляла попыток донести до окружающих свое «я», губами изображая слова и дополняя их широкими жестами. Но со временем звучание слов она забывала, и никто не мог угадать, что она старается высказать, кроме примитивных «дай», «возьми», «там» и еще десятка и без слов понятных желаний.
Единственный, кто не боялся Груши – это самый младший парень в семье, тот, что еще лежал в колыбели. И она проливала на него свою любовь широким потоком – таскала увесистый кулек на руках до изнеможения, тискала, целовала, меняла пеленки, и вставала к нему по ночам. Нечаю очень хотелось верить, что, став постарше и осознав разницу между Грушей и всеми остальными людьми, младенец не перестанет ей доверять.
Она до слез хотела играть со сверстниками. Любой ценой, она была готова купить это право любой ценой. Но ровесники брезговали ее обществом и не знали жалости. Она ни на один день не оставляла попыток понравиться сверстникам: высматривала их в щелки забора и выходила навстречу, когда они не ждали, она собирала ягоды и пыталась совать их в руки девочек и мальчиков – угощать: ягоды давились и превращались в гадкие ошметки, капающие соком. Она старалась быть услужливой, и ловила случаи, где могла бы им пригодиться: поднести мяч, по которому слишком сильно стукнули лаптой, или отряхнуть упавшего в пыль, или помочь водящему при игре в прятки… В лучшем случае ее попытки натыкалась на злые шутки, а иногда на тычки и затрещины.
Единственная игра, в которую ее принимали, называлась «Кто не успеет убежать от Груши, тот – коровья лепешка». Однажды летом Нечай увидел, как Груша пытается догнать стайку ребятишек, среди которых были два ее брата и сестра. Она бежала и смеялась, ей казалось, что ребята с ней играют, и старалась ухватить кого-нибудь из них за рубаху, но если ей это удавалось, то ее били по рукам, вырывались и кричали:
– Ты, ненормальная! Убирайся! Ты что, не слышишь? Убирайся прочь!
Конечно, никому не хотелось быть коровьей лепешкой, и злость на собственную медлительность требовала возмещения. Улыбка на лице Груши медленно гасла, словно она и вправду слышала, что ей говорят.
Нечай пару раз вздул особо ретивых шалопаев, но Груше это не помогло – ее сторонились по-прежнему. Она частенько прибегала на сеновал – оказалось, это и ее любимое место тоже, и плакала, скорчившись в углу. Потом, когда они с Нечаем подружились, прятаться Груша перестала, и плакала у него на груди. Он много раз допытывался, кто ее обидел, и звал на улицу показать обидчика, но она никогда их не выдавала.
Нечай привязался к ребенку. Она напоминала ему о собственном детстве, только он был мальчиком и умел говорить, поэтому имел очевидное преимущество.
Как-то летом Нечай сделал для нее змея – ему хотелось хоть чем-нибудь порадовать девочку, у него в груди сладко замирало сердце, когда он видел, как она смеется. И она смеялась. Увидев в небе змея, толпа ребятишек выбежали в поле – на этот раз Груша им не помешала. Они скакали, бежали за змеем, рвущимся в даль, и она бегала и скакала вместе с ними. Если на свете существует полное счастье, то Нечай увидел его в первый раз. Он учил ее самой управляться со змеем, и сначала намеревался никому больше не давать нитку в руки. Но Груша была доброй девочкой, и уступила первой же просьбе своего брата.
Дети – жестокие существа. Какой бы милой и доброй не казалась им Груша, идея со змеем ничего не изменила, и на следующий день она снова плакала на сеновале, а Нечай тщетно допытывался, кто ее обидел.
Однако в последнее время Груша изменилась – явно повеселела и перестала искать встреч с другими детьми. Может быть, она поняла то, что ей рассказывал Нечай? Он часто говорил с ней, уверенный, что она не слышит его голоса, хотя иногда он сомневался в ее глухоте, настолько искренней и трогательно она иногда отвечала на его слова.
– Пойдем-ка на рынок, – похлопывая девочку по плечу, предложил он, – купим пряников.
Денег у Нечая водилось немного, но он часто покупал сласти. Из трех вещей, которых его лишали на протяжении всей недолгой жизни, он не полюбил только сон. А тепло и сласти служили чем-то вроде доказательства его свободы, позволяли пощупать явь сегодняшнего дня, ощутить его вкус. Если бы не они, Нечай, возможно, продолжал бы думать, будто происходящее – всего лишь счастливое сновидение, которое вот-вот прервется.
Деньги он зарабатывал честным трудом – в трактире немало проезжих людей хотели послать с дороги весточку родным, а грамоту знали немногие. Раньше в поселке умел писать только поп Афонька, и не брезговал лишней гривной за полуграмотное письмо. Нечай, ненавидящий попа всей душой, как и всю его поповскую братию, назло ему брал пять копеек, да и искать его не приходилось – в трактире он сидел каждый вечер. Только однажды взял за письмо серебряный рубль, но оно того стоило – для проезжего купца-грека, который с южного моря ехал на запад. Его жена понимала только по-гречески: тут ему и Афонька не помог. Нечай же не очень хорошо знал язык Аристотеля, но под диктовку писал вполне сносно – богатый грек отдал рубль и не поморщился.
Поселок тянулся вдоль тракта, ведущего из столицы на запад, почему и получил название Рядок. Он кормил три постоялых двора, мог обеспечить смену сотни лошадей в день, чинил повозки, телеги, кареты, сани и славился колесниками, шорниками, кузнецами и пивоварами. Рынок тоже стоял у дороги – если проезжающие не останавливались на ночлег, и не желали обедать в трактире, на рынке всегда можно было купить теплого хлеба, молока, жареной рыбы или мяса, соленых груздей, капусты, сластей, бочонок пива. Мишата никогда без работы не сидел: бочки, кадушки, ведра, лохани требовались Рядку гораздо больше, чем любой другой деревне.
Рядок был столь богат, что больше половины оброка выплачивал боярину Туче Ярославичу деньгами, и, пожалуй, жители Рядка могли благодарить судьбу за то, что их поселок стоит на его земле. Туча Ярославич – транжира, прожектер и чернокнижник – много лет прожил в чужих странах, потерял две трети земли, что получил в наследство, но управляться с деньгами так и не научился, хотя был уже в годах. Сам он никакого хозяйства не имел, из дворовых держал только егерей, сокольничих, конюхов и псарей, не считая поваров, истопников и ключников. Дом же выстроил себе хоть и деревянный, но совсем не похожий на здешние богатые терема – поднимался он вверх тремя башнями, одна выше другой, резьба его – тяжелая и объемная, по обшитым тесом стенам – напоминала украшения карет заморских гостей, а островерхие крыши пересекались друг с другом затейливо и запутано.
Тучу Ярославича в Рядке боялись и уважали. В том числе за то, что дом его стоял недалеко от полуразрушенной крепости, о которой в округе шла нехорошая молва. Между домом Тучи и крепостью лежало заброшенное кладбище – когда-то там хоронили воинов, защищавших подступы к столице на западных рубежах. Теперь граница ушла далеко на запад, крепость потеряла свое значение и со временем обвалилась – из пяти башен осталась только одна. Ров пересох, речка превратилась в болото, которое подмыло и некоторые старые могилы. Рассказывали, что на болоте водятся черти, которые таскают из поселка детей. Слухи эти ползали по Рядку и когда Нечай был ребенком. Еще рассказывали об оборотнях, о русалках, о злобных болотных лярвах – чего только не придумывали сельчане, чтобы отвадить своих детей от леса. Не помогало – каждый ребенок Рядка рано или поздно бывал в старой крепости. Девочки – стайками, мальчишки и по одному. Нечай просто не успел совершить этого подвига – уехал в школу, где ему объяснили, что оборотни и черти суть глупые суеверия, идущие от идолопоклонства, и бороться надо с врагом рода человеческого, а не с выдумками темных крестьян.
В тот час на рынке никто не торговал, и вор, появись он тут немедленно, чувствовал бы себя козлом в огороде – продавцы бросили лотки с товаром и столпились у дороги, где стоял поселковый староста, поп Афонька и пара мужиков рядом с дровенками. Груша, указывая пальцем на толпу, дернула Нечая за рукав – поняла, что произошло что-то любопытное, и хотела увидеть все собственными глазами. Но едва Нечай, поддавшись на уговоры, подошел поближе, как сразу понял – не стоило этого делать. В дровенках, не прикрытый ничем, лежал мертвый человек. Ему даже не закрыли глаз, и покойник смотрел в небо с ужасом, навсегда замершем на бледном, холодном лице. Увидев разорванное горло мертвеца, Нечай хотел немедленно увести Грушу прочь. Он не любил смотреть на покойников, хотя повидал их в жизни немало.
Он попал в монастырскую тюрьму не по чьей-то злой воле, не из-за убеждений, не за правое дело – он промышлял разбоем, и если бы тогда перед ним встала необходимость убить – он убил бы не задумываясь. От виселицы Нечая спас юный возраст – ему не было девятнадцати, и судьи посчитали, что кнут, год тюрьмы и вечная ссылка принесут обществу больше пользы, чем его безвременная кончина. Только обернулось все иначе. За одну не очень умную выходку год обычной тюрьмы, в которой колодники питались подаянием, превратился в двадцать лет заключения в монастыре – на смирение. Они думали, за двадцать лет смогут его усмирить и превратить в добродетельного обывателя. Двадцати лет Нечай ждать не стал, и роль добродетельного обывателя его тяготила, но и романтика разбойничьей жизни более не привлекала.
Он видел мертвецов пострашней того, что лежал сейчас перед ним на дровнях. Он видел людей, умирающих от испарений возле цирена,[1]1
Цирен – большая сковорода, используемая на солеварнях для выпаривания рассола.
[Закрыть] обварившихся, замерзших среди бела дня, задавленных камнями обвала, съеденных вонючими язвами, разорвавших грудь кашлем, забитых до смерти, повесившихся на кандалах, сгнивших в ямах – он думал, что видел все. Говорят, человек привыкает ко всему – Нечай не привык. Мертвецы вызывали у него физическое отторжение, не страх, не отвращение, а неприятие самого факта смерти. Когда для него закончилась игра в разбойников, и реальность ткнула его мордой в грязь, он многое понял. И, увидев смерть вблизи, ощутив ее безобразие и противоестественность, Нечай не смог бы убить. То, что было с ним до заключения – это происходило не по-настоящему, понарошку. Он что-то доказывал самому себе, своим учителям, сверстникам, он хотел прекословить, он хотел быть против всех.
Горло покойника было разорвано на клочки, а грудь, лицо и руки покрывали длинные узкие порезы, словно его драли острыми когтями – Нечай не сразу узнал в нем Микулу, веселого пивовара с Речного конца поселка. Однако Груша нисколько не испугалась. Напротив, лицо ее неожиданно стало задумчивым и пытливым, она затаила дыхание и шагнула вперед, рот ее приоткрылся, глаза расширились, и Нечай поспешил прижать руку к ее лицу, оттаскивая ребенка в сторону. Она не сопротивлялась, но казалась разочарованной – оглядывалась, обиженно мычала и возбужденно размахивала руками.
– Это мертвый человек, – сказал ей Нечай, опускаясь перед Грушей на одно колено, – на него напал дикий зверь. Тебе не надо на это смотреть, ладно?
А сам подумал, что для дикого зверя по меньшей мере странно изорвать свою жертву и не сожрать самого вкусного и легко доступного – рук или ног.
Груша замотала головой и начала изображать на лице подобие слов: широко открывала рот, морщилась, топала ногой – ее всегда раздражало, если никто не мог ее понять. Потом тыкала пальцем в сторону покойника и тут же переводила его в сторону леса.
– Да, в лесу, – неуверенно кивнул Нечай, – звери водятся в лесу…
Груша качнула головой, снова кивнула в сторону леса и двумя пальцами показала, как человек идет. А потом вскинула руки, согнутыми пальцами изображая когти, оскалилась и быстро засмеялась своим забавным беззвучным смехом. И этот смех сразу после изображения зверя заставил Нечая похолодеть – он не сомневался в нормальности Груши, она никогда не проявляла жестокости ни к людям, ни к животным, а тут лицо ее расцвело, словно от радости, от странной светлой тоски, и она, схватив Нечая за пальцы обеими руками, потянула его к лесу. Может быть, умерший человек чем-то ее обидел, и она довольна его смертью? Но мстительность тоже не была ей свойственна, как и кровожадность. А может, она просто не понимает, что такое смерть? Может, мертвый человек напомнил ей сказки, что бабушка рассказывает внукам по вечерам? Но Груша ведь не слышала этих сказок…
Пряников теперь совсем не хотелось, и Нечай машинально прошел вслед за Грушей несколько шагов, пока не опомнился: не хватало отвести ребенка в лес, где зверь только что напал на человека. Кто его знает, может, это бешеный волк, а скорей всего – рысь, судя по глубоким следам когтей на теле покойника. Нечай слышал о бешеных собаках и лисицах, может, бывают и бешеные рыси? Ведь ни одна, даже очень крупная, лесная кошка никогда не отважится напасть на взрослого мужчину – значит, зверюга явно была не в себе…
– Нет, подруга, мы туда не пойдем, – сказал он Груше и повернул к рынку, – лучше купим пряников.
Она огорчилась.
Вечером в трактире говорили только о погибшем Микуле, и народу туда набилось гораздо больше обычного – известие вмиг облетело весь Рядок, и каждый хотел узнать подробности. Нечай сильно удивился, когда увидел попа Афоньку – не место духовному лицу в этом вертепе греха. Однако, Афоньку это не смущало – он чревоугодничал и предавался пороку пьянства. Сколько Афоньке лет, не знал никто, и за последние четверть века, что Нечай жил на свете, он нисколько не изменился. Однако далекое прошлое попа представлялось Нечаю во всех подробностях: он видел немало поповских детей, которые лет за десять-двенадцать обучения в школе с трудом научились читать, запомнили с десяток тропарей, уяснили для себя, как творить таинство крещения и причастия, а потом, не дочитав до конца и Евангелия, получали приходы благодаря заслугам отцов и собственной пронырливости.
Афонька обладал незаурядной внешностью – имея на редкость тонкую кость, он сумел растолстеть до приличествующих сану размеров, только брюхо его, вместо того, чтобы гордо выступать вперед, висело под впалой грудью полупустым мешком, щеки складками опускались к скошенному подбородку, и на них произрастала жиденькая, клочковатая бороденка. Бесцветные глаза Афоньки шныряли по сторонам, словно он хотел что-нибудь стащить, а руки непрерывно что-нибудь теребили.
Каждый год Афонька сватал девок, но за много лет не нашел ни одной, которая захотела бы стать попадьей. Возможно, горькая вдовица и не отказалась бы от такой участи, но ими поп брезговал, поэтому и жил бобылем. Не то что бы он был богат, нет. Жадность не всегда влечет за собой богатство, а грех сребролюбия водился за Афонькой, как и множество других грехов и пороков. Хоромину он отгрохал себе будь здоров, рядом с ней покосившаяся церковь казалась сараем со звонницей, несмотря на пять полноценных главок. Только протопить и убрать огромный дом оказалось попу не под силу, и ютился он в одной клети, понемногу таская дровишки из тех, что мужики заготавливали для церкви на зиму.
Но надо отдать Афоньке должное – грех уныния был ему чужд, и характер поп имел простой, открытый, легкий. Иногда он старался быть хитрым, и щурил глаза, словно что-то замышлял, но его хитрости каждый видел насквозь, и, оказываясь в дураках, Афонька некоторое время злился на обидчиков, но быстро обиды забывал. Впрочем, к Нечаю это не относилось – их нелюбовь друг к другу была прочной и взаимной.
Причина появления Афоньки в трактире выяснилась очень скоро: тело Микулы до отпевания оставили в церкви, а поп, несмотря на заступничество Господа, боялся покойников, и теперь для храбрости наливался яблочным вином – дом его стоял вплотную к церкви. Весь трактир говорил об оборотне, о полнолунии, каждый припоминал, что видел огромного волка неподалеку от Рядка – поэтому и решено было оставить Микулу в храме, ведь всем известно, что такой покойник может сам превратиться в оборотня, если его не отпеть надлежащим образом и не прибить тело к гробу осиновым колом.
– От нечистой силы помогает крестное знамение, – на весь трактир проповедовал Афонька, обильно закусывая жирный холодец чесноком, – крест нательный, а еще лучше – икона в руке. Вот как оборотень на тебе кинется, крикни ему: «Во имя отца, сына и святаго духа» и в морду иконой ткни, тут он и упадет замертво.
– Ага, – Нечай присел на край соседнего стола, отхлебывая вино из кружки – ему нравилось глумиться над Афонькой, – но самое надежное – чесноком на него дыхнуть. Чеснока любая нечисть боится, да и я, признаться, тоже.
За его спиной зашумели – чеснок в каждой семье висел над дверным косяком, и Афонька народными средствами не брезговал: на бога надейся, а сам не плошай.
– Чеснок – глупые суеверия, – поп сжал остаток зубчика в кулаке и постарался незаметно уронить его под стол.
– Да ладно! Ну нету у тебя с собой иконы, а ты чесноком дыхни – кто хочешь замертво упадет, – широко улыбнулся Нечай.
– Ты позубоскаль, – перешел Афонька в наступление, – в церкви не бываешь, к причастию не ходишь, креста на груди не носишь – повесил на цепку погань какую-то. Пожалуюсь Туче Ярославичу, чтоб батогов тебе прописал.








