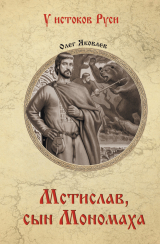
Текст книги "Мстислав, сын Мономаха"
Автор книги: Олег Яковлев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Глава 13
Наутро в Городище внезапно явились бояре Ставр и Гюрята Рогович, оба в нарядных долгих кафтанах с высоким воротом: Ставр – в синем бархатном, Гюрята – в красном, с золотой оторочкой в три ряда. Золотом сверкали перстни, гривны, пояса; серебряные обручи перехватывали длинные рукава; высокие горлатные шапки покрывали головы.
Мстислав, в алой суконной свите, встретил их в горнице за крытым белой фландрской скатертью широким столом.
– Здравы будьте, бояре. Ну, сказывайте, с чем пришли? – с усмешкой спросил он, глядя на самоуверенные, полные надменности их лица.
– Старцы градские нас к тебе послали, – хрипло вымолвил Гюрята. – Мыслим, негоже нам боле дань в Переяславль отсылать. Новгород – град великий, вольный, негоже данниками нам слыти. Товары возим в Готланд, в Данию, к мурманам, ко свеям, ляхам, немцам, на югру[90]90
Югра – название хантов и манси в русских летописях.
[Закрыть] ходим, на чудь, в Заволочье. Отец же твой, князь Владимир, двести гривен каждое лето с нас берёт. Не довольно ли?
– Да и тебе, князюшко, пора бы показать себя, – вступил в разговор Ставр. – Хватит в отцовой узде ходить. И Павла, посадника, князем Владимиром ставленного, убери. Мы Новгороду иного посадника дадим – своего, новгородского. Токмо слово молви супротив отца – весь град воедино встанет.
– Гляжу я, бояре, и дивлюсь, – спокойно выслушав их речи, ответил Мстислав. – Нешто[91]91
Нешто – неужели.
[Закрыть] не разумеете, что аще б не отец мой, сидел бы ныне в Новгороде Святополков сын? Ведь не меня, не вас, дураков, испугался великий князь – испугался он князя Владимира. Ибо отец мой – обо всей земле Русской радетель. Кликнул бы раз – вся Русь на Святополка поднялась бы. Так уже было единожды, после ослепленья Василька Ростиславича. Вот и помыслите, что с вами будет, аще крамольничать вознамеритесь. Тут уж князья киевский, черниговский, переяславский все вместе на град ваш вольный рати пошлют. И тогда, окромя разора, ничему не бысть на земле Новгородской.
– Поганые помешают князьям, – нетерпеливо перебил Мстислава Ставр. – Нечего нам бояться. Да и сами Святополк, Владимир да Ольг друг друга перегрызут, прежде чем на наш град глянут.
– Нет, боярин, не бывать тому, – рассмеялся Мстислав. – Не думай. Глядят, и Святополк, и отец мой на Новгород, очей не спускают. Иначе б не ездил я с тобой в Киев. – Он указал на Гюряту. – А поганые – они не помеха. Ну, пожгут село, другое, смердов в полон угонят, так ведь то всякое лето случается. Смирят князья поганых – слыхали, как прошлым летом сговаривались в Сакове[92]92
Речь идёт о мирном договоре между русскими князьями и половецкими ханами, заключённом в 1101 году, который в скором времени был нарушен половцами.
[Закрыть].
– Ну вот что, князь! – хлопнул ладонью по столу Гюрята. – Не дашь Новгороду воли – сгоним тебя! Не надобен нам здесь холоп Мономахов!
– И кого посадите? – По лицу Мстислава пробежала полная нескрываемого презрения усмешка. – Святополкова сына? Он ещё крепче вас скрутит и вовсе воли не даст.
– А никого не посадим, сами княжить будем. «Республика» – слыхал про такое? – прищурил око Ставр.
– Да вашу республику князья как червяка раздавят. Соберутся воедино да возьмут Новгород копьём.
Бояре промолчали, глянули друг на друга, поднялись со скамьи и отвесили Мстиславу поклоны.
– Передадим вечу слова твои, – молвил Гюрята. – Пущай народ решает, как быти.
– Вече?! Какое вече?! Я вот вам покажу вече! – крикнул охваченный внезапным гневом Мстислав. – Мыслите, князь Владимир гривны ваши в сундуки складывает, как Святополк?! Нет, он на них кольчуги велит кузнецам ковать, копья, мечи булатные, он соборы на них возводит, грады сторожевые строит! То вы мошну свою набить хощете! Но не бывать, не бывать сему! Народу голову морочите, бояре! И се не выйдет! Я на вече сам всё людям скажу. Берегитесь тогда!
– Да ты не кипятись, княже, – поспешил успокоить его Гюрята (Мстислав заметил, что глаза боярина опасливо забегали, а чело озабоченно нахмурилось). – Мы слова твои передадим, а далее как будет, – кто ж ведает?
– А далее, боярин! – грозно сказал Мстислав. – Будет по-моему, не по-вашему!
…Как только бояре уехали, князь вызвал к себе посадника Павла и отрывистым голосом коротко приказал:
– Следить вели за боярами сими. И за людом в Новгороде присмотри. Смутьянов хватать – и в порубы!
– Сделаем, княже, – кивнул Павел.
«Вот они, бояре, каковы! – подумал после Мстислав. – Воли для Новгорода добиваются. Не для меня – для себя у Святополка стол княжой выспорили. А меня, что ж, в холопы свои зачислили? Нет, не позволю. Не буду под их дудку плясать, своя голова на плечах. Оно, может, и неплохо бы – дань отцу не платить, да только что тогда? В боярской воле буду. Окрутят, как тура[93]93
Тур – вымерший дикий бык, объект охоты в Древней Руси.
[Закрыть] на охоте, затравят, задавят. Нет, нельзя им потакать. На отца надобно опираться и давить, давить сих Ставров, Гюрят, Дмитров, Славят! Иначе величия не достичь».
Так князь Мстислав впервые показал боярам свою волю и, пожалуй, окончательно определил свой путь в жизни – путь к власти, возвышению, славе.
Глава 14
На четвёртый день пути из Киева Туряк добрался, наконец, до берега Роси. Река, узенькая, изрядно обмелевшая под лучами жаркого солнца, медленно несла свои воды на восток, к стремительному полноводному Днепру. Отливающая серебром, ласковая, прозрачная, она как будто успокаивала, смягчала ожесточение воинов, сжимающих в руках копья и готовых в любое мгновение ринуться в бой. Взирая на её тихую гладь, путники забывали на миг свои волнения и заботы, спешивались, крестились, шептали молитвы.
Жизнь человечья подобна реке, думалось Туряку. Как песчинку, как каплю несёт человека судьба, и одному Господу ведомо, какой конец, какая участь ждёт его. Вот эти струи, капли, частицы умчит Рось к Днепру, Днепр понесёт их к далёкому Эвксинскому Понту[94]94
Эвксинский Понт – греческое название Чёрного моря.
[Закрыть], а его, Туряка, наверное, уже никакой ветер, никакое течение, никакая дорога не приведёт в Киев, выпало на его долю унылое прозябание за стенами пограничного Торческа. Будет мотать его по пыльной степи взад-вперёд, как перекати-поле. А может, изготовлена уже и вложена в колчан длинная стрела, коей суждено оборвать его дни на этой земле? Как знать?
Страшно, тяжело, когда теряет человек надежду.
– Далеко до Торческа? – нетерпеливо спросил Туряк старого проводника-берендея[95]95
Берендеи – степной тюркоязычный народ, родственный торкам.
[Закрыть], который вёл отряд по степному шляху.
– Тридцать вёрст, боярин.
– Стало быть, скоро доберёмся. – Туряку надоел тяжёлый утомительный путь, где на каждом шагу, казалось, подстерегала его опасность, где в высокой траве за курганами могли таиться свирепые, не знающие пощады половцы…
Кони со всадниками медленно погрузились в воду. Старый берендей уверенно повёл отряд через брод, время от времени оглядываясь: все ли идут, не отстал ли кто.
За переправой кони пошли веселее: видно, холодная вода взбодрила их. Туряк впервые за время пути слабо улыбнулся: может, хоть добраться до Торческа удастся ему целым и невредимым. Пусть маленькая, но всё же удача.
За Росью пашни сменились дикими, поросшими ковылём полями, изредка на пути встречались перелески и густые заросли кустарника. Здесь селились торки и берендеи, которые, спасаясь от половцев, перешли на службу к киевским князьям. Князья прикрывались ими как щитом от половецких нашествий. Правда, не всегда бывали новые вассалы послушны, часто переходили они на сторону половцев и вместе с ними совершали опустошительные набеги на земли недавних своих друзей и покровителей. Не случайно старый берендей рассказывал Туряку о некоем разбойном бее[96]96
Бей – глава семьи у степных народов.
[Закрыть] Метагае, который убежал от хана Азгулуя к половецкому хану Боняку и грабит ныне своих единоплеменников.
К вечеру утомлённые путники добрались-таки до Торческа. Более девяти лет прошло со времени кровавых событий, когда город этот был взят штурмом и разорён ордами свирепого хана Тогорты. Уже и труп хана давно истлел, но горожане продолжали жить в постоянной опаске и каждое лето укрепляли и подновляли крепостные стены.
Торческ окружал высокий земляной вал, за ним виднелся ров с мутной грязной водой.
Проехав по узенькому, переброшенному через ров мостку, Туряк и его спутники очутились у огромных деревянных стен с башнями-сторожами. Из узких стрельчатых окон насторожённо наблюдали за ними смуглолицые усатые воины.
Миновав крепостные врата, Туряк оказался словно совсем в другой стране. Хотя в Торческе и стоял небольшой русский отряд, который опальному боярину и надлежало возглавить, жили здесь в основном оседлые торки и берендеи. Вместо привычных изб и теремов на градских улицах стояли кибитки, юрты и громадные шатры на столбах. Туряку даже почудилось, что попал он на некий базар: всюду мелькали разноцветные шелка, ревели верблюды, продавался скот, изделия из кожи, конские сёдла.
Проводник-берендей ввёл боярина в шатёр, где жил хан Азгулуй. К нему Туряк привёз послание от Святополка.
Хан, худощавый, с короткой, начинающей седеть редкой бородёнкой, высокого роста, скуластый, с большими чёрными, как перезрелые сливы, глазами, одетый в шёлковый полосатый халат, перехваченный поясом с раздвоенными концами, подозрительно искоса оглядел нежданного гостя и пригласил его сесть на ковёр у очага.
Слуги принесли большое блюдо, на котором лежал зажаренный целиком верблюжонок, и кумыс в чашах.
Туряк заговорил на языке торков:
– Приветствую тебя, о достопочтимый хан! Да не застят тебе тучи звёзд на небе! Да сгинут в геенне огненной враги твои, злонравные кипчаки! Да падут они от разящего меча твоего!
– Грамота каназа Святополка есть? – равнодушно выслушав напыщенную речь боярина, хрипло спросил Азгулуй.
Туряк хмуро кивнул:
– Шлёт грамоту тебе князь Святополк.
– Хорошо по-нашему говоришь, – то ли с укором, то ли с одобрением заметил Азгулуй.
Постепенно разговорились. Хан стал жаловаться:
– Хотел на большой пир тебя звать, но, – он развёл руками, – какой сейчас пир? Этот разбойник Метагай не даёт мне покоя. Всего две луны прошло, как этот сын шакала провёл по бродам на Роси орды шелудивого Боняка. А недавно мои сакмагоны[97]97
Сакмагон – пеший лазутчик.
[Закрыть] видели его на Гнилом Тикиче[98]98
Гнилой Тикич – река на территории совр. Украины, в бассейне Южного Буга.
[Закрыть]. Завтра поедем в степь, боярин. Изловить бы его – снёс бы ему волчью голову!
Туряк согласно кивал. В самом деле, было бы неплохо поймать Метагая. Он, Туряк, не дал бы Азгулую умертвить разбойника, отправил бы мятежного бея в Киев. Наверное, Святополк простил бы тогда ему неудачу с Новгородом. А там, может, всё переменится, снова обретёт он свою птицу счастья.
Наутро Туряк вместе с ордой Азгулуя выехал из Торческа. Войско держало путь к берегу Гнилого Тикича, где несколько дней назад Азгулуевы сакмагоны видели торков Метагая.
Дороги в степи не было никакой, и лошади прокладывали себе путь через заросли пожухлой травы, которая громко шуршала под копытами и заглушала все иные звуки.
Не доверяя особенно торкам, Туряк выслал вперёд небольшой сторожевой отряд из русов. Но Метагая или его людей нигде обнаружить не удавалось.
Возле берега Тикича простирались широкие, поросшие камышом луга. Всё в этих местах было для вчерашнего стольнокиевского боярина диким, чужим, и он даже нисколько не удивился, когда увидел, что, собственно, никакой реки вовсе нет – за камышовыми зарослями виднелось лишь пересохшее русло с редкими маленькими лужицами.
– Жарко, – сказал ему Азгулуй. – Высохла река. Но дожди пойдут – по-другому будет. Вода будет, большая вода.
Один из торков внезапно резко натянул поводья.
– Великий хан, следы!
Азгулуй приказал воинам остановиться, спешился и склонился над явственно видными на песке отпечатками конских копыт. Туряк, недолго думая, последовал его примеру.
– Большой отряд прошёл, – сказал хан, тщательно осмотрев следы. – След свежий.
– Думаешь, Метагай? – спросил боярин.
Азгулуй пожал плечами:
– Откуда знать?
– Что будем делать, хан? – Туряк опасливо огляделся по сторонам.
Конечно, было бы славно полонить сего Метагая, думалось ему. Но что-то не очень хочется гоняться за ним по степи. Стрела какая лихая, шальная, и во гроб ляжешь, боярин Туряк.
– Знаю, как догнать Метагая, – лукаво сощурив глаза, отозвался после недолгого молчания Азгулуй.
– Что ж, погоним? Не опасно ли?
– Погоним, боярин. – Азгулуй презрительно усмехнулся, вскочил на коня, взмахнул нагайкой и, увлекая за собой остальных торков и русов, ринулся галопом через пересохшее русло.
Дальше всё происходило для Туряка будто во сне. Сначала неистовая скачка, свист ветра в ушах, перепуганная стая галок над степью, коршун, парящий высоко в небе, затем – дикие вопли, гортанные крики, ржание обезумевших, извивающихся свечой коней, лязг сверкающих сабель.
Кто-то налетел на Туряка, хватил его по голове саблей, но боярин успел увернуться, и лишь скользнуло смертоносное оружие по шелому, лязгнула сталь по стали; кого-то Туряк рубанул наотмашь, от души, а потом он словно очнулся ото сна, перевёл дух и понял, что сидит уже не на коне, но на земле, а сражающиеся ускакали куда-то в сторону. Рядом с боярином корчился в предсмертных судорогах торок – не свой, чужой, – хрипел что-то неразборчивое, непонятное, изо рта его хлестала кровь.
Туряк встал и осмотрелся. Вдали, возле небольшой рощицы двое торков волокли по земле опутанного арканами пленника. К Туряку на взмыленном скакуне подъехал обрадованный Азгулуй.
– Попался, разбойник! – воскликнул он, указывая на полоняника.
Торки с арканами остановились перед ханом, спешились и подняли на ноги облепленного комьями грязи могучего высокорослого человека средних лет. Очи пленника пылали яростью, рот его был аж перекошен от лютой злобы.
– Помесь шакала и свиньи! – Азгулуй выхватил из ножен саблю. – Заплатишь головой за пролитую кровь! Изменник! С кипчаками[99]99
Кипчаки – самоназвание половцев.
[Закрыть] снюхался, с Боняком Шелудивым, сыном собаки! Брод ему на Роси показал! Да падёт за это меч на твою голову!
– Постой, хан, не кипятись, – остановил его Туряк. – Мыслю, нет славы тебе пленника убивать. Пошлём его в Киев, ко князю Святополку. Пусть он и вершит над ним суд праведный. Уж князь, верно, не позабудет, кто татя сего полонил, в милости нам с тобой не откажет.
Азгулуй насупился, долго молчал, но в конце концов, тяжело вздохнув, согласился:
– Ты прав, боярин. В Киев отвезём Метагая.
Туряк улыбнулся. Что ж, Бог, кажется, смилостивился и послал ему утешение, надежду.
В груди боярина радостно заклокотало сердце. Может, место посадника в Турове или в Пинске и княжья сестра вовсе не потеряны для него навсегда? Как знать?
На обратном пути в Торческ Азгулуй спросил Туряка:
– Скажи, боярин, из каких мест род твой? Говоришь по-нашему хорошо, и лицом на нас похож, и имя у тебя как наше.
Туряк усмехнулся:
– Да нет, хан. С Волыни я. А имя – оно от Турьи, речка такая близ Луцка[100]100
Луцк – город на Волыни, на реке Стырь.
[Закрыть] есть. Волость моя родовая там.
На том разговор и кончился. Молча ехали они по степи, глядя на алеющую на западе вечернюю зарю. Заканчивался трудный, тяжёлый, но принёсший удачу день. Сколько таких дней будет у них здесь, на степном пограничье? Наверное, немало. Немало будет и обид, и досад, и пролитой крови. Вечное противоборство Руси и Степи, вечные стычки, вечные опасности – таков удел тех, кого забросила судьба на многострадальную землю Поросья.
Глава 15
Огромный медведь, губастый, ярый, с клочьями обвислой шерсти и ранами от собачьих клыков, вырвался из чащи леса на край густо поросшего малинником неглубокого оврага и набросился на Мстислава столь неожиданно, что не успел князь сообразить, что к чему. Рука как будто сама собой выставила навстречу бешено ревущему зверю копьё-рогатину, но было уже поздно. Древко переломилось пополам, а спустя мгновение страшный удар медвежьей лапы пришёлся Мстиславу в живот, порвав кольца доспеха и нижнюю рубаху. Больше он ничего не помнил. Резкая дикая боль сковала мускулы, он падал куда-то вниз, от боли невозможно было вздохнуть. Перед глазами возникли некие странные тёмно-красные полосы, но затем и они исчезли. Окутал Мстислава непроницаемый мрак, порой его охватывала жгучая нестерпимая боль, он стонал, не понимая, что же происходит, и опять проваливался в зияющую бездну, в пропасть, из которой не было никакого пути. Да, славная получилась на этот раз охота!
Много позже вдруг возник перед Мстиславом сухонький сгорбленный седобородый старец. Внимательно, с видимым участием смотрел он на раненого молодого князя, шептал что-то, потом достал из дорожной сумы туески и жбанчики, стал вынимать коренья, порошки, мази, принялся прикладывать их к Мстиславовым ранам, натирать мазями, приговаривая:
– Охранил тебя, княже, Господь от гибели в когтях дикого зверя! Не настал ещё час твой, не пробил! Всё в руках Всевышнего: и жизнь малого, и жизнь великого! Одолеешь когда болести свои – не забудь, восхвали Господа! Ну и меня не забудь помянуть в молитвах!
Боль в животе постепенно стала стихать. Словно одними прикосновениями дланей своих старик излечивал, укрощал доселе нестерпимое жжение. Но вот старец исчез в одно мгновение, так же внезапно, как и явился. Мстислав открыл глаза. Первое, что он увидел перед собой, был белый оштукатуренный потолок палаты городищенского терема. Он попытался приподняться, но тотчас повалился обратно на обитую бархатом и сукном широкую лавку. Не было сил, и снова возникла боль, правда, не такая острая и резкая, как раньше.
– Лежи тихо! – услышал Мстислав шёпот матери.
Княгиня Гида, в чёрном повойнике на голове, склонилась над сыном.
На Мстислава уставились красные, воспалённые от бессонных ночей, полные беспокойства материнские глаза.
– Наконец ты пришёл в себя. Думаю, опасность для твоей жизни миновала. Слава Христу!
Гида размашисто положила крест, затем перекрестила и своего болящего первенца.
Она села на стульчик возле лавки. Мстислав начал было говорить:
– Здорово ж меня медведь подрал!..
Мать решительно оборвала его:
– Молчи покуда! Нельзя тебе много говорить. Кровь пойти может. И не поворачивайся, на спине лежи!
Всё же Мстислав рассказал ей о своём видении.
– Это святой целитель Пантелеймон! Он тебя вылечил, сын, – заметила Гида. – Не напрасно молилась я дни и ночи. Внял Господь!
Позже, когда Мстислав начал уже понемногу вставать с постели и ходить, узнал он, что от удара медвежьей лапы у него выворотило наружу все кишки. Воистину, случилось чудо, что он остался жив.
«Нет, хватит с меня сих охот! Вот так погибнуть глупо! – простучала в голове мысль. – Бог послал мне знак, предупрежденье, дал понять: не стоит разменивать жизнь на дела мелкие. Уберёг он меня, сохранил для дел больших».
Потом Христина рассказала ему:
– Мать твоя, она тебя выходила. Ни я и никто другой не смог бы. Сама она тебе живот зашивала, сама внутренности укладывала. Говорила, не раз приходилось раненых исцелять. Твёрдая она, твоя мать. Я бы такой матерью гордилась!
Упав в горнице перед Гидой на колени, князь растрогался и разрыдался.
– Не меня благодари, но Бога. И Пантелеймона-целителя. Я что?! – Гида грустно усмехнулась. – Женщина земная суть.
Мстислав расцеловал сухонькие маленькие материнские руки, все в голубых прожилках. Что бы там она ни говорила, а вот они, руки эти, и спасли ему жизнь.
Поперёк живота у него теперь протянулся глубокий багровый шрам, надвое разрезавший пуп. По обе стороны от него пролегли несколько шрамов поменьше – то были следы от медвежьих когтей.
– Тогда, на ловах-то, Олекса с посадником Павлом тебя из-под зверя вытащили да кишки твои сложили и от грязи очистили, – заметила Гида. – Их благодари. Медведя же боярин Гюрята заколол. Говорит, непростой тот медведь был. Двух смердов княжеских из окрестных сёл задрал. Людоед, иным словом.
– Я, матушка, свечку в соборе Софии поставлю. И молитву прочту. И церковь в честь святого Пантелеймона возвести велю.
– Церковь поставить – дело доброе, сын, – согласилась, одобрительно кивнув головой в чёрном повойнике, княгиня-мать. – Только я об ином думала. Вон Христина твоя на сносях опять. Если мальчика родит, нареки его в честь святого целителя. Чтоб охранял его от бед и напастей…
Когда в скором времени родился у Мстислава и Христины второй сын, Изяслав, дали ему крестильное имя Пантелеймон, как и хотела княгиня-мать.
Гида любила подолгу держать на руках крохотного младенца и с радостной улыбкой вглядываться в его личико.
– Князь вырастет. Воин, правитель, – частенько говаривала она, качая малыша.
Глава 16
В месяце апреле, когда растаяли под лучами тёплого вешнего солнца снега, освободились ото льда бурные славянские реки, на деревьях появились листочки, колышущиеся под порывами холодного ещё порой ветра, на лугах зеленели первые стебельки молодой травы, а по дорогам бежали звонкие журчащие ручьи, спешил в Великий Новгород из Переяславля молодой воин. Ехал быстро, рысью, часто менял коней на постоялых дворах: заметно было, что везёт некую важную весть. Воин, видно, был не из бедных – облачён он был в голубого цвета плащ из дорогого сукна с серебряной застёжкой-фибулой у плеча. Под плащом поблёскивал панцирь из гладких булатных пластин, голову покрывала розовая шапка с широкой меховой опушкой, ноги же обуты были в жёлтые сафьяновые сапоги. На надетом через плечо ремне висела сума из тиснёной кожи, в каких обычно гонцы возили важные грамоты.
Воину, наверное, не было и двадцати лет – выглядел он очень молодо, и только-только начинала расти у него на лице жесткая русая бородёнка.
На вопросы встречных ратник отвечал коротко, говорил лишь, что едет в Новгород ко князю Мстиславу, а более сказать ничего не смеет, князь Владимир не велел.
Меж тем следом за странным этим воином уже скакали по земле гонцы с вестью о великой победе, одержанной русскими войсками над половцами на берегах реки Молочной. Где течёт такая речка, люди толком не знали, разве какой купец вспоминал: да, вроде есть такая речушка, впадает в Сурожское море[101]101
Сурожское море – Азовское море.
[Закрыть]; но только и ходили в те дни разговоры, что об этой реке, о битве, которая приключилась близ неё, да о ратной славе русских витязей.
Мо́лодец тем временем добрался до новгородских застав за Смоленском, на попутной купецкой ладье миновал разлившуюся Ловать, Ильмень и спустя несколько дней очутился в Городище, у князя Мстислава…
– Из Переяславля, говоришь? – спросил, пристально рассматривая молодца, Мстислав. – Грамоту отца привёз? Что ж, лепо, лепо. А на словах князь Владимир ничего тебе передать не повелел? В грамоте-то токмо о битве с погаными. Ты сам-то в бою был?
– Был, княже. – Гонец улыбнулся. – Помог Господь, посекли супостатов.
– Знаю, – коротко отрезал Мстислав. – Знаю, что посекли. Ты мне скажи лучше, откудова сам будешь? Как звать тебя?
– Зовут меня Велемиром, а родом я с Нова города. Отец мой – боярин Гюрята Рогович.
– Вот как! – удивился князь. – То-то, гляжу я, вроде похож ты на боярина Гюряту. Давно служишь в дружине переяславской?
– Да третий год, княже.
– Сколько ж тебе лет?
– Осьмнадцать. – Юноша в смущении опустил голову.
– Ну вот что, добрый молодец, – с усмешкой промолвил Мстислав. – Гляжу, притомился ты вельми с дороги. Отдохни в гриднице[102]102
Гридница – помещение в княжеском тереме, где жили гридни.
[Закрыть], а после прошу за стол. Угощу брашном, вином добрым, олом. Тамо за столом с гусляром Олексой, другом моим, и побаим о сече.
Велемир не стал противиться и направил стопы в гридницу. Снял и положил на ларь у изголовья плащ, стянул с плеч кольчугу, отстегнул широкий пояс с серебряной бляхой, рядом с одеждой поместил меч в украшенных чеканкой ножнах, разулся и, чувствуя подступающую к телу усталость, растянулся на жёстком ложе.
Но спать молодцу так и не пришлось: взволнованный необычайной вестью, в гридницу ворвался Олекса.
Давно уже юный гусляр мечтал прославиться, принести хоть какую-нибудь пользу людям, заняться большим, достойным мужа делом. Совсем наскучила ему жизнь в княжьем тереме, казавшаяся пустой, никчемной, он уже терял веру в себя, в свои силы, в возможность что-либо изменить в этой унылой однообразной жизни, и вот вдруг судьба уготовила ему встречу с таким необычным человеком, ещё столь молодым, но уже сумевшим найти своё дело, стать знатным, добрым воином.
Задыхаясь от волнения, Олекса растолкал гонца и решительно потребовал:
– Расскажи, друже, что на Молочной реце было.
Велемир, несмотря на усталость, с готовностью принялся рассказывать:
– Ну, пошли рати по Днепру, пешцы – на ладьях, ну а мы, комонные, – вдоль брега. До порогов за малым не дошли, остановились, ладьи ко брегу пристали. Ну, стояли тамо день, выгружали с ладей полти мяса да снедь разноличную, складывали в обозы. Потом пошли посуху в степь. Я сам в переяславской молодшей дружине шёл, под началом воеводы Дмитра Иворовича. Четыре дня по степи ехали, а после вызвал князь Владимир сына своего Ярополка в шатёр и повелел ему со смолянами да с ростовцами идти на сторожу половецкую. В стороже у поганых был хан Алтунопа, он у них славился особливо уменьем ратным да хитростью. Но воевода Дмитр и князь Ярополк обхитрили лукавого хана: обступили его рать со всех сторон так, что он сперва и не приметил. Ни один поганин из сторожи живым не ушёл – всех посекли наши. К полудню воротился Ярополк к отцу, и радость велика была во всём войске. Князья собрались на совет, измыслили идти дальше на ворога. На реце на Молочной стали лагерем. А поутру, как светать начало, – я в дозоре тогда стоял, – гляжу, поганые идут. Ну, поднялась наша рать, стали пешцы стеною. Князья хитро измыслили: пешцев в чело поставили, а на крыльях – конные дружины. Поганые-то всем скопом на пешцев ударили, да не тут-то было. Будто о каменную стену, лбы себе порасшибали. Ну а мы всё стоим и стоим. Надоело уж: тут сеча идёт, сабли, мечи сверкают, аж кровь кипит в жилах, а ты стоишь без дела. Но вот, гляжу, подозвал к себе князь Владимир воеводу Дмитра, сказал ему что-то тихо, воевода тотчас мечом взмахнул, – ну тут-то уж мы понеслись! Зла и люта была сеча. Невесть сколько народу сгинуло, и наших, и половчан. Двадцать ханов в сече пало, а одного, Бельдюза, в полон притащили. Ну, князь Владимир велел зарубить его.
– А ты сам-то скольких поганых убил?! – восхищённо взирая на могучие плечи русоволосого молодца, спросил Олекса.
– Да уж и не припомню. Одного в полон взял – могуч был, супостат, коня подо мной убил. Я уж его пешим взял: саблю из десницы выбил, свой меч к горлу приставил, он и сдался. Оказалось, торчин, друг Боняков. Сказывают, в прошлое лето споймал его киевский воевода в Торческе, да свои, торки, выкупили у князя Святополка за пять гривен сребра. Он опять к половчинам-то и прибился. Метагаем звать сего торчина. Ну, велел я ему идти за собой следом, а он из голенища нож кривой выхватил и сзади на меня наскочил. Да ударить не поспел – воевода Дмитр его палицей по голове съездил, так и растянулся торчин. Мыслили, уж тут ему и конец, ан нет, живуч, сын собачий. Оклемался, ныне в порубе у воеводы сидит.
– Вельми занятно повестуешь ты! – воскликнул Олекса. – Ну а дальше-то что?
– А что дальше? – пожал плечами Велемир. – Дальше воротились мы ко Днепру, оттудова к Переяславлю пошли. В Переяславле пир был, певец Ходына песнь славную сложил.
– Ходына?! – Олекса вскочил со скамьи. – Друг мой Ходына! Он что, тоже бился?
– Да нет. Какой из него ратник? Он иным славен – песнями. Поёт – заслушаешься!
– Ох, верно се! – молвил со вздохом гусляр. – Лучше его не сыскать ныне на Руси певца. И он, и ты, и князья наши, и воеводы, и пешцы – все похвалы достойны. Один я, – Олекса снова тяжело вздохнул и горестно махнул рукой, – сижу здесь, ем, пью с княжого стола, а ни разу и поганого-то в лицо не видал. Буду просить князя Мстислава, отпустил бы меня в дружину ко князю Владимиру. Что здесь киснуть? А ещё скажу: полюбился ты мне, хлопец. Как послушал тебя, легко на сердце стало. Ведаю теперь, что мне надобно. Сесть бы на коня да мчать на ворога.
– Так, может, и вместе поедем, – улыбнулся Велемир. – Я ведь в Новгород ненадолго. Отца, мать, брата малого навещу, да и в обратный путь. Скакал сюда, неведомо сколько коней сменил на пути, торопил меня с грамотой князь Владимир. Уж никому о грамоте не говорил, думал: тайное в ней что. Ну а оказалось – то же, что у всех на устах: про битву, про победу нашу.
Олекса кивал головой и тихо повторял раз за разом:
– Буду, буду просить князя Мстислава.
…Мстислав, когда выслушал Олексовы мольбы, разгневался, заходил по горнице из угла в угол, заговорил, размахивая в возбуждении руками:
– Длани у тебя чешутся, что ль?! Али иных дел у нас в Новом городе мало?! Зимой, глядишь, на чудь в поход соберусь, на емь[103]103
Емь – одно из финских племён.
[Закрыть] тоже ходить придётся. Может, и ко свеям, душе любезным родичам, загляну. Попирую у них в Сигтуне. Вот сколь дел ратных! А ты всё – поганые да поганые! Без тебя с ними управятся. Уже управились – слыхал ведь, что Велемир баит?
– Слыхал, княже, – опустив голову, вымолвил Олекса.
Вопреки доводам князя, он продолжал упрямо стоять на своём:
– Токмо, сказывал мне Велемир, многие ещё ханы живы, многие с Шаруканом на Дон утекли, а на Днепре Боняк со своими ордами хоронится, ждёт часа удобного, дабы набег учинить.
– А аще голову свою сложишь?! Да тебе б… – Мстислав вздохнул. – Песни б слагать. А по полям бранным рыскать – то пускай Велемир.
– А я что ж, сидеть и ждать буду, покуда он всех поганых иссечёт?! – в сердцах выпалил Олекса. – Я тоже хощу подвигом ратным имя своё ославить! И землю родную оборонить хощу! Не могу боле глядеть со стороны, как иные кровь льют, да есть сытно, да пить! Не могу, князь!
Словно из самых глубин души вырвались последние Олексовы слова. Мстислав нахмурил чело, замер, потом пристально оглядел гусляра с ног до головы и, сокрушённо махнув на него рукой, сказал:
– Что ж, езжай, коли не можешь. Зла держать на тебя не стану. Иди, ступай с очей моих.
– Тяжко прощаться с тобою, княже, но прости меня, Бога ради, не могу по-иному. – По щеке Олексы покатилась крупная слеза.
Мстислав обнял гусляра за плечи.
– И мне тяжко, – сказал он, кивая головой. – Но ведаю: не удержишь тебя. Ты, аки птица вольная, Олекса. Храни тебя Господь.
Князь троекратно перекрестил Олексу и, тяжко вздохнув, вышел из горницы.
…Всё же Мстислав под разными предлогами продержал Олексу с Велемиром в Новгороде до осени, и только когда уже наступили Симеоны-летопроводцы, наконец, распростился с гусляром, этим единственным так хорошо понимавшим его человеком.
Неужели, думалось князю, никогда более не придётся ему слушать звон Олексовых гуслей, тонкий голос певца, никогда не сможет он поделиться с другом, поведать ему о самом сокровенном, обо всём, что только есть на душе.
Он долго стоял в молчании на крыльце, смотря вслед двоим всадникам, которые медленно ехали вдоль волховского берега.
Что ждёт его, Мстислава, впереди? Холод одиночества, отчуждённость от людей, замкнутость? А может, так и должно было случиться? Может, все великие воистину обречены на одиночество; те, кто стоят над людьми, должны быть одиноки?
Мстиславу не хотелось, очень не хотелось такого, но он понимал, что это правда, и лишь молил Бога, дабы уберёг он молодца Олексу от вражьей сабли и аркана, от гибели и беды, наполнил жизнь его подвигами, победами, славой. И ещё, чтоб пусть хоть на день, хоть на миг, хоть единожды пересеклись в грядущем их дороги, чтоб встретились они, князь и гусляр, через много-много лет, чтоб вспомнили дни своей юности и чтоб спел ему Олекса звонким своим голосом печальную песнь.








