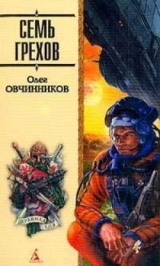
Текст книги "Семь грехов радуги"
Автор книги: Олег Овчинников
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– И организма, и души. Это тебе не мантра рэйкистов, избавляющая от запора: «Я легко и непринужденно расстаюсь с тем, что мне больше не нужно», – процитировал писатель. – Это всерьез… Очищение через покаяние. Покаяние и прощение.
– Ты хочешь сказать, что старушка…
Писательские усы весело встопорщились.
– Будет теперь гоняться за вами как пиковая дама за Германом. Копирайт – Пушкин. И не успокоится, пока один из вас – вернее всего, тот, кто задал вопрос про сектоида и услышал в ответ неправду – не скажет ей: «Ладно, бабуль, прощаю! С кем не бывает…» В метро будет подстерегать, в подъезде под дверью стоять, по ночам сниться… – Игната явно забавляла ситуация.
А вот мне внезапно стало не смешно. Вспомнился вчерашний дурацкий сон, в котором синие губы тоскливо шептали: «Отпусти, сними с души грех», наполнился мрачным смыслом.
– Уже… – сказал я. Извлек из стакана ложечку, облизал и поднес к лицу. Из мельхиоровой вогнутости ложки глянул прямо на меня настороженный округлившийся глаз. – Уже снится… Но почему мне? Нам… Мало, что ли, других людей? Подойди к любому на улице, попроси прощения… – Глаз в ложке наконец-то моргнул. Я тоже поморгал и потряс головой, собираясь с мыслями. – К доброму самаритянину, например.
– Вот тут ты прав, – заметил Игнат. – Не во всем, разумеется, но в том, что касается сектоида. Уборщица несомненно знает его лучше, чем пыталась показать, это у нее на лице написано. Не исключено, что как раз сейчас она собирается нажаловаться своему наставнику на трех молодых людей, которые довели старую до греха и бросили. На твоем месте, имей я нужные связи, я попробовал бы проследить за ней.
Под нужными связями, надо полагать, Игнат подразумевал Пал Михалыча. Ну-ну… Я буквально услышал объявление, передаваемое по «громкой связи». «Внимание, всем постам! Задержать синюю старушку. Повторяю…»
– Не знаю, возможно у сектоида, которого ты называешь самаритянином, в этом плане больше возможностей, чем у простых смертных, другой, так сказать level of experience, – размышлял Игнат. – Но вообще-то прощать должен именно тот, кого обидели. И каяться имеет смысл лишь перед ним, никто другой не поможет согрешившему, таковы правила.
Сектоид… experience… правила… Я позволил себе осторожный упрек:
– Ты говоришь обо всем этом как о компьютерной игрушке.
– Естественно, – спокойно реагировал Игнат. – Что еще, по-твоему, представляет собой наша жизнь? – Он с намеком развернулся вполоборота и по-совиному подмигнул.
– Легко считать жизнь игрой, сидя в безопасности на трибуне, попивая пиво.
– Отчего же на трибуне? – В серых глазах писателя вспыхнули огоньки, но отнюдь не веселья. – Мы обабыли там, – строго сказал он. – Слушали проповедь, благоразумно воздерживались от угощений, шевелили большим пальцем ноги в ботинке, чтобы не поддаться гипнозу. И тем не менее оказались на игровом поле. Оба, яи ты. Разница лишь в том, что я уже отбил свой первый мяч, а ты еще не дождался паса.
– Первый мяч? – Как это часто бывает, смысл высказывания собеседника дошел до меня чуть позже, чем был задан ненужный вопрос.
Игнат ответил не сразу. Сначала он встал и, сделав два шага к окну, прислонился лбом к прохладному стеклу. По взлетному полю весенней непроснувшейся мухой полз самолет – медленно, безнадежно, как будто и не надеясь взлететь. Не думаю, что Игнат видел его. Мне кажется, в тот момент он не замечал ничего, кроме собственных мыслей.
Писатель еще не раскрыл рта, а мне уже заранее не нравилось то, что он собирается сказать. Хотелось заткнуть пальцами уши, или спросить Игната о его творческих планах, или даже встать и уйти, потому что было что-то в его расслабленной позе и в том, как настойчиво он подчеркнул это «я и ты» – что-то, внушающее беспокойство. Некая обреченность…
Да, да, обреченность!
Не знаю, как кто, но я лично именно с этим чувством всякий раз встречаю свой день рождения. Вернее сказать, провожаю еще один год жизни, прошедший зря или мимо.
Я не оправдываю иеговистов. Это деструктивный культ, и по степени вредоносности «Свидетели Иеговы» стоят в одном ряду с сайентологами и мунитами, но с одним пунктом их фальшивой, за уши притянутой доктрины я, пожалуй, готов согласиться. А именно: никаких личных праздников! Особенно дней рождения…
Естественно, в детстве и ранней юности все воспринималось несколько иначе: было волнующее предвкушение праздника, душа, как говорится, ждала… кого-нибудь. Копирайт сам знаешь, чей.
Помнится, на собственное двенадцатилетие я даже накропал пяток жалких зарифмованных строчек, что-то вроде:
– Я на пороге жизни новой
И вот стою пред ним, готовый
Переступить сию черту,
Чтобы стрелой взмыть в высоту
Или погибнуть, право слово…
Все, можно смеяться. И мне не смешно – стыдно! Какой порог? Какая, к черту, черта? Двадцать восемь лет, а ты до сих пор не взмыл, как какой-нибудь Лермонтов. И даже не погиб, как он же.
Так что последнее время… последние, скажем, лет десять – только тупая обреченность вместо приятного томления и оптимистических планов. День рожденья, как в одной детской песне поется, грустный праздник, про который я бы с радостью в этот раз и не вспомнил, но зачем еще нужны старые друзья, как не для того, чтобы напоминать нам о грустных праздниках? Ты торт-то отрезай, не стесняйся…
Хорошо еще, что этих, напоминающих, становится с годами все меньше. Меньше немытой посуды в мойке, меньше голова болит наутро. Тем более, что утром я как раз собирался встать пораньше. Пороги порогами, но от некоторых обывательских привычек мне так и не удалось избавиться. А именно: все новые начинания приурочивать к началу трудовой недели. Или месяца. Или года. Очередного года жизни.
В общем, поднялся ни свет ни заря, чтобы отвезти рукопись в издательство. Мысль была: если вдруг не обломится, получится неплохой подарок самому себе на день рождения.
Нет, что ты, не настолько я оперативен. Рукопись все та же, это издательство другое.
Одним словом, встал, чаю выпил, проник в автобус. Даже место козырное занял – хоть стоя, зато под лампочкой. Охваченные утренним сенсорным голодом интеллигенты слетаются на этот свет, как мотыльки. Освещение, конечно, слабое, можно сказать, аварийное, но линия судьбы, например, на ладони отчетливо просматривается. Так себе, кстати, линия, сплошная «не судьба»… И все же книжку я достать не рискнул. Затопчут! Народ у нас простой, работящий, шибко грамотных не любит.
В общем, стою, обеими руками за поручень держусь, чтобы не вылететь на вираже, борюсь с внутренним монологом, смотрю в окно. На иномарки поглядываю свысока, на водителей грузовиков – как на равных, соседей по автобусу стараюсь по возможности игнорировать. Изучаю надписи на рекламных щитах, нависающих над шоссе наподобие баскетбольных, только без корзины для мяча. «Водитель! Смотри на дорогу!» на одном написано. На другом – «В случае аварии, повлекшей за собой…» Быстро проехали, не дочитал. Вот березка мелькнула в просвете между вечнозелеными противошумными барьерами, установленными вдоль обочины. Сам собой родился слоган для плаката: «Убей графомана! В себе. Спаси дерево». Веселей однако не стало.
И тут примерно в метре, то есть, через два человека от меня началось какое-то шебуршение. Я шею вывернул, смотрю – деду какому-то плохо стало: глаза закрыл, за левую грудь держится. Его конечно, сразу усадили, сгрудились вокруг, так что рядом со мной пустое место образовалось, просторней стало. Бросились открывать окна, чуть не повыдавливали от усердия, сразу холодно стало как в реанимации. Советы наперебой дают, «Есть здесь врач?» выкрикивают, пенсионерки по сумкам шарят валидол с нитроглицерином. Я не вмешиваюсь, медицинского образования у меня нет, сердечных капель тоже, стою на месте, не увеличиваю сутолоку. Справились без меня: дали две таблетки под язык, немного успокоились. Выкрики прекратились, только негромкие слова сочувствия и обсуждение «таких же случаев». Дед глаза открыл, отходит.
Толпа отхлынула, распределилась ровнее, снова стало тесно. Едем.
Минут десять мимо поста экс-ГАИ проезжали, там где машины с четырехполоски в колонну по одному выстраиваются… В общем, только через полчаса дотряслись до «Северо-восточной».
Я выскочил из последней двери, глянул на часы на столбе. Минутная стрелка торчит вбок, как перекладина у висельницы, намекает: опоздаешь, плохо будет. Ну я и припустил. Тут из средней двери дед выходит, которому плохо было. Не сам выходит, какая-то старушка его под руку поддерживает, видно, так и не стало деду хорошо. Старушка кричит: «Помогите, пожалуйста, кто-нибудь! Хотя бы поддержите!» – но куда там! Пассажиры, еле дождавшись, пока дед с бабкой выберутся из автобуса, высыпают следом и быстрым шагом, обтекая с двух сторон застывшую посреди тротуара престарелую парочку, спешат к метро. А я иду среди них, окруженный с четырех сторон, как подконвойный арестант, и думаю, куда же ваша доброта подевалась? Неужели только от скуки, от вынужденного безделья возникает в вас желание помочь ближнему? Поделиться бесплатным советом или «запаской» из припрятанной у сердца склянки? А стоит измениться ситуации – и вы немедленно вспоминаете о «делах поважнее»?
Ну ладно я – я действительно опаздываю на встречу, очень важную – с главным редактором издательства. А авторам вроде меня, тем которые «без имени», лучше не заставлять редактора ждать, если они, конечно, надеются когда-нибудь увидеть свою фамилию на обложке. Особенно не рекомендуется опаздывать на первую, заранее назначенную встречу, когда так важно произвести на редактора благоприятное впечатление, чтобы он запомнил, прочитал, оценил по достоинству… И вышла бы книга, в которой за гладкой лепниной слов и незатейливыми обоями сюжета скрывались бы, подстерегая расслабившегося, утратившегося бдительность читателя, острые занозы вечных истин, которые незаметно проникали бы ему под кожу и цепляли за душу. Чтобы со временем сделать лучше. Излечить от глупости, тупости, ханжества… Совершенно верно, и чванства, и много чего еще. А вместо них наполнить читательское сердце добром, сочувствием… Заботой о ближнем… Уважением к старшим…
Так думаю я, шагая мимо ларьков с пивом и бабушек с пережившими восьмое марта тюльпанами ко входу в метро, и с каждой новой мыслью шаги мои становятся короче. Но остановиться совсем мне не дают. Кто-то подталкивает в спину, кто-то спрашивает по-доброму: «Ну, что застрял?» – и я иду дальше.
Господи, что же я делаю? – думаю я и придерживаю прозрачную дверь с надписью «ВХОД» перед мужчиной с большой коробкой. – Если все это так… Я имею в виду, если это не простое кокетство, если я действительно хочу именно этого, то как же я могу… – думаю и ковыляю вниз по лестнице, прижимая обеими руками сумку с колесиками; хозяйка сумки семенит следом. – И нет у меня, получается, не может быть никаких более важных дел, чем… – Бесполезные колесики путаются в ногах, цепляются и пачкают штанины. Жутко раздражают, но злюсь я не на них. – Занят он, смотри ты! Бааальшой человек, в издательство торопится, ни минутки свободной нет. Как же, писатель! Интеллигент… то есть, прошу прощения, интеллектуал! Белая косточка! Голубая кровь!.. – думаю и протягиваю пластиковую карточку в приемную щель турникета.
И вдруг замечаю… без ужаса, без особого удивления… я так себя успел накрутить к тому моменту, что воспринял случившееся с жестокой самоиронией, с некоторым даже злорадством… Смотрю – не только кровь у меня голубая, но и пальцы, и кисти, и ногти, а если закатать рукав, то… И тут меня словно накрыло что-то, или наоборот, заполнило изнутри, даже в глазах потемнело.
Да, это я сейчас понял, что глаза тоже… А тогда…
– Голубая кровь! – повторил я вслух, так что несколько человек, оказавшихся поблизости, обернулись ко мне и в испуге попятились. А я бросился назад, к выходу, быстро, но не опрометью, чтобы, ни дай бог, никого не сбить по дороге. Но встречные сами расступались передо мной. Только один мальчишка лет четырех встал на пути, распахнул глазищи на пол-лица, и спросил: «Мама, а это про таких дядей папа говорил, что они…», прежде чем мать сообразила оттащить его в сторону.
Старика я нашел на автобусной остановке. Сидел, прислонившись к грязному стеклу, тяжело дышал. Старушка-попутчица была рядом. Больше – никого. Она сначала шарахнулась от меня, руками замахала, а дед не заметил ничего: глаза закрыты, да и не в том он был состоянии.
Я извинился перед ним, спросил у бабушки, что нужно делать. Она успокоилась чуть-чуть, только смотрела во все глаза. Сбегал к киоску за теплой минералкой без газа. Отобрал у какого-то шкета с мороженым мобильник, на ходу вызвал «скорую». А он шел метрах в трех позади и ныл, что и сам бы позвонил, зачем руками-то? Руками-то зачем? И так противно это у него выходило, что я не выдержал, с разворота швырнул ему его липкий мобильник и спросил страшным голосом: «А ты не боишься, мальчик, что это заразно?» «Что заразно-то?» – спросил он и остановился. «А это…» – говорю и руки к нему протягиваю ладонями вверх. Он взглянул как на идиота и быстро, быстро удалился. Я гляжу на свою ладонь, а она как раньше… Все прошло. Даже линия судьбы осталась такая же – куцая… Сплошная «не судьба».
Но особо раздумывать об этом было некогда: «скорая» застряла на развороте, притиснутая двумя маршрутками, пришлось транспортировать старика до машины. Потом организовывать «рассос пробки» вручную. Потом… было что-то потом…
А вот о наглядном греховедении, верь не верь, я не вспомнил ни разу. И не от страха я решил тогда вернуться, не из желания выпросить для себя прощение. Просто потребность испытывал сильную хотя бы раз в жизни сделать что-нибудь правильнои до конца.
Я выждал полминуты, предоставляя писателю возможность вдоволь намолчаться, и спросил:
– Это случилось с тобой вчера утром?
– Вчера. – Игнат кивнул, и оконное стекло отозвалось коротким дребезжащим звуком.
– Но чай во время проповеди ты… не пил?
Я прекрасно знал ответ и тем не менее спросил. Я по жизни задаю чертовски много ненужных вопросов. Особенно сегодня.
Зачем я вообще сюда приехал? Что надеялся выяснить?
Только не это!
– Не пил. – Игнат покачал головой. – Ты правильно догадался, чай тут ни при чем. Здесь что-то другое… – И, предвосхитив новый ненужный вопрос, добавил: – Я не представляю, что это может быть. Слишком уж фантастично оно действует.
– Получается, со мной тоже…
Я не решился продолжить. Потер виски указательными пальцами. В горле было сухо, в чашке – пусто.
– Еще чаю? – угадал хозяин. В его взгляде, когда он развернулся от окна, я заметил сочувствие.
– Хуже всего, – размышлял Игнат, совершая манипуляции с чайниками, – что я так и не решил, как к этому относиться. С одной стороны, казалось бы, вот оно – средство сделать человека лучше. Причем средство действенное, в отличие от наивных книжиц с поучительным подтекстом, высокоэффективное. Срабатывает почти мгновенно, как граната. И с той же примерно силой воздействия. По крайней мере мне по первому разу так показалось. Но с другой стороны… Я забыл, ты с сахаром?
– А? – встрепенулся я. И, сообразив, ответил: – Спасибо, без.
– Так вот, с другой стороны, – продолжал Игнат, выставляя на стол дымящиеся чашки, – когда человека насильно стараются сделать лучше, получается, как правило, наоборот. Ведь это насилие, согласись. Способность, которую мы с тобой приобрели… а вернее сказать, свойство, поскольку его проявление никак не зависит от нашей воли, так вот, это свойство – безусловно дар, но разве мы о нем просили? Я не просил, ты тоже…
– Ну я-то, может, все-таки… – слабо запротестовал я.
Писатель посмотрел на меня в упор. Уже не с сочувствием – с жалостью.
– Хотел бы я тебя успокоить, – сказал он, – но боюсь посинеть лицом. Скорее всего, зацепило нас всех. Всех, кто позавчера ближе к вечеру оказался в малом концертном зале Центрального Дома Энергетика. Обидней, если накрыло только первые три ряда. – Игнат усмехнулся. – Или не обидней, наоборот… – Он закусил губу и пожаловался потолку: – Не могу решить!.. Я не представляю, на что это может быть похоже, каков его механизм действия. Что это – продвинутый гипноз? Излучение? Вирус? Не могу понять… И это пугает, очень пугает…
А я молчал, тупо наблюдая, как мои пальцы снова и снова пытаются подцепить с поверхности стола чайную ложечку, такую скользкую, такую…
Поймите, я не собираюсь никого убивать в ближайшее время или обворовывать, я редко говорю неправду и последнее, в чем меня можно обвинить – это пустословие. И все-таки…
Когда нечто подобное происходит на ваших глазах с малознакомой уборщицей или с тем же писателем, словом, с кем-то посторонним, это может вызвать жалость или оставить равнодушным, может даже позабавить, но по-настоящему не трогает. Не задевает за живое.
И этой ночью, когда у Маришки случился рецидив, когда я понял, что ничего не кончилось, что этов любой момент может вернуться, я все равно не испытал того ужаса, как тогда на дрожащем от ветра мосту. Напротив, меня посетила успокоительная как укол новокаина мысль: «Мы что-нибудь придумаем. Вместе. Маришка изменится. Она будет стараться изо всех сил, чтобы избежать повторных приступов. А я буду рядом. Всегда. Спокойный и сильный, как скала. Я буду заботитьсяо ней». Мысль теплая, незлая, эгоистичная…
Эх, знать бы, кто теперь позаботится обо мне…
– Плохо? – спросил писатель.
Тени плясали на столе: Игнат, возвращаясь с чаем, задел головой свисающую с потолка лампочку; и от этого казалось, что раскачивается сам стол и предметы на нем.
– Да, – признался я. – Такое ощущение, что реальность уплывает куда-то. Как будто там, за стенами рушится мир, а мы сидим здесь в безопасности…
– На трибуне! – Игнат неожиданно подмигнул. – Чаек попиваем за неимением пива… – Он встряхнул меня за плечо. – Проснись! Мир уже пять дней как рухнул! В строго отведенном для этого месте, где-то в районе Тихого океана.
– Смешно, – констатировал я, как только до меня дошло, что речь идет всего-навсего о затопленной космической станции. Подкрепить слова улыбкой не было ни сил, ни желания. Мысли, как бревна по мокрому склону, уныло скатывались в одну сторону: – Зачем?! Зачем я туда пошел? И на что купился, главное? На календарик!
– Не ты один…
Писатель оторвался от табуретки, потянул с холодильника книжку в белой мягкой обложке… Нет, вовсе без обложки, просто на первой странице, такой же, как остальные, было напечатано название и имя автора. Качество печати оставляло желать…
Книжка остро напомнила мне начало девяностых, эпоху гласности и уцененных матричных принтеров, когда подобными самопальными брошюрками пестрели многочисленные лотки в переходах метро.
– Самиздат? – спросил я.
– Не знаю. Наверное: я купил ее всего за десять рублей. Но тексты встречаются очень любопытные… – Игнат в задумчивости перелистнул пару страниц. – Да, закладка досталась мне в нагрузку.
Между страницами примерно в середине книги торчал уголок знакомой – до боли в сжатых челюстях! – радужной бумажной полоски.
– Как? И у тебя? – Я нетерпеливо потянул за краешек, оставляя писателя без закладки. – Откуда?
– Я же говорю, приобрел вместе с книгой. В прошлую субботу, на книжном рынке в «Игровом».
– А у кого? – Неясная надежда заставила закладку с моей руке затрепетать.
– У мужика одного, – пожал плечами Игнат. – Он такой… Неопрятный, кажется нерусский. И говорит очень странно… Предложите разрешить, говорит. Да я и до того пару раз его там видел…
– И ты молчал!
Я вскочил на ноги и это доставило мне удовольствие. Хоть какое-то действие, а действовать в данной ситуации было гораздо лучше, чем сидеть и медленно увязать в болоте мрачных мыслей.
– А что? – напрягся писатель.
– Так, – сказал я. – Сегодня рынок работает?
– Сегодня вторник? Должен…
– До скольки?
– До двух, наверное. А что такое?
– А сейчас… – Я бросил взгляд на настенные часы, совсем забыв, что они стоят. Секундная стрелка дернулась, но не сдвинулась с места. Нервный «тик», но где же «так»? – Мы успеваем?
– Не исключено. – Писатель сверился с наручными.
– От тебя до рынка… – я прикинул, – часа два?
– От меня до любого места часа два. Минимум.
– А если на такси?
– Дешевле уж на самолете, – невесело пошутил Игнат. – А к чему такая спешка?
– Нам нужно поговорить с этим… распространителем. Задать кое-какие вопросы.
– Нам? – Писатель в задумчивости посмотрел в окно. Видно было, что ему не очень хочется сменить клетчатый домашний халат на демисезонную одежду. Но я был непреклонен и, строго глядя в глаза, ответил «Да», поскольку лишь в общих чертах представлял, какие именно вопросы собираюсь задать «раздатчику закладок» и право сформулировать их с радостью уступил бы кому-нибудь другому. Кому-нибудь более профессиональному.
– Хорошо, – согласился писатель. – Хотя я не думаю, что от этого будет какой-то толк. Даже если тот мужик торгует там каждый день. Даже если он знает интересующие тебя ответы…
Прежде, чем вернуть закладку хозяину, я исподтишка взглянул на слово, напечатанное на голубом фоне. Этим словом оказалось «РАВНОДУШИЕ».
Хорошо, что не «уныние», подумал я. Иначе голубой стал бы естественным цветом для Игната Валерьева.
Да. Это был бы ужас.
Ведь совершенно не ясно, перед кем в таком случае каяться!








