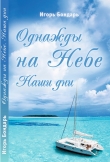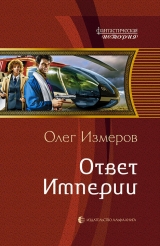
Текст книги "Ответ Империи"
Автор книги: Олег Измеров
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
20. Пленных не брать
– Виктор Сергеевич! – прогудел знакомый хрипловатый голос в трубке, – вам там в выходной работы не подкинули? Можете зайти. Увидите, как сказку делают былью – мы же с вами для этого рождены?
Было десять часов утра. Виктор только что позавтракал и раздумывал, куда же пойти, чтобы не маячить: бездельничать на фоне той части персонала, которая работала в зале для посетителей по скользящему графику, было крайне неудобно.
"Неужели Мозинцев сделал? Или это замануха?" – подумал Виктор накидывая плащ; фляжка с коньяком, которую он вчера забыл вынуть, стукнула о тело. Он достал ее из кармана, и, посмотрев, тут же засунул обратно. В той неизвестности, что простиралась сейчас перед его мысленным взором, этот предмет мог оказаться полезным.
– …Вот тут и тут распишитесь пожалуйста… Теперь минут сорок погуляйте по парку Толстого – можете в Музей Леса зайти или в кафе посидеть – а потом вернетесь ко мне. Видите, ничего тут страшного не происходит.
– Может, я участвую в программе "Розыгрыш"?
– Розыгрыш путевок в жизнь?
– Нет, это телевизионная.
– Не смотрел. Сейчас много каналов, смотреть некогда.
В парке Виктор не стал никуда ходить и просто присел на скамейку возле фонтана «Чертова мельница», главной достопримечательности этого уникального музея скульптур, вырезанных из засохших деревьев; светлая мысль создать такую прекрасную вещь и здесь посетила чьи-то светлые головы. Журчала вода и крутилось мельничное колесо: забавные громадные фигуры и удивленные наивные физиономии чертей, которых хитроумный мужик заставил лить воду на свою мельницу – в прямом и переносном смысле, потому что вода падала из ведер в их руках – все это казалось Виктору иносказанием, символом торжества изобретательности нашего народа над глупостью сильных мира сего.
«Как будто в проявочном пункте снимков жду» – подумал Виктор, разглядывая золотые звезды кленовых листьев, усыпавшие асфальт перед буроватыми брусьями деревянных перил ограждения фонтана. «По крайней мере, одна из подписанных бумажек точно бланк паспорта.» Сидеть показалось холодно – а, может, его начало слегка знобить от волнения – и он прошелся по парку, рассматривая знакомые и отдельные незнакомые резные скульптуры (например, новой была группа «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»), поглазел на аттракционы, возле которых висело объявление, что они работают последние выходные, посмотрел на объявление возле Теремка – сказочная избушка на столбе обещала вечером показать на кассете «Сказ о земле трубчевской» затем постоял возле Музея Леса, но зайти так и не решился, чтобы не потерять счет времени. Шагая обратно к Мозинову, Виктор подумал, не свернуть ли прямо в прокуратуру, которая раньше стояла как раз между парком и этим домом; но, остановившись перед зданием сталинского ампира, Виктор увидел вывески редакций сетевых изданий и понял, что прокуратура переехала в новое здание на Курган. Пришлось двинуться дальше; теперь Виктору казалось, что он не застанет Мозинцева дома, а, может быть, дверь откроют другие люди и скажут, что такой здесь долее не проживает.
Егор Николаевич, однако, оказался на месте и первое, что сделал, пригласив Виктора в кабинет – это протянул ему новенькую, знакомую по старым временам красную книжку с гербом СССР на обложке, страницы которой открывались, как во всех обычных книгах, а не по-календарному, как теперь. Виктор взял документ в руки, оставив на обложке отпечатки вспотевших пальцев.
– Смотрите, проверяйте, все ли так, – произнес Мозинцев с какой-то загадочно-торжественной улыбкой на лице. Виктор перелистал: карточка была на месте, выдан Бежицким РОВД сегодняшним числом взамен утраченного… и так далее.
– Ну вот, видите, как все просто. А с этими реабилитационными не только невесть сколько б крутились – слухи идут, что если у человека не оказывается друзей или родственникам, то забирают на органы или для медицинских опытов, а знакомым говорят, что родственники забрали. Страшные вещи иногда приходится слышать – не всему, конечно, надо верить, но…
– Большое вам спасибо. Сколько я вам должен за хлопоты?
Мозинцев поморщился, словно от приступа зубной боли.
– Ну, перестаньте. Не портите мне торжества момента благодеяния неуместным торгом. Я могу написать "В безвозмездный дар" или просто "На добрую память", но на документах это не принято.
– Тогда может… в честь торжества момента? – и Виктор вынул из кармана фляжку коньяка.
– Вот это вполне, – согласился Мозинцев и поставил на стол рюмки. – На закуску бутербродики с икрой не побрезгуете?
– Ну что вы!
Виктор вдруг подумал, что он, возможно, пьет коньяк в последний раз. «Как там у Высоцкого: но надо выбрать деревянные костюмы? Жаль, что все хорошее так внезапно кончается. Но оно всегда кончается внезапно, и к этому всегда надо быть готовым и встречать достойно.»
Бутылка опустела довольно быстро; Мозинцев не пьянел и не закуривал, зато насчет "а поговорить?" говорил именно он. Политики он, однако, не трогал, и о каких-то перспективах Виктора после получения паспорта не заговаривал. К тому же Егору Николаевичу как раз кто-то позвонил, и он сказал Виктору, что, к сожалению, ему надо ехать к одному знакомому и как-нибудь посидим позже. Виктора это стечение обстоятельств более чем устраивало. Выйдя из подъезда он подставил голову свежему воздуху, вдохнул в себя осень, будто выпил стакан холодной минеральной воды и пошел на остановку "Тройки".
Остановка "Радиотовары" осталась позади; Виктор на всякий случай заглянул в портмоне и проверил, лежит ли там записка с номером ячейки. Троллейбус, весело гудя, катил в сторону Бежицы, и Виктор жадно смотрел то вправо, то влево, словно прощаясь со знакомыми местами.
Он вышел на Молодежной; здесь, через два десятка метров, был дом, где прошло его детство, и куда он вновь попал на служебную квартиру в тридцать восьмом. Виктор подошел к стальной зеленой решетке с прилепленной бумажкой «Окрашено», помахал через нее дому, и, вернувшись, пошел через переход по бульвару мимо детской больницы в сторону шестнадцатой школы. Пройдя немного, он пересек бульвар, словно направляясь к стоявшему на искусственном холме, словно на пьедестале, самому большому кинотеатру области, но, не дойдя, вошел в подъезд на углу серого кирпичного здания и поднялся по неширокой лестнице наверх. Здесь был бежицкий паспортный стол.
Стол работал, народу практически не было, и паспортные барышни скучали за округлыми кремовыми скорлупками мониторов. Виктор подошел к свободному окну.
"Главное, не останавливаться. Как в холодную воду войти."
– Простите, вы бы не могли проверить мой паспорт? У меня что-то такое подозрение, что его подменили на фальшивый.
– А с чего вы решили, что его подменили?
– В троллейбусе рядом тип терся, похожий на карманника, вот и подумалось… На всякий случай.
– Хорошо. Посидите пока на кресле, – ответила девушка и вышла в соседнюю комнату. Виктор покорно сел.
"Интересно, как все будет проистекать? Прибежит наряд милиции? Или в другую комнату позовут?"
– Еремин Виктор Сергеевич, к третьему окну, пожалуйста!
Строгий голос из черной пластмассовой колонки под потолком прервал тревожное ожидание.
– Виктор Сергеевич, – строгим голосом произнесла девушка в окне, – этот паспорт вам выдали сегодня взамен утраченного. Проверка документа подозрений в подлинности не выявила. Если хотите, мы можем по вашему заявлению направить ваш паспорт на лабораторную экспертизу, но это где-то в течение недели. Будете писать заявление?
– Н-нет, – растерянно произнес Виктор, – если вы говорите, что нет оснований, значит, мне, наверное, просто показалось. Извините, что побеспокоил.
– Ничего страшного. У нас сегодня посетителей мало. А у вас, наверное, сегодня праздник был?
– Да. Знаменательный день… Извините.
Виктор поспешил к дверям; на лестнице он чуть не столкнулся с гражданином ниже среднего роста и какой-то невзрачной и обыденной внешности, который, видимо от неожиданности, резко от него отпрянул, загремев металлом перил. Виктор снова пробормотал извинения и быстро сбежал по ступенькам вниз: оказавшись на улице, он потряс головой, чтобы убедиться, что это не сон.
Это был не сон. Его не забрали, и в кармане у него лежал паспорт, который при поверхностном осмотре подозрений не вызывал. Что дальше делать, было непонятно. Способ получения паспорта, ему виделся явно незаконным, тем более, что отговорка типа «все вокруг, а я чем хуже» здесь явно не годилась. Но и улик против Мозинцева у него было абсолютно никаких, тем более, что, похоже, у того были нехилые связи в правоохранительных органах, да и наверняка вариант прихода Виктора в милицию был заранее продуман и просчитан. Здесь нельзя было действовать с кондачка, но как действовать – оставалось неясным. В свое время Виктору разъясняли, что если кто-то начинает ни с того и ни с сего оказывать услуги, добиваясь, чтобы человек, которому их оказывают, чувствовал себя в долгу, это может пахнуть вербовочными мероприятиями. Даже если в данном случае за этим не стояло государственное преступление, то могло быть вовлечение в преступное сообщество. Во всяком случае, бескорыстность мотивов действий Мозинцева Виктору убедительной не казалась.
С другой стороны, если в здешнем УК не было специальной статьи за нарушение порядка получения документа – а слова работников паспортного стола можно было квалифицировать, как свидетельство подлинности оного – то можно было прикинуться дурачком и выиграть время. Дескать, раз можно достать какой товар из-под прилавка, или через третьих лиц, или, скажем, путевку организовать, то почему и документы через знакомых поучить нельзя?
"А здесь, кстати, нельзя из-под прилавка. Интересно, за это привлекают только того, кто пролает, или того, кто покупают, тоже? По логике, от сталинизма этого можно ожидать. Ладно, видно будет. В конце концов, без паспорта положение ничем не лучше."
– Ну вот и отлично, – Иван Анатольевич помахал в воздухе заветным документом, весело барабаня по столу пальцами свободной левой руки, – а то мы уж, грешным делом, думать начали. Кадровик в субботу не выходит, сейчас я спишу все, что нужно, она в понедельник оформит, а вы представите на прописку, это сейчас быстро, и окошко в паспортном до пяти работает. Так… взамен утраченного… серия-номер… военный с собой?
«Тьфу!» – выругал себя мысленно Виктор. «С чего ты взял, что здесь не требуют военный билет и остальные документы? И вообще не спросил, что надо для трудоустройства? Потому что сами предложили? А порядок?»
– Подождите… – Кондратьев полистал паспорт. – А не надо военного, вы же по новому Указу уже сняты с учета по возрасту, так что билет не надо. Трудовую книжку, копию диплома? Или это тоже утрачено?
– Нну… пока еще не восстановили. Я вот получил паспорт, решил сразу к вам занести, чтобы не думали, что жулик какой…
– Угу. – Кондратьев, задумавшись, слегка прикусил нижнюю губу, – сейчас вместе с заявлением будете заполнять анкету, укажете образование и места работы, книжку восстановим заявительным образом. Насчет диплома… В следующем году поставим Вас на аттестацию, так что подучитесь сами месяцев за восемь и подтвердите образование. Вместо характеристики с прежнего места работы зачтем по варианту "прошел вступительные испытания". Завтра съездите с утра в диагностический на Кургане с нашим письмом, там примут анализы и оформят медсправку.
– А он в воскресенье работает?
– Для трудоустраивающихся работает. Народное хозяйство не должно терять время на просиживание граждан за справками. Так что с понедельника уже будете оформлены на постоянную, сначала по ставкам второй категории, потом подымем. Заодно, как приезжий, получите господъемные по ставке "инновационная деятельность", после обеда перечислят из собеса. Ну и в понедельник выйдет профорг, он на Щукина, скинете ему заявление по электронке. Да, вы член партии?
– Беспартийный.
– Значит, пока больше ничего не надо. Теперь о прописке. Временно пропишем вас в общежитии "Электроаппарата", у нас с ними договоренность, только пока фиктивно, потому что они в выходные с местом не решат, на следующей неделе переселитесь в натуре. Я с ними состыкуюсь по электронке. Заявления и анкета, как Вы помните, от руки, вот бумага, ручка.
Писать анкету для Виктора уже было нарушением законодательства, поскольку указать достоверных данных он при всем своем желании никак не мог. Кроме того, рушилась подкинутая Полиной версия о прежних местах работы.
– Какие-то затруднения? – спросил Иван Анатольевич, глядя на то, как Виктор задумчиво смотрит на лист бумаги, на котором уже появились данные о рождении и образовании, сдвинутые на десять лет.
– Да вот… восстанавливаю по памяти. А то вдруг что-то неточно.
– Ну что же с вами делать-то…
Кондратьев повернулся к дисплею и залез в сеть.
– Так, пока пишите, что знаете, – сказал он через пару минут. У нас не "ящик", а на следующей неделе пойду к Локтюку и поговорю насчет исключений. Если разбрасываться людьми с годами работы… На мою ответственность, короче.
– Иван Анатольевич! Не знаю, как и благодарить вас…
– Работой, опытом, идеями и отблагодарите. Вон новичков натаскивать будете.
Нарушения ради производственной необходимости, подумал Виктор. Тот, кто застал советское производство, помнит массу регламентирующих норм и указаний, изменить которые по необходимости было делом сложным, и, во всяком случае, весьма долгим, поскольку любую запятую стремились сделать стандартом министерства – так проще было за нее не отвечать. Это породило в реальном СССР особую промышленную культуру, где эффективный менеджмент держался на системе разумных отступлений от норм и правил. В учебниках были одни законы – в реальности другие, среди которых находилось место и рынку, и закону спроса и предложения, и большим вопросом оставалось то, кто же кем рулит – Госплан предприятиями или предприятия Госпланом. Изучать советскую экономику по учебникам, решениям съездов, публикуемым работам и нормативным документам совершенно бессмысленно, если не знать, как и где от этих документов отступают и как на самом деле принимались решения. Можно сказать, что те, кто руководил советской экономикой, не всегда понимали, как она работает.
Грань между этим миром нарушений ради общего блага и миром нарушений ради своей шкуры была настолько размыта, что даже в ОБХСС не всегда могли разобраться, где кончается одно и начинается другое. В перестройку был создан миф, что все подпольные миллионеры – эффективные собственники; в итоге в нарождающийся класс собственников хлынули деятели, которые всей своей предыдущей жизнью были научены обходить или нарушать законы, но не писать и не принимать их. Имущий класс оказался вообще неспособен договориться в собственной среде и выработать для себя, своего существования какие-либо правила; как за соломинку, класс ухватился за копирование зарубежного законодательства и вручил его государству со словами "Вы тут разберитесь, как это должно работать и действуйте". Государству девяностых более ничего не оставалось, как разобраться со врученными законами капитализма в свою пользу; кроме того, имущий класс, привыкший ходить на красный свет, тут же кинулся только что созданное демократическое государство разлагать и подкупать. В итоге сложилась смешная ситуация, когда экономический базис общества, то есть бизнес, жутко ненавидит чиновников, то есть именно ту надстройку, которую он же и сформировал. И все было бы исправимо, если бы бизнес просто хотел другие правила, другие законы и других чиновников; но бизнес не привык сам себя добровольно ограничивать и вообще не желает для себя никаких правил, никаких законов и никаких чиновников. С другой стороны, и полную анархию имущий класс установить не может, поскольку в нынешней ситуации он не способен опереться ни на один из слоев населения, кроме людей, при исполнении. Вот так этот класс и мечется с мечтами чиновников уничтожить, но так, чтобы одновременно их число приумножить.
То, что в этой реальности Кондратьев шел на отступления от норм, ради того, чтобы получить для кооператива нужного человека, показалось Виктору не совсем понятным. С декларированным принципом совершенствования всего и вся это явно не сходилось. Самым простым объяснением с точки зрения нашей реальности было бы считать, что слова расходятся с делом; но почему-то в остальных вещах они на удивление сходились.
Может, здесь еще какие-то политические ограничения действуют, подумал Виктор. Раз надвигается война, то трудовые мигранты из стран потенциальных противников нежелательны, потому что под их видом могут засылать шпионов и диверсантов и вообще – вероятная пятая колонна. А если война начнется, то государство, хоть демократическое, хоть какое, может дойти до превентивных депортаций и арестов. Так что все вероятные неприятности у Виктора были еще впереди, несмотря на наличие паспорта.
«Как бы то ни было, у меня есть тайм-аут», – сказал себе Виктор словами Штирлица, «и я должен использовать этот тайм-аут».
21. Дворцовый переворот
Прописку оформили действительно моментально: похоже, что в светлом сталинском прошлом электронное общество строилось опережающими темпами. До вечера можно было воспользоваться теплой погодой и прогуляться по городу, можно было пойти в кино, посмотреть, что изменилось в краеведческом… При мысли о музее Виктора стукнуло, что теперь, с паспортом, он может пойти в читалку и, наконец, ликвидировать свою политбезграмотность.
На углу площади Карла Маркса и улицы того же классика стояло, несомненно, одно из лучших творений архитектора Василия Городкова. Два неодинаковых дворцовых фасада в классическом стиле, золотисто-желтые с белыми архитектурными деталями возле тенистого круглого сквера были настоящим уголком Петербурга екатерининских времен, несмотря на то, что появились в советское. От типичного сталинского ампира книжный дворец – а иначе областную библиотеку было назвать трудно, глядя на торжественный ряд ее огромных окон, каждое из которых было расчленено на три части тонкими пилястрами – отличало полное отсутствие помпезности. Это было господство изящных геометрических форм, сочетавшее в себе спокойствие и легкость проспектов северной столицы с неуловимой тенью позднего конструктивизма, пытавшегося передать чувство полета в коммунистическое будущее.
Уже стоя перед широкой лестницей, с дворцовым размахом ведущей на абонементы и в читальный зал, Виктор вспомнил, что у него нет фотокарточки. Но, как оказалось, это и не нужно – в стеклянной кабинке у нижнего пролета лестницы его лик запечатлели электронной камерой и нанесли на билет.
Но самый большой сюрприз ждал все-таки наверху. Треть читального зала, который по всему простору и убранству напоминал залы, в котором дают королевские балы, была отгорожена легкой стеклянной перегородкой, и за ней стояли терминалы. Вход был свободным. Виктор подошел к ближайшему незанятому и залогинился нанесенным на билете магнитным кодом.
Библиотечная сеть оказалась сегментом Домолинии-2, и, собственно, библиотечный зал был залом бесплатного доступа. Первое, что бросилось в глаза Виктору – это отсутствие адресной строки в навигации; точнее, он до нее все-таки потом докопался, но играла она явно не первостепенную роль.
Основная навигация по "совнету" велась с помощью каталогов и контекстного поиска, причем коренные разделы каталогов были интегрированы с рабочим столом и представляли собой одно из горизонтальных меню. Упорядочение и классификация знаний здесь буквально была возведена в культ, так что найти что-то было даже проще, чем в нашем Инете, где на введенные в поисковике слова вываливается куча неизвестно чего, потому что каждый мудрила считает своим долгом запихать в мета-тэги то, что чаще всего ищут, а не то, что у него есть.
Фильмов и телепередач в сети не было – лишь каталоги, по которым можно было выбрать фильм на кассете или DVD и просмотреть в соседнем зале, либо, если в фонде библиотеки такого нет, заказать по МБА. Зато на Виктора хлынуло изобилие аудиозаписей и книг, в основном советских.
– Помощь не нужна, все в порядке? – полушепотом спросила Виктора улыбающаяся круглолицая дама с красивым эмалевым значком библиотеки на свитере.
– Да, спасибо, я уже разобрался. Потрясающий выбор.
– Ну так ведь компьютерные сети сделали переворот. К примеру, раньше писателю надо было издать бумажную книгу, а это долго. А теперь каждый может отослать свои произведения в местный худсовет, и это попадет в библиотеки.
– А если худсовет отклонит?
– Если нет ничего такого – пойдет в фонды самодеятельного народного творчества. А если наоборот, признает особо ценным – в фонд рекомендуемой литературы или даже в фонд новой классики. Но это уже после обсуждения литкритиками и признания читателей. Сейчас у нас очень многие пишут, и, конечно, не все сразу становятся писателями. Но, знаете, это нынешнее массовое увлечение народа литературным творчеством, оно в любом случае не зря: оно побуждает знать и любить родной язык. Люди больше читают, за последние десять лет они даже говорить стали правильнее, у них грамотнее построение фраз, связнее речь, выразительнее даже, я бы сказала… Простите, я вас не заговорила?
– Нет, ничуть. Приятно видеть увлеченного человека.
– А здесь все увлеченные! Кто в патентах роется, изобретает, кто в научных трудах, кто-то исторические документы изучает, у нас и госархивы в электронку переводят, а потом и читателя книга в фонде появляется, техническая или художественная… А как тут студенты сидят! Вот смотришь на них и думаешь – а может, вон там, у окна, сидит будущий гениальный ученый, а у колонны – прекрасный поэт, который прославит наши края, а рядом девчонка будет великим модельером, а где-то еще тут будущий главный конструктор или хотя бы рационализатор, сейчас все рационализаторы. Вы не представляете, как стало интересно жить! Лишь бы войны только не было. Вы ведь верите, ее не будет?
– Верю, – это слово выскочило у Виктора непроизвольно, он хотел усомниться в нем, но библиотекарша так заразила его своей энергией, что он снова повторил вдогонку, твердо, словно бы сам решал судьбу планеты, – верю!
– Спасибо. Вы извините, отвлекла я вас…
Виктор погрузился в изучение альтернативного Инета с таким азартом, словно это была компьютерная игра. Сам факт, что такую привычную вещь можно сделать как-то иначе, будил воображение и вызывал желание спорить.
Он заметил, что большинство сервисов и программ здесь исполнялись или управлялись через браузер, и это все чем-то напоминало нынешние сервисы гугла. Выяснилось, что в Совнете все-таки можно было создавать собственные веб – страницы (которые классифицировались как народное творчество), но для этого надо было выбрать авторское сообщество и в нем зарегистрироваться – примерно так, как сейчас регистрируются на форумах – и за порядком там следила иерархия модераторов. С удивлением Виктор обнаружил, что здесь существуют даже блоги, которые назывались личными дневниками. Простенькие, без наворотов, похожие на гостевые книги, но блоги. Вообще все частные документы в сети делились на публикуемые и личного пользования, а при библиотеке был виртуальный личный кабинет читателя, где хранилась разная информация – от файлов, временно скачанных в локальный доступ с ресурсов других городов до доступа к своей почте, ссылок, списков друзей и знакомых, интерфейсов мессенждеров и прочее. Попыток создания обособленных социальных сетей, вроде "Одноклассников", конкурирующих между собой, Виктор не заметил – скорее, была налицо тенденция превращения Домолинии в одну большую социальную сеть, разбитую по профессиональным и другим интересам, без всяких попсовых рюшечек, но удобную, потому что создатели этой сети прежде всего пытались сводить массу информации к стройной системе и сделать доступ к ней возможно более удобным. По-видимому, это было острой необходимостью в условиях недостатка пропускной способности линий.
Перед Виктором лежал виртуальный мир, стройный и красивый, как Симсити, пусть с несовершенной графикой, но со столь же увлекательным геймплеем, где человек мог умственно прокачиваться, повышая свои знания и способности, и какое-то подобие рейтингов в виде балльной системы тут уже нарождалось. Этот мир превращал самосовершенствование в игру – но, в отличие от симов, он не уводил от реального мира в воображаемый; напротив, силою человеческого воображения реальность была затащена по ту сторону экрана монитора и сверкала там в своем волшебном величии, как Изумрудный Город.
Несчастными в этом мире автоматом оказывались тролли и киберпанки. Тролли – потому что из-за отсутствия анонимности их давили, как класс, а киберпанки – потому что пространство для виртуальной жизни было удобным, и сетевым бомжам было бороться не с кем. Кстати, один из сервисов позволял легко отыскать, где в СССР в данный момент работает любой пользователь, в каком городе, доме и за каким терминалом. "Видимо, из двух разных мест тут под одним логином не войти" – подумал Виктор.
…Под соседним на столике монитором лежала монета – в три копейки, судя по размеру.
"Надо взять", подумал Виктор, "монета в СССР вещь полезная. Газировки можно взять. На две, наверное."
Он аккуратно пододвинул ее к себе по коричневой плоскости стола, не переворачивая. Трюльник оказался старый, тридцать третьего года, но по размерам тот же, что и хрущевский; только колоски более тощие и цифра чуть с вывертом. Виктор взял монету в руку, машинально перевернул – и обмер.
Вместо знакомого герба с шестью лентами и надписи по кругу "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на аверсе монеты красовался двуглавый орел, под которым виднелась загадочная надпись "Ц.И.Б.Р.".
"Что за чушь!" подумал Виктор и протер глаза. Орел не исчезал. Виктор нагнулся к соседнему монитору и внимательно посмотрел: под краем желтоватого корпуса на столе скопилась пыль и виднелся след отодвинутой монеты. Либо ее подсунули под край корпуса аккуратно сверху, либо она валялась там с неделю, а, может, и больше.
Виктор вдруг осознал, что монета встревожила его гораздо больше, чем само попадание сюда. К попаданиям он уже как-то привык и нашел тактику. Монета означала нечто неизвестное, что никак не вписывалось в то, что он раньше знал об иных реальностях, и, практически стопудово, неизвестные угрозы.
«Без паники», сказал себе он. «Откуда ты знаешь, может здесь были изменения в тридцатых. Может, белые фальшивые деньги забрасывали. Хотя какой смысл забрасывать фальшивые медяки? А может, здесь действительно существует чувак, подделывающий невозможные деньги? И что это за Ц.И.Б.Р. такой? Стоп. Ты же в ихнем Инете сидишь.»
Пальцы Виктора рванули по клавишам, опережая мысль.
Смотрим учебник истории, решил он. Гражданская война, нэп… Как-то иначе пошло. «Кризис в сельском хозяйстве и вынужденная коллективизация»… «Обострение политической борьбы внутри правящей элиты в начальный период индустриализации»… «Милитаризация страны и борьба в среде высшего командного состава»… Здорово перелицевали. Но никаких царских орлов не просматривается.
За отсутствием связных мыслей Виктор перелистал свежие материалы ТАСС. С текущим моментом, вопреки ожиданиям, оказалось все проще и скучнее. В КПСС было две платформы, сталинская и марксистская, имя Ленина в названиях и программах договорились не трогать – это, так сказать, было общее достояние. Платформы открыто между собой на публике не грызлись, а сама Партия, как Ватикан, предпочитала не афишироваться. На Ирак США уже успели наехать, но без наземной операции.
– Ну ты как? – раздался за спиной Виктора девичий шепот.
– Да погоди ты. Никак не сочиню основную мысль реферата.
– А чего за тема?
– Ну, это… Почему чешские правые толкали лозунг идти в Европу.
– Эта Европа по-моему, только буржуям нужна. Чтобы меньше оставлять трудящимся.
– Но так же не напишешь.
– Почему?
– Ну… Надо как-то обтекаемо.
«Да, чего это я?», спохватился Виктор. «Мне же еще насчет Югославии просветлиться надо.»
На украшавшей раздел карте Югославия была целой и выкрашена в красный цвет; при виде этого у Виктора сразу отлегло на душе, хотя, углубившись в тему, он понял, что радоваться пока рано. Сепаратизм в Словении был подавлен в зародыше в девяностом, практически без единого выстрела. Парламентаризм был заморожен, власть в стране передана органу под названием ДКXП (что, по иронии судьбы, переводилось на русский не иначе, как ГКЧП), в результате чего Югославия была зачислена в число стран-изгоев. Но то ли помогли хорошие отношения с СССР, в котором вместо очередей с талонами и бузы в НКАО повсеместно появилась докторская и любительская колбаса, то ли почистили местную элиту (какой князь не мечтает стать монархом, чтобы не отвечать перед вышестоящими?), а, может быть, и то и другое, только стоящая на очереди Хорватия особо дергаться не стала, и дело ограничилось только местными волнениями. Вообще этнические раздоры, которые, под предлогом защиты прав меньшинств услужливо поддерживало евросообщество, к девяносто пятому стали затихать.
Однако, взамен этнических разборок, последние три года страну накрыла волна терроризма уже под видом религиозной войны. Те, кого Европа называла "антиправительственными формированиями" – а методы борьбы этих формирований в основном сводились к тому, чтобы взрывать крупные магазины, захватывать школы или запускать по Белграду реактивные снаряды малого калибра, как когда-то по Кабулу, – похоже, никому уже ничего не обещали, да и вообще им было уже все равно, кто у власти. Речь шла просто о том, чтобы добить население и власть ежедневным страхом, чтобы люди из общества превратились в стадо и соглашались на все, что продиктуют. Например, на ввод войск того же НАТО без сопротивления. Советская пропаганда обвиняла Соединенные Штаты в поддержке международного терроризма, те, в свою очередь, обвиняли СССР в поддержке режимов, нарушающих права человека, ООН утонуло в бесконечных вето, и было непонятно, зачем оно нужно.
«Как ни печально, но Югославия здесь – это полигон», заключил Виктор. «Как для США и НАТО, так и для нас. Они отрабатывают здесь методы диверсионной войны, как они делали это в нашей реальности и в Афгане, мы – методы борьбы с ним. Если югов сдадут, next stop is USSR, пойдет на Кавказе, в Средней Азии, и, может быть, Молдавии. Прибалты не поведутся, они люди расчетливые. Так что все эти Бесланы и Норд-Осты тут еще могут быть впереди… Что делать? Что, что я знаю или умею здесь такого, что не могут они? Неужели от человека в мире так ничего и не зависит – но зачем тогда вся эта эволюция, зачем этот разум, если человечество так и не отучилось от привычки друг друга жрать?»