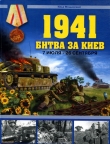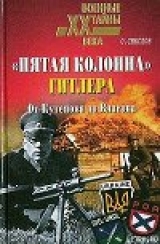
Текст книги "«Пятая колонна» Гитлера. От Кутепова до Власова"
Автор книги: Олег Смыслов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
К сожалению, точных данных о советских военнопленных нет. И на сегодняшний день имеется несколько вариантов приблизительных цифр.
Например, по данным Управления уполномоченного при СНК СССР по делам репатриации – в 1941 г. их было 2 млн (49%); в 1942 г. – 1 млн 339 тыс. (33%); в 1943 г. – 487 тыс. (12%); в 1944 г. – 203 тыс. (5%); в 1945 г. – 40, 6 тыс. (1%), а кроме того, свыше 900 тыс. бойцов и командиров Красной армии в 1941 – 1942 гг. оказались в окружении. Следовательно общая цифра военнопленных составляет 4 408 600, а с окруженцами – 5 308 600.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, 4 559 000 человек пропало без вести и попало в плен. В эту цифру вошли:
3 396 400 – пропавших без вести и попавших в плен по донесениям войск и данным органов репатриации.
1 162 600 составляют неучтенные потери первых месяцев войны: погибло, пропало без вести в боевых операциях, когда донесений от фронтов и армий не поступало.
(Из числа потерь было исключено 2 775 700:
939 700 – призвано на освобожденной территории и направлено в войска из числа военнослужащих, ранее признанных пропавшими без вести.
1 836 000 – вернулось из плена по окончании войны (по данным органов репатрации.)
Только офицеров пропавших без вести и попавших в плен в годы Великой отечественной войны, насчитывается 392 085 (38, 32%).
Из них в сухопутных войсках – 366 043 офицеров (в том числе в пехоте 180 327), в Военно-воздушных силах – 20 684 офицера и в Военно-морском флоте – 5358.
Немецкие документы, содержащие сведения о числе советских военнопленных до начала 1942 г., практически отсутствуют. Дело в том, что в 1941 г. вся отчетная документация с Восточного фронта поступала неполной и неточной. Только 1 января 1942 г. было отдано распоряжение о представлении достоверных сведений, касающихся советских военнопленных. За состояние лагерей, содержание и использование военнопленных отвечали Верховное главнокомандование (ОКВ) и главное командование сухопутных сил (ОКХ).
На территории рейха за эти вопросы отвечал отдел по делам военнопленных главного штаба вермахта, а на территории оккупированных областей Советского Союза – отдел военной администрации начальника тыла сухопутных сил. С начала кампании на Востоке Главный штаб вермахта (ОКВ) не проявлял никакого интереса к статистическим данным о числе советских военнопленных. Организационное указание отдела по делам военнопленных от 16 июня 1941 г. не относило такие сведения к категории обязательных.
Только 2 июля 1941 г. этот порядок изменили, но касался он учета пленных, находившихся на территории рейха.
Когда в конце июля 1941 г. на сборных пунктах и в пересыльных лагерях, расположенных в зоне ответственности сухопутных сил, скопилось большое число военнопленных, был издан приказ генерал-квартирмейстера от 25.07.41 г. № 11/4590 об освобождении советских военнопленных ряда национальностей (немцев Поволжья, прибалтов, украинцев, а затем и белорусов). Но уже распоряжением ОКВ от 13.11.41 г. № 3900 действие этого приказа было приостановлено.
Всего в этот период было освобождено 318 770 чел., из них в зоне ОКХ – 292 702 чел., в зоне ОКВ – 26 068 чел. В общем числе освобожденных находилось 277 761 чел. украинцев.
В 1942 – 1944 гг. из плена освобождались в основном лица, которые вступали в добровольческие охранные и другие формирования, в полицию. До 1 мая 1944 г. всего было освобождено 823 230 военнопленных, из них в зоне ОКХ – 535 523 чел., а в зоне ОКВ – 287 707 чел.
По зарубежным источникам число советских военнопленных определяется в 5 200 000 – 5 750 000 человек, причем основная их масса относится на первый период войны (июнь, 1941 – ноябрь, 1942). Однако здесь нужно учитывать, что в число военнопленных немцы включали всех сотрудников партийных и советских органов, а также мужчин независимо от возраста, отходивших вместе с отступавшими, а затем окруженными войсками.
Следовательно, зарубежные данные, в том числе Германии, не являются самыми достоверными. В статистическом исследовании «Гриф «секретно» снят» под редакцией генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева сообщается:
«…На основе имеющихся документов общее число советских военнослужащих, пропавших без вести и попавших в плен (4559 тыс. чел.), можно распределить следующим образом.
Достоверно известно, что 1 836 тыс. человек вернулись из плена после окончания войны, 939, 7 тыс. военнослужащих из числа ранее пропавших без вести и бывших в плену были призваны вторично на освобожденной от оккупации территории, а 673 тыс., по немецким данным, умерли в фашистском плену. Из оставшихся 1 110, 3 тыс. человек, по нашим данным, больше половины составляют тоже умершие (погибшие) в плену. Таким образом, всего в плену находилось 4 059 тыс. советских военнослужащих, а около 500 тыс. погибло в боях, хотя по донесениям фронтов они были учтены как пропавшие без вести».
Известно, что подавляющее большинство советских солдат и офицеров попало в плен из-за невозможности дальнейшего сопротивления – ранеными, больными, не имеющими продовольствия и боеприпасов, в отсутствие управления со стороны командиров и штабов. Тем не менее сам факт пленения в нашем государстве рассматривался как преднамеренно совершенное преступление. Под подозрение попадали военнослужащие и гражданские лица, даже непродолжительное время побывавшие за линией фронта. А тех, кто хотя бы на короткое время оказался в плену и был допрошен, судили за измену Родине и шпионаж.
Репрессиям подвергались и семьи предполагаемых «изменников Родины». Их ссылали, приговаривали к длительным срокам лишения свободы.
С 27 декабря 1941 г. было издано постановление ГКО СССР №1069 сс, регламентирующее проверку и фильтрацию освобожденных из плена и вышедших из окружения «бывших военнослужащих Красной Армии». Теперь они направлялись в специальные лагеря НКВД. А в конце 1943 г. спецлагеря были переданы в ведение ГУЛАГА, то есть всех бывших военнопленных уравняли в правах с заключенными.
Начиная с 1944 г. из освобожденных из плена или вышедших из окружения офицеров Красной армии начали формировать «штурмовые батальоны», где в качестве рядовых они должны были искупить «свою вину» кровью. Через «штурмовые батальоны» прошло более 25 тысяч офицеров. По результатам проверки более 72 тысяч офицеров, вернувшихся из плена, были разжалованы и уволены из армии…
5. Яков ДжугашвилиВыпускник Артиллерийской академии РККА старший лейтенант Яков Иосифович Джугашвили с 9 мая 1941 г. проходил службу в 14-м гаубичном артиллерийском полку 14-й танковой дивизии в должности командира батареи.
Историческая справка. Яков Иосифович Джугашвили
Родился в 1908 г. в г. Баку. В 1936 г. закончил транспортный институт имени Дзержинского. С 1936 по 1937 год работал на электростанции завода им. Сталина дежурным инженером – трубочистом. В 1937 г. поступил на вечернее отделение Артакадемии РККА. В 1938 г. поступил на 4-й курс 1-го факультета Артакадемии РККА. В 1941 г. попал в плен. В 1943 г. в концлагере Заксенхаузен был убит часовым.
К концу 9 июля 14-я танковая дивизия, 14-й мотострелковый полк, 14-й гаубичный артиллерийский полк и 220-я стрелковая дивизия вышли на рубеж Вороны – Фальковичи и были отрезаны противником от основных сил. К вечеру 11 июля части и соединения перешли к обороне Лиозно. 12 июля войсковая группа, несколько дней как переподчиненная командиру 34-го стрелкового корпуса 19 армии, заняла и удерживала противотанковый район у станции Лиозно, а с рассветом 13-го на рубеже Вороны – Поддубье вела бой с танками и пехотой противника, после натиска которого подразделения 14-й танковой дивизии отошли. В это время 14-й мотострелковый полк и 14-й гаубичный артполк во взаимодействии с частями 220-й стрелковой дивизии наступали на Витебск. Они овладели селом Еремеево, но, не выдержав танковых и авиационных атак, начали отход к Лиозно.
Последующие два дня 14 и 15 июля 14 мсп и 14 гап вели бой в районе восточнее Лиозно, но вследствие больших потерь отошли одной группой на север, второй – на юг.
Батарея, которой командовал Джугашвили, вместе с соседней батареей своим огнем прикрывали отходившие на юг войска.
К утру 16 июля 14 тд, находящаяся в окружении, вышла из подчинения 34 стрелкового корпуса и вошла в состав 7 мехкорпуса 20 армии. Первые группы военнослужащих 14 тд появились в местах сбора 17 – 19 июля. Вечером 19 июля 1941 г. из окружения вышли бойцы и командиры 14 гап (из 1240 человек вышло 413, а 675 пропали без вести). Среди них не оказалось Якова Джугашвили.
Только на следующий день, 20 июля 41-го, командующий 20-й армией генерал Курочкин получил приказ шифртелеграммой от начальника штаба Западного направления: «выяснить и донести в штаб фронта, где находится командир батареи 14-го гаубичного полка, 14-й танковой дивизии старший лейтенант Джугашвили Яков Иосифович».
В этот же день на поиски старшего сына вождя «была послана группа мотоциклистов во главе со старшим политруком Гороховым, которая у озера Каспля встретила красноармейца Лопуридзе, вместе с которым Яков выходил из окружения. По словам Лопуридзе, 15 июля они вместе с сыном Сталина переоделись в гражданскую одежду, закопали свои документы, после чего, убедившись, что немцев поблизости нет, Яков решил передохнуть, а Лопуридзе пошел дальше, пока не встретил группу мотоциклистов. После этого старший политрук Горохов, решив, что Яков, наверное, уже вышел к своим, прекратил дальнейшие поиски и вернулся в дивизию».
Приказом Главного управления кадров НКО СССР № 060 от 25 января 1942 г. старший лейтенант Джугашвили Я.И. признан без вести пропавшим с 15 июля 1941 г. Таким образом, 15 июля некий Лопуридзе последним якобы видел сына Сталина. Но именно слова этого человека вызывают сомнение. С 15 до 20 июля прошло несколько дней, и если он действительно выходил вместе с Яковом, то как же получилось, что Джугашвили остался отдыхать, а Лопуридзе бросил командира в звании старшего лейтенанта, грузина, сына вождя и пошел один дальше?
Думаю, что Лопуридзе, если он действительно красноармеец, а не дезертир, просто соврал для своего собственного прикрытия, ведь он выходил один в гражданской одежде и без оружия, а личность его так и осталась не установленной… Кем он был, этот Лопуридзе? Теперь уже никто не сможет ответить на этот вопрос. Старший политрук Горохов просто упустил его, потому что халатно отнесся к выполнению приказа командования.
Так как же все-таки Яков Джугашвили попал в плен? До нас сохранилось вот такое свидетельство:
«В июле 1941 г. я был в прямом подчинении у старшего лейтенанта Я. Джугашвили.
По приказу командования наш взвод броневиков БА-6 26-го танкового полка был назначен в полевое охранение гаубичной батареи 14-го артиллерийского полка. Нам было приказано: в случае прорыва немцев и при явной угрозе увезти командира батареи Я. Джугашвили с поля боя.
Однако так случилось, что в ходе подготовки его эвакуации ему был передан приказ срочно явиться на командный пункт дивизиона. Следовавший с ним адъютант погиб, а он отту да уже не вернулся. Мы тогда так и решили, что это специально было подстроено. Ведь был приказ уже об отступлении, и, видимо, на КП дивизиона уже никого не было.
По прибытии на разъезд Катынь нас встретили сотрудники особого отдела. Нас троих – командира 1-го огневого взвода, ординарца Я. Джугашвили и меня, командира взвода броневиков полевого охранения, неоднократно допрашивали: как могло случиться, что и батареи, и взвод охранения вышли, а Я. Джугашвили оказался в плену? Майор, допрашивавший нас, все говорил: «Придется кому-то оторвать голову». Но, к счастью, до этого дело не дошло».
А вот что показал сам Яков Иосифович на допросе у немцев 18 июля 1941 года:
Вопрос: Вы добровольно пришли к нам или были захвачены в бою?
Ответ: Не добровольно, я был вынужден.
Вопрос: Вы были взяты в плен один или же с товарищами и сколько их было?
Ответ: К сожалению, совершенное вами окружение вызвало такую панику, что все разбежались в разные стороны. Видите ли, нас окружили, все разбежались, я находился в это время у командира дивизии.
Вопрос: Вы были командиром дивизии?
Ответ: Нет, я командир батареи, но в тот момент, когда нам стало ясно, что мы окружены, я находился у командира дивизии, в штабе. Я побежал к своим, но в этот момент меня подозвала группа красноармейцев, которая хотела пробиться. Они попросили меня принять командование и атаковать ваши части. Я это сделал, но красноармейцы, должно быть, испугались, я остался один, я не знал, где находятся мои артиллеристы, ни одного из них я не встретил. Если вас это интересует, я могу рассказать более подробно. Какое сегодня число? (сегодня 18-е). Значит, сегодня 18-е. Значит, позавчера ночью под Лясново, в 11 /2 км от Лясново, в этот день утром мы были окружены, мы вели бой с вами.
Вопрос: Я хотел бы знать еще вот что! На нем ведь сравнительно неплохая одежда. Возил он эту гражданскую одежду с собой, или получил ее где-нибудь. Ведь пиджак, который сейчас на нем, сравнительно хороший по качеству.
Ответ: Военный? Этот? Нет, это не мой, это ваш. Я уже вам сказал, когда мы были разбиты, это было 16-го, 16-го мы все разбрелись, я говорил вам даже, что красноармейцы покинули меня. Не знаю, может быть, вам это и не интересно, я расскажу вам об этом более подробно! 16-го приблизительно в 19 часов, не позже, позже, по моему в 12, ваши войска окружили Лясново. Ваши войска стояли несколько вдалеке от Лясново, мы были окружены, создалась паника, пока можно было, артиллеристы отстреливались, отстреливались, а потом они исчезли, не знаю куда. Я ушел от них. Я находился в машине командира дивизии, я ждал его. Его не было. В это время ваши войска стали обстреливать остатки нашей 14-й танковой дивизии. Я решил поспешить к командиру дивизии, чтобы принять участие в обороне. У моей машины собрались красноармейцы, обозники, народ из обозных войск. Они стали просить меня: «Товарищ командир, командуй нами, веди нас в бой!» Я повел их в наступление. Но они испугались, и когда я обернулся, со мной уже никого не было. Вернуться к своим уже не мог, так как ваши минометы открыли сильный огонь. Я стал ждать. Подождал немного и остался совсем один, так как те силы, которые должны были идти со мной в наступление, чтобы подавить несколько ваших пулеметных гнезд из 4 – 5 имевшихся у вас, что было необходимо для того, чтобы прорваться, этих сил со мной не оказалось. один в поле не воин. Начало светать, я стал ждать своих артиллеристов, но это было бесцельно, и я пошел дальше. По дороге мне стали встречаться мелкие группы, из мотодивизии, из обоза, всякий сброд. Но мне ничего не оставалось, как идти с ними вместе. Я пошел. Все начали переодеваться, я решил этого не делать. Я шел в военной форме, и вот они попросили меня отойти в сторону, так как меня будут обстреливать с самолета, а следовательно, и их будут обстреливать. Я ушел от них. Около железной дороги была деревня, там тоже переодевались. Я решил присоединиться к одной из групп. По просьбе этих людей я обменял у одного крестьянина брюки и рубашку, я решил идти вечером к своим. Да, все это немецкие вещи, их дали мне ваши, сапоги, брюки. Я все отдал, чтобы выменять. Я был в крестьянской одежде, я хотел бежать к своим. Каким образом? Я отдал военную одежду и получил крестьянскую. Ах нет, боже мой! Я решил пробиваться вместе с другими. Тогда я увидел, что окружен, идти никуда нельзя. Я пришел, сказал: «Сдаюсь». Все!.. Я не хочу скрывать, что это позор, я не хотел идти, но в этом были виноваты мои друзья, виноваты были крестьяне, которые хотели меня выдать. Они не знали точно, кто я. Я им этого не сказал, они думали, что из-за меня их будут обстреливать.
Вопрос: Его товарищи помешали ему что-либо подобное сделать или и они причастны к тому, что он живым попал в плен?
Ответ: Они виноваты в этом, они поддерживали крестьян. Крестьяне говорили: – «Уходите». Я просто зашел в избу. Они говорили: «Уходи сейчас же, а то мы донесем на тебя!» и уже начали мне угрожать. Они были в панике. Я им сказал, что и они должны уходить, но было поздно, меня все равно поймали бы. Выхода не было. Итак, человек должен бороться до тех пор, пока имеется хотя бы малейшая возможность, а когда нет никакой возможности, то… Крестьянка прямо плакала, она говорила, что убьют ее детей, сожгут ее дом…
Следовательно, 15 – 16 июля 1941 г. старшего лейтенанта Джугашвили вызвали на командный пункт дивизии, куда он и прибыл в тот момент, когда началась паника, неразбериха, а дальше все было так, как рассказал сам Яков Иосифович.
При этом надо учитывать, что первый раз немцы переводили с русского на немецкий, а второй раз наши – с немецкого на русский, в результате чего текст изобилует многочисленными искажениями. Например, Лиозно называется Лясново и т. д.
Нельзя забывать и о психологическом состоянии военнопленного в момент допроса, когда мысли не собраны, когда трудно определить дату и время, когда забываются подробности. Сегодня по прошествии десятилетий каждый раз мы узнаем все новые сенсации. Дожили мы и до той, в которой ставится под сомнение вообще пребывание Якова Джугашвили в плену. Сначала была передача в программе «Человек и закон», потом появилась и печатная версия в книге Галины Джугашвили-Сталиной «Внучка вождя» – Валентина Жиляева.
Данный господин утверждает: «Дело № Т-176» и другие немецкие материалы 1941 – 1943 гг. – профессионально выполненная подделка. Фальсификацию можно определить не только по содержанию, но и по техническому исполнению».
Что ж, попробуем разобраться.
Первое. Были исследованы четыре рукописных текста сына Сталина, исполненные им с 19 июля 1941 г. по 30 сентября 1942 г., а также 11 фотоснимков, изображающих пленного Якова Джугашвили. При этом специалисты центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны Российской Федерации установили, что только две записки из четырех исполнены самим Я. Джугашвили, а две других писал не он. Далее, из одиннадцати немецких фотоматериалов семь являются фото – и типографской репродукцией, на восьми снимках установлено наличие ретуши изображения, три изготовлены путем фотомонтажа. На одном из снимков выявлено применение в фотомонтаже зеркального изображения. Вот что показал на допросе сам Я.И. Джугашвили:
Вопрос: Известно ли ему, что красное правительство сбрасывает листовки, и думает ли он, что эти листовки побудят немецкого солдата перебежать на сторону красного правительства, на сторону Красной Армии?
Ответ: А если я вам задам такой же вопрос, будут ли иметь ваши листовки успех в Красной армии или нет? (я очень прошу меня не фотографировать).
Вопрос: Почему он не хочет, чтобы его фотографировали? Может быть, он думает, что снимок будет опубликован?
Ответ: Фотографируют всегда в самых безобразных позах. Я не потому это говорю, что всегда нужно сниматься только в красивых позах. Не потому я это говорю, но мне это не нравится, я вообще этого не люблю.
Яков Джугашвили не хотел фотографироваться в отличие от генерала Власова, поэтому немцам пришлось прибегать к фотомонтажу в целях агитации и пропаганды, что вполне естественно.
То же самое и с одной из двух записок. Самую первую, адресованную к отцу, он как раз и не писал, потому что не мог и не хотел писать. И тогда немцы ее просто состряпали сами. Это тоже объяснимо.
«19.7.41. Дорогой отец! Я в плену, здоров, скоро буду отправлен в один из офицерских лагерей в Германии. Обращение хорошее. Желаю здоровья. Привет всем. Яша».
Во второй записке:
«Господину поручику Венцлевич.
Я достал у г-на подпоручика Коррадини суконный материал, и если Вас не затруднит, то прошу отдать распоряжение в мастерскую, чтобы мне сделали полушинель. Я тороплюсь, так как слышал, что мастерская скоро переедет в запбостель, говорят, что мастерская перегружена заказами, так что если найдется какая-либо возможность, то прошу Вас не отказать мне в просьбе.
ст л-нт Джугашвили».
«Поручику Венцлевич – на память в знак уважения ст. л-нт Джугашвили 30.9.42 г».
Второе. Господин Жиляев утверждает, что протокол первого допроса был подшит в дела 4-й танковой дивизии корпуса Гудериана, а другой протокол допроса оказался в архиве Люфтваффе, что также внушает сомнение в их подлинности.
Дело в том, что хоть и допрашивали Якова Иосифовича у командующего авиацией 4-й армии, тем не менее допрос вели офицеры 3-й мотострелковой роты военных переводчиков от различных «ведомств». Заметим, не один офицер, а несколько. Поэтому один документ составлен как вопрос – ответ для командующего авиацией 4-й армии, а другой обзорный документ – описание, более конкретный, в сокращенном виде, как докладная записка для командира 4-й танковой дивизии.
Третье. У В. Жиляева написано: «Что же касается содержания протоколов, то в них масса несуразностей и ошибок, по которым можно предположить, что все приписанное Якову Джугашвили писал немец. Так, Яков якобы рассказывал офицеру абвера, как он, пока полк уже стоял под Лиозно, западнее Смоленска, поехал в Смоленск и присутствовал при поимке в трамвае немецкого шпиона…
А на самом деле Яков Иосифович показал:
Вопрос: А сам он видел когда-либо парашютиста, сброшенного в гражданском платье или в форме иностранной армии?
Ответ: Мне рассказывали об этом жители, видите, я не спорю, борьба есть борьба, и в борьбе все средства хороши. Поймали одну женщину, женщину поймали, а не знаю, кто она была – от вас или это наша, но враг. У нее нашли флакон с бациллами чумы.
Вопрос: Это была немка?
Ответ: Нет, она была русская.
Вопрос: И он верит этому?
Ответ: Я верю тому, что ее поймали, эту женщину, но кто она – я не знаю, я не спрашивал, она не немка, а русская, но она имела задание отравлять колодцы.
Вопрос: Это ему рассказали, сам он не видел.
Ответ: Сам я не видел, но об этом рассказывали люди, которым можно верить.
Вопрос: Что это за люди?
Ответ: Об этом рассказывали жители и товарищи, которые были со мной, потом поймали женщину от вас в трамвае, она была в милицейской форме и покупала билет, этим она себя выдала. Наши милиционеры никогда не покупают трамвайных билетов. Или так, например: задерживают человека, у него четыре кубика, а у нас четыре кубика не носят, только три.
Вопрос: Где это было?
Ответ: Это было в Смоленске. Мне рассказывали об этом мои товарищи.
Четвертое. У В. Жиляева:
«Кроме других, явной ошибкой в протоколах была информация о том, что Яков Джугашвили знал три иностранных языка, в то время как он не мог сдать экзамена по английскому в академии. И уж, конечно, он не знал французского языка на таком уровне, чтобы якобы уже в лагере целых шесть месяцев «свободно беседовать» с интернированным сыном премьер-министра Франции, капитаном Рене Блюмом».
Из аттестации накануне Великой Отечественной войны:
«…Сданы государственные экзамены по следующим предметам:
1. Тактика – хорошо.
2. Стрельба – хорошо.
3. Основы марк. – лен. – посредств.
4. Основы устр. артвоор. – хорошо.
5. Английский – хорошо».
Пятое. В. Жиляев:
«Среди пленных, общавшихся с «сыном Сталина» в концлагерях, не было никого, кто знал бы реально Якова Джугашвили».
Но позвольте, уважаемый господин, есть для Вас еще один аргумент:
В представительство уполномоченного СНК СССРпо репатриации советских граждан в Западной Европе.
г. Париж, 16-е, ул. генерала АППЕР, 4.
СПРАВКА
Капитан артиллерии Яков Иосифович Джугашвили (сын маршала СССР товарища Сталина) находился со мной в плену в Южной Баварии, около маленького города Гоммельбурга. Лагерь военнопленных был международного характера, где были заключены в застенки советские, французские, английские и бельгийские офицеры. В этом лагере были заключены 27 советских генералов и много старшего начальствующего состава РККА.
Яков Джугашвили в этом лагере был заключен с апреля месяца 1942 г. и был в нем по июнь 1942 г., после чего был переведен в другой мне неизвестный лагерь. Яшу Джугашвили лично знали многие советские офицеры. За короткий промежуток времени нахождения в Гоммельбургском лагере показал себя стойким, а своим поведением – мужественным и непоколебимым советским офицером, достойным сыном Великого отца, Маршала товарища Сталина. Питание он получал такое же, как и остальные советские офицеры, т. е. 150 гр. отварного – «хлеба», в день один раз брюквенный суп без всякой приправы.
Немцы его использовали на хозяйственных работах внутри лагеря, воспользовавшись его способностями; – он работал резчиком по кости. Из лошадиных костей он резал фигуры, шахматы, табачные трубки и т. д.
Ежедневно приезжали к нему фотокорреспонденты фашистских газет с сотрудниками гестапо, чтобы принудить Яшу и получить от него им выгодные сведения, на что всегда встречали твердый отказ: «Я люблю свою Родину, я никогда ничего не скажу плохого о моей Родине!» – таков был ответ Яши. Яшу Джугашвили одели немцы в «камуфлет». На его красноармейском мундире в 12-ти местах большими буквами разноцветными красками было написано «S.U» «Советский Союз».
Начальник штаба 1-го сов. партизанского полка майор (Минасян) 12 марта 1945 г. г. Ним.
Верно: Начальник отдела по работе за границей полковник Филатов.
АП РФ. Ф. 45. Оп. 1 Д. 1554. Л. 108 – 109. Заверенная копия.
Таким образом, старший сын Сталина Яков Джугашвили в плену был, вел себя там мужественно и не пошел на сотрудничество с немцами. Только зачем доказывать обратное, зачем поднимать шум, зачем делать сенсацию и переписывать историю.
22 апреля 1943 г. Гиммлер направил письмо в нацистское министерство иностранных дел:
«Дорогой Риббентроп!
Посылаю Вам рапорт об обстоятельствах, при которых военнопленный Яков Джугашвили, сын Сталина, был расстрелян при попытке к бегству из особого блока «А» в Заксенхаузене близ Ораниенбурга.
Хайль Гитлер!
Ваш Генрих Гиммлер».