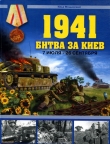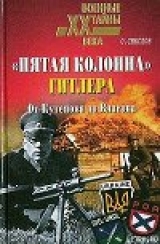
Текст книги "«Пятая колонна» Гитлера. От Кутепова до Власова"
Автор книги: Олег Смыслов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
В отделе пропаганды ОКВ служил некий Александр Степанович Казанцев, член русской эмигрантской организации НТС (Национально-трудовой союз).
Сразу же после приезда Власова в Берлин он был введен в его окружение. Нет, это не было случайностью. Казанцев считался одним из идеологов этого эмигрантского союза, который продолжал быть политически активным. История НТС такова. В 1929 г. Национальный союз русской молодежи в Болгарии и Союз русской национальной молодежи в Югославии объединились в Национальный союз русской молодежи за рубежом.
Официальное зарождение новой организации состоялось на съезде молодежных групп из Югославии, Франции и Болгарии, проходившем с 1 по 5 июля 1930 г. в Белграде.
Ее активным участником стала русская молодежь, родившаяся после 1885 г., чьи родители были добровольцами Белого движения. Причиной создания организации считается желание белой молодежи избавиться от ошибок, допущенных Белым движением, а потом и РОВС, который призывал дожидаться большой европейской войны и беречь кадры для того, чтобы в решающий момент в нее вмешаться.
Новая организация призывала не ждать, а нелегально пересекать границу СССР, изучать быт населения, зондировать почву на предмет реальности «национальной революции». С 1933 по 1936 г. призывы к убийству политических лидеров Советского Союза считались благим делом.
В декабре 1931 г. на съезде название организации было изменено на Национальный союз нового поколения – НСНП, а через пять лет – на Национально-трудовой союз нового поколения (НТСНП). (В 1939 г. из названия организации были удалены два последних слова.)
С 1932 г. в Софии стала выходить газета НТС «За Россию», а с 1935 г. – «За новую Россию». С 1935 г. НТС стал выпускать литературу, поясняющую цели организации и ее идеологию.
Председателем союза и совета стал герцог С.Н. Лейхтенбергский. Исполнительное бюро в составе двух членов возглавил (председатель) В.М. Байдалаков. В 1936 г. главой идеологического сектора НТС стал К.Д. Вергун, который организовал среди членов небольшие группы для дальнейшего уточнения и развития программы.
Для членов НТС издавались воспитательные и разъяснительные пособия.
НТС отказывался вступать в полемику с эмиграцией относительно будущего русского правительства; спор этот вращался вокруг вопроса, будет ли новый строй в России монархическим или республиканским. НТС, считая, что это не имеет отношения к существу дела, не собирался углубляться в подробности методов борьбы против советского режима. Тем не менее с 1931 г. организация стала уделять внимание боевой антисоветской работе, опираясь на помощь старших коллег из общевоинского союза и Братства русской Правды.
К концу 30-х годов в НТС насчитывалось не менее двух тысяч членов. Их конспиративная работа курировалась спецслужбами Польши, Германии, Японии. Предпринимались попытки создания подпольной сети НТС в СССР. Агенты и агентурные группы НТС тайно переходили границу Советского Союза в Прибалтике, Польше и на Дальнем Востоке. При этом, по некоторым свидетельствам, погибал каждый второй член этой организации.
Во время Гражданской войны в Испании НТС помогал «белым» испанцам, а во время финской войны его члены сражались в рядах финской армии против советских войск. Противостояние коммунизму и неприятие марксистской идеологии привело НТС к сочувствию германскому национал-социализму. В связи с этим в 1936 г. секретарь Белградской секции НТС М.А. Георгиевский ездил в Берлин, чтобы выяснить возможности для объединения с нацистскими властями. Но так как, по мнению руководства НТС, нацисты были слишком негибкими из-за своей расистской теории, то никакого тесного сотрудничества не получилось. Тем не менее в 1938 г. в Берлине состоялись тайные переговоры между руководителями НТС и представителями немецкой разведки о возможности сотрудничества в предстоящей войне против СССР.
В меморандуме, выработанном на консультациях, говорилось, что в случае столкновения с Советским Союзом немцам необходимо искать союза с народом против Сталина, что попытка поработить народ приведет к трагедии. В августе 1938 г. исполнительное бюро союза приостановило деятельность отдела в рейхе. И до начала войны между СССР и Германией НТС ушел в подполье. Официально нацисты закрыли все эмигрантские учреждения.
22 февраля 1939 г., выступая в русском доме Белграда на общественном собрании русской диаспоры, председатель НТС В.М. Байдалаков четко изложил свои позиции в назревающей войне в Европе: «На вопрос совести «с кем ты?» может быть только один ответ: ни со Сталиным, ни с иноземными завоевателями, а со всем русским народом… Никто не отрицает, что борьба на два фронта – с завоевателями извне и с тиранией изнутри – будет весьма тяжелой… Но не мы создаем внешние события… Этот путь избрал Союз, и мы утверждаем, что он единственно правильный… Россию спасет русская сила на русской земле, на каждом из нас лежит обязанность посвятить себя делу создания этой силы…»
Но, видимо, это были только слова.
В сентябре 1941 г. в Югославии русская молодежь откликнулась на призыв генерал-майора М.Ф. Скородумова и стала записываться в Русский Корпус, но исполнительное бюро НТС запретило членам союза вступать в него, так как не было уверенности в том, что корпус попадет на Восточный фронт. А незадолго до этого, в мае месяце, в штаб союза в Белграде прибыл редактор берлинской русской газеты «Новое слово» В.М. Деспотули.
На встрече с руководством им от лица здравомыслящих немецких кругов было предложено НТС негласное сотрудничество «в деле решения русского вопроса».
Вскоре центр союза перебрался в Берлин. С 1942 г. в Берлин стала поступать информация о событиях в России и о положении там членов НТС. По мнению члена союза К. Вергуна, члены НТС в России немцам не только не нужны, но и вредны, а вести от членов Союза ужасны и неописуемы. С началом войны с Советским Союзом одними из первых прибывших на оккупированную территорию были Г.С. Околович и В.В. Брандт – член Совета НТС в Польском отделе и бывший главный редактор варшавской русской газеты «Меч».
В Смоленске их приняли на службу в отдел социальной помощи городской управы. В своей работе солидаристы столкнулись с постоянной угрозой со стороны гестапо, настороженностью и недоверием со стороны местного населения.
В Брянск выехала группа В. Кашникова. Члены группы поступили на работу: один – заведующим городской столовой, другой – городским хозяйством. Сам Кашников стал переводчиком в городской управе и одновременно конферансье в городском театре. Именно работа в театре позволила Кашникову с разрешения местного коменданта проникнуть в лагерь военнопленных для отбора актеров для труппы.
Одним из направлений деятельности НТС стала работа в лагерях военнопленных и специальных лагерях.
Другим – создание ячеек НТС на всей оккупированной территории. Но главную роль НТС сыграл в идеологическом оформлении власовского движения.
6. «Русский центр Власова»Прошли месяцы, прежде чем Штрик-Штрикфельдту и его начальникам удалось приступить к созданию «русского центра генерала Власова». Был создан «Отдел Восточной пропаганды особого назначения». Его начальником был назначен Вильфрид Карлович.
Отдел приравняли к батальону. Первоначальный штат предполагался на 40 – 50 человек, но Штрик-Штрикфельдт попросил разрешение на 1200 человек. Начальник отдела ВПр/IV полковник Мартин скрипя сердце подписал бумагу. Отделу Восточной пропаганды особого назначения в конце концов был выделен барачный лагерь неподалеку от деревушки Дабендорф, к югу от Берлина. Раньше он использовался для французских военнопленных и был подчинен командующему 3-м военным округом (Берлин).
Дабендорф был подчинен: в области управления – 3-му военному округу (Берлин); в части заданий – Отделу пропаганды ОКВ (ВПр/IV); ФХО (Гелену) и «генералу добровольческих частей» (сперва генералу Гельмиху, потом генералу Кестрингу).
Лагерь Дабендорф, расположенный на опушке леса (с траншеями на случай воздушной бомбардировки), был маленьким барачным городком с собственным снабжением. Бюджет по русскому персоналу включал: содержание восьми генералов, 60 старших офицеров и нескольких сотен младших. Соглашение с Отделом Иностранные армии Востока предусматривало размещение русского персонала при ста фронтовых дивизиях и специальных частях, а также назначение русского связного персонала при комендатурах лагерей военнопленных, находившихся в ведении ОКВ, в прифронтовой полосе и в Германии. В целом штатное расписание в будущем должно было охватить 3600 плановых офицерских должностей.
По немецкому личному составу штат включал двадцать одну офицерскую должность.
После этого Власов и его сотрудники, а также и весь редакционный штаб с Викториаштрассе были формально освобождены из плена и переведены на бюджет Дабендорфа. А в нем разместилась русская редакция, которая готовила регулярные выпуски обеих русских газет – «Заря» (для военнопленных) и «Доброволец» (для добровольцев и «хиви» – «вспомогательный персонал»).
А что было дальше? Об этом Власов рассказал на допросе советскому следователю: «В декабре 1942 г. я поставил перед Штрикфельдтом вопрос о передаче под мое командование всех сформированных русских частей и объединении их в армию. Штрикфельдт ответил, что передача мне всей работы по формированию русских частей задерживается из-за отсутствия русского политического центра. Украинцы, белорусы, кавказцы, как заявил Штрикфельдт, имеют в Германии свои руководящие политические организации и в связи с этим получили возможность формировать свои национальные части, а поэтому и я, если хочу добиться успеха в своем начинании, должен прежде создать какой-то русский политический центр. Понимая серьезность доводов, выдвигаемых Штрикфельдтом, я обсудил этот вопрос с Малышкиным и Зыковым, и при участии Штрикфельдта мы выпустили от себя документ, в котором объявили о создании «Русского комитета».
Все дело в том, что план деятельности «Русского освободительного комитета в Смоленске» родился в недрах Отдела Генерального штаба «Иностранные войска Востока» (ФХО). В августе 1942 г. штаб группы армий «Центр» одобрил этот план. По соглашению между отделами ФХО и ОКВ/ВПр воззвание комитета должно было быть отпечатано и сброшено на Сталинградском фронте в количестве миллиона экземпляров. В воззвании предполагалось ясно наметить политические цели. Прошло время, но ничего не было сделано. В свое время получивший разрешение на издание листовки с 13-ю пунктами, включавшими политическую программу, капитан фон Гроте все же подготовил такой документ. Публикация его также не состоялась.
Тем не менее Штрик-Штрикфельдт его передал Власову. Зыков переработал все 13 пунктов, внеся туда призыв к населению, а Вильфрид Карлович добился разрешения на публикацию через своего знакомого военного врача частей СС у министра по делам Востока Розенберга. Уже через несколько часов ротационные машины отпечатали несколько миллионов листовок со «Смоленским воззванием», в котором говорилось:
«Друзья и братья!
Сталинизм – враг русского народа. Неисчислимые бедствия принес он нашей Родине и, наконец, вовлек русский народ в кровавую войну за чужие интересы. Эта война принесла нашему Отечеству невиданные страдания. Миллионы русских людей уже заплатили своей жизнью за преступное стремление Сталина к господству над миром, за сверхприбыли англо-американских капиталистов. Миллионы русских людей искалечены и навсегда потеряли трудоспособность. Женщины, старики и дети гибнут от холода, голода и непосильного труда. Сотни русских городов и тысячи сел разрушены, взорваны и сожжены по приказу Сталина.
История нашей Родины не знает таких поражений, какие были уделом Красной Армии в этой войне. Несмотря на самоотверженность бойцов и командиров, несмотря на храбрость и жертвенность русского народа, проигрывалось сражение за сражением. Виной этому – гнилость всей большевистской системы, бездарность Сталина и его главного штаба.
Сейчас, когда большевизм оказался неспособным организовать оборону страны, Сталин и его клика продолжают с помощью террора и лживой пропаганды гнать людей на гибель, желая ценою крови русского народа удержаться у власти хотя бы некоторое время.
Союзники Сталина – английские и американские капиталисты – предали русский народ. Стремясь использовать большевизм для овладения природными богатствами нашей Родины, эти плутократы не только спасают свою шкуру ценою жизней миллионов русских людей, но и заключили со Сталиным тайные кабальные договоры.
В то же время Германия ведет войну не против русского народа и его Родины, а лишь против большевизма. Германия не посягает на жизненное пространство русского народа и его национально-политическую свободу.
Национал-социалистическая Германия Адольфа Гитлера ставит своей задачей организацию Новой Европы без большевиков и капиталистов, в которой каждому народу будет обеспечено почетное место».
Закручено лихо, но самое главное – написано нагло, очень нагло.
Это был третий шаг генерала Власова. Он подписался под этим воззванием. В 45-м следователь спросил Власова:
«Вам предъявляется обращение «Русского комитета», датированное 27 декабря 1942 г. Об этом документе вы говорите?
Власов: Да, речь идет об этом документе.
Следователь: Почему в написанном вами обращении указывалось, что местом пребывания «Русского комитета» являлся город Смоленск, в то время как вы находились в Берлине?
Власов: С связи с тем что «Русский комитет» брал на себя функции правительства России, я и Малышкин считали политически невыгодным указывать, что «комитет» находится на германской территории».
После воззвания Власов посетил Дабендорф, где были открыты курсы по подготовке пропагандистов для работы среди военнопленных.
Русским руководителем учебной части Власов назначил сперва генерала Благовещенского, но вскоре заменил его более энергичным Трухиным.
Иван Алексеевич Трухин родился в 1896 г., в Костроме, из дворян, русский. В 1906 г. закончил начальную школу, в 1914 г. – 2-ю костромскую гимназию, в 1916 г. – первые два курса юридического факультета МГУи 2-ю Московскую школу прапорщиков. Беспартийный. В РККА – с 1918 г. Участник Гражданской войны: командир отделения, командир роты. С июля 1920 г. – командир батальона, а в октябре назначен командиром стрелкового полка. С января 1921 г. снова командир батальона, затем отпуск по болезни. С августа 1921 г. – командир роты на Костромских пехотных курсах. В сентябре 1922 г. зачислен слушателем в ВАФ. В 1924 г. награжден орденом Красного Знамени. По окончании В А Ф в августе 1925 г. назначен начальником штаба и исполняющим должность командира 133-го стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии УВО. С сентября 1926 г. – начальник штаба 7-й стрелковой дивизии. В январе 1931 г. назначен начальником штаба 12-го стрелкового корпуса ПриВО. С февраля 1932 г. преподаватель в ВАФ, а с апреля 1934 г. – начальник кафедры методики боевой подготовки. В 1935 г. – полковник. В октябре 1936 г. – слушатель АГШ. В октябре 1937 г. – старший руководитель курса, с ноября 1939 г. – старший преподаватель кафедры оперативного искусства. В 1940 г. ему присвоено воинское звание «генерал-майор». С августа – заместитель начальника 2-го отдела Управления боевой подготовки РККА.
28 января 1941 г. – начальник оперативного отдела и заместитель начальника штаба ПрибОВО, с 28 июня – заместитель начальника штаба Северо-Западного фронта. 27 июня ранен и захвачен в плен. 30 июня доставлен в сборный лагерь в Шталуленен, а затем в Офлаг XIII-D в Хаммельбург. В октябре дал письменное согласие на борьбу с советской властью, вступил в РТНП…
Вместе с Трухиным в Дабендорф прибыли и представители НТС.
Началась совместная работа эмигрантов с бывшими советскими гражданами.
А тем временем в Восточной Пруссии в Летцене было организовано учреждение генерала Восточных войск, подчиненного ОКХ. Так в рамках «германской организации» немцы попытались охватить всех «хиви» и добровольцев.
Генералом Восточных войск по просьбе полковника Ронне был назначен генерал-майор Гельмих. Теперь все русские, украинцы, прибалтийцы, кавказцы и другие народы, находящиеся на службе у немцев, стали считаться «восточными».
Генерал Гельмих, как и большинство его офицеров, не говорил по-русски. Более того, он совершенно ничего не знал об этом народе. Не понимал он и Власова.
При первой встрече с этим генералом Власов просил о выделении русских подразделений из немецких воинских частей и быстром сведении в национальные русские дивизии.
Убеждая Гельмиха, Власов говорил:
– Это то, что, может быть, еще сможет нанести Сталину смертельный удар!
Немецкий генерал соглашался на изменение наименования «восточные войска» на «добровольцы», но при этом подчеркнул, что подчинение добровольцев русскому главному командованию – дело политики.
– Тут решают политики, – говорил он. – И я ничего не могу сделать. Моя задача – сперва учесть всех добровольцев, а затем заботиться о том, чтобы они, как каждый германский солдат, получали свое жалование и были приравнены в правах к немецким военнослужащим.
– И когда вы думаете закончить учет и снаряжение всех добровольцев? – спросил Власов.
– Несмотря на все мои усилия, я пока не могу получить от командиров немецких частей достоверных цифр об имеющихся у них «хиви».
Пополнения из Германии в данное время практически прекратились, и каждый немецкий командир боялся ослабления своей части, если у него отберут «хиви».
Разговор был окончен. О нем Гельмих подробно доложил в ОКХ, где получил следующий ответ: Власов должен пока что ограничиваться ролью «пропагандной фигуры для солдат Красной Армии».
После официального признания «добровольцев» встал вопрос о формулировке присяги. По утверждению Штрик-Штрикфельдта: «Русские и добровольцы других национальностей, по нашему мнению, не должны были, да и не хотели присягать Третьему рейху. Сошлись на том, что присяга должна приноситься своему «свободному народу и Родине». Но Розенберг требовал одновременно и присяги на верность Гитлеру. Русские спрашивали: «Почему такое требование не ставится румынам, итальянцам, венграм и другим союзникам?»
В конце концов, более гибкие русские при поддержке Гроте нашли «переходную формулировку», как они ее называли, отвечавшую требованиям обеих сторон: русские должны были присягать на верность русскому народу (другие национальности – соответственно своим народам). В то же время все добровольцы скрепляли присягой подчинение «Гитлеру как верховному главнокомандующему всех антибольшевистских вооруженных сил».
Само собой разумеется, не все могли примириться и с такой формулировкой, и многие русские офицеры из лагеря Дабендорф предпочли возвратиться в лагеря военнопленных».
Многие, но не Власов и его сподвижники. Хотя, с другой стороны, куда же ему возвращаться, ведь так много уже было им сделано на службе фашистской Германии. Дорога у предателя одна.
7. Поездки на фронт и запретПосле получения согласия от фельдмаршала фон Клюге Власова стали готовить к поездке на средний участок фронта. Инициатором этой акции стало Восточное министерство. Удивительно, но только теперь, после воззвания «Русского комитета» и поражения Германии под Сталинградом, особенно резко встал вопрос об укреплении фронта и обеспечении безопасности тыла. Для сопровождения Власова выделили офицера штаба генерала фон Шенкендорфа, подполковника Шубута и капитана Петерсона.
Итак, Белосток – Минск – Смоленск. Подготовку поездки взял на себя отдел пропаганды штаба группы армий «Центр», возглавляемый майором Костом. Майор даже добился разрешения в штабе группы, чтобы Власову была предоставлена радиостанция в Бобруйске для обращения к населению. Но ОКВ запретило это радиообращение. Тем не менее руководитель радиостанции объявил, что в данный момент в радиостудии находится почетный гость: «Генерал Власов совершает инспекционную поездку по освобожденным областям и передает свои лучшие пожелания всем искренним русским патриотам…»
А вот как об этой поездке рассказывал следователю Власов:
«Я в сопровождении представителя отдела пропаганды германской армии подполковника Шубута и капитана Петерсона выехал в Смоленск, где ознакомился с деятельностью созданных немцами из советских военнопленных батальонов пропаганды и добровольческого отряда.
Там же, в Смоленске, по инициативе городского самоуправления мне была устроена встреча с представителями местной интеллигенции. Я выступил с сообщением о создании «Русского комитета» и переговорах, которые ведутся с немецким командованием, о формировании русских вооруженных сил для борьбы против советской власти».
Была и вторая поездка на северный фронт:
«В том же, 1943 г., я посетил Псков, где осмотрел батальон добровольческих войск и был на приеме у командующего германскими войсками, действовавшими под Ленинградом, генерал-фельдмаршала Буша, который попросил меня рассказать на собрании германских офицеров о целях и задачах «Русского комитета». Выступая на этом собрании, я заявил, что «Русский комитет» ведет активную борьбу против советской власти и что немцы без помощи русских уничтожить большевизм не смогут. Мое выступление явно не понравилось генерал-фельдмаршалу Бушу.
Возвращаясь в Берлин, я остановился в Риге и выступил с антисоветским докладом перед русской интеллигенцией города, а также имел беседу с проживавшим в Риге митрополитом Сергием.
Встреча с митрополитом Сергием мне была организована немецким офицером, который ведал пропагандой в Риге, с целью установления контакта с русской православной церковью и использования духовенства для совместной борьбы с Советской властью.
Сергий, согласившись со мной о необходимости усилить борьбу против Советской власти, сказал, что он намерен создать святейший синод в областях, оккупированных немцами. При этом Сергий говорил, что только священники, выехавшие из Советского Союза, знают положение населения и смогут найти с ним общий язык, в то время как эмигрантские священники оторвались от советской действительности и авторитетом среди населения не пользуются.
Я порекомендовал Сергию не торопиться с созданием синода, а прежде объединить духовенство для борьбы против большевизма и выяснить отношение населения к церкви».
Во вторую поездку Власов поехал по приглашению фельдмаршала фон Кюхлера и генерала Линдеманна. Она состоялась с середины апреля до начала мая 1943 г.
По мнению Штрик-Штрикфельдта, эта поездка была полным личным триумфом Власова, но в то же время она нанесла их движению страшный удар.
Перед отъездом Власова в ОКВ к Штрик-Штрикфельдту в феврале 1943 г. прибыл Сергей Фрелих. Бывший инженер и сын владельца большого коммерческого предприятия Риги предъявил документы от центрального штаба СА. Из них следовало, что Фрелих командируется в качестве связного офицера между штабом СА и штабом Власова. Этот немец, русский и латыш одновременно в дальнейшем станет опекать Андрея Андреевича и будет частенько заменять ему переводчика. По словам Фрелиха, генерал умел сразу почувствовать сущность обсуждаемого вопроса, и в результате собеседники быстро воодушевлялись и усваивали его идеи…
Однажды после выступления Власова в театре Смоленска к нему подошел заместитель германского начальника Смоленского района Никитин и начал спрашивать: правда ли, что немцы собираются делать из России колонию, а из русского народа рабочий скот? Правы ли те, кто говорит, что лучше жить в плохом большевистском СССР, чем под немецким кнутом? Почему до сих пор никто не сказал, что будет с нашей родиной после войны? Почему немцы не разрешают русского самоуправления в занятых областях?
Что мог ответить ему Власов, если он и сам не все понимал. После нескольких секунд раздумий следовали общие слова, общие фразы: «Уже одно мое выступление в этом театре доказывает, что немцы начинают понимать настроения и проблемы русских. Недоверие привело ко многим и тяжелым ошибкам. Теперь эти ошибки признаются немцами… Свергнуть большевизм, к сожалению, можно только с помощью немцев. Принять эту помощь – не измена… Чтобы добиться от немцев того, что должно было быть сделано уже давно, мне нужны доверие и помощь народа».
Власов лгал не только людям, но и самому себе, отвечая на конкретные вопросы, в общем. Так его спросили: «Господин генерал, почему после воззвания Смоленского комитета ничего не слышно об этом комитете и о вас лично?»
– Россия велика. Словечко «Смоленский» на листовке вы не должны принимать буквально. Но вы же знаете, как было под Сталиным. А обо мне вы вскоре будете слышать больше и чаще. Ведь мы только начинаем, – это все, что мог сказать Власов.
Никакого триумфа у него и быть не могло. Это был триумф капитана Штрик-Штрикфельдта и его начальников, а также всей немецкой пропаганды ОКВ. Сделано было немало. А как благодарят собаку за ее верную службу? Ей бросают кусок мяса.
Отблагодарили и Власова: из Дабендорфа, лежащего вне Берлина и находившегося на положении лагеря с установленным распорядком жизни, перевели в скромную виллу на Кибицвег в одном из районов Берлина-Далеме. Здесь он поселился вместе с двумя главными помощниками – Малышкиными и Жиленковым, под охраной русской команды.
После своего возвращения Власов со своими сподвижниками разработал план операции по захвату еще не занятой германской армией полосы между бывшими царскими летними резиденциями Ораниенбаумом и Петергофом, а также по овладению Кронштадтом. Власов, по воспоминаниям Вильфрида Карловича, предлагал провести эту операцию сам с русскими добровольцами в составе двух дивизий. Его целью было удержать за собой Ораниенбаум и Кронштадт. Пока доклады об этом через генерала Гелена пошли наверх, готовилась пропагандистская акция под кодовым названием «Просвет». Задача этой акции заключалась в распространении по ту сторону Восточного фронта информации о том, что против советских войск стоят не только немцы, но и их борющиеся за свободную Россию бывшие боевые товарищи, и что при переходе на немецкую сторону их будут рассматривать не как военнопленных, а как равноправных соратников в рядах русской национальной части, если они того захотят, или же они смогут мирно работать.
Штрик-Штрикфельдт вспоминал: «Гелен возлагал большие надежды на эту операцию, при условии, что она будет проводиться в сотруд – ничестве с Власовым и в связи с освободительным движением. Санкции на это у него еще не было. Но уже было дано согласие на то, чтобы придать каждой фронтовой дивизии вермахта специальные группы русских, состоящие из пяти офицеров и пятнадцати иных чинов. Эти русские группы должны были пройти в Дабендорфе краткосрочные курсы, чтобы к концу апреля было подготовлено полторы тысячи человек. Их должны были прислать на Дабендорфские курсы из существующих добровольческих частей при генерале восточных войск. Авторы проекта надеялись, что специальные группы в результате переходов красноармейцев вскоре вырастут до батальонов или даже до полков».
Но случилось так, что фельдмаршал Кейтель отдал приказ о запрещении Власову какой бы то ни было политической деятельности, вследствие его «наглых» высказываний во время поездки в группу армий «Север».
А.А. Власов: «После возвращения из поездки я имел в городе Летцене встречу с командующим добровольческими частями генерал-лейтенантом Хельмигом.
Хельмиг предложил мне остаться у него в штабе и помогать ему руководить сформированными русскими частями. Я отказался от этого предложения, заявив Хельмигу, что до тех пор, пока русские военнопленные будут находиться на службе в немецких частях, они воевать против большевиков как следует не будут. Я просил Хельмига всю работу по созданию русских частей передать мне, с тем чтобы сформировать из них несколько дивизий, подчинив их «Русскому комитету».
Не договорившись с Хельмигом, я возвратился в Берлин и от Штрикфельдта узнал, что о моем выступлении у фельдмаршала Буша стало известно Гиммлеру.
Гиммлер на одном из узких совещаний высших начальников германской армии заявил, что отдел пропаганды вооруженных сил Германии возится с каким-то военнопленным генералом и позволяет ему выступать перед офицерским составом с такими заявлениями, которые подрывают уверенность у немцев в том, что они одни могут разбить Советский Союз.
Гиммлер предложил прекратить такую пропаганду и использовать только тех военнопленных, которые заявляют о своем согласии служить в немецкой армии.
После этого выступления Гиммлера я некоторый период не проявлял активности и до 1944 г. никуда из Берлина не выезжал…»
Соответственно, срывалась и акция «Просвет», так как она планировалась при участии Власова. И все же немцы провели ее без него. Об этом написал Вильфрид Карлович: «Наши специальные группы и отдельные пропагандисты продолжали говорить о русской освободительной армии в своих обращениях, но разрыв между обещаниями пропаганды и реальностью лишал их призывы искренности.
Несколько позже я получил возможность просмотреть сводку результатов всей операции, составленную на основании донесений дивизионных штабов. «Группы перехвата» были всего в 130 дивизиях, из них 97 сообщали о хороших, 9 – о посредственных и остальные 24 – о слабых или ничтожных результатах».
Честно говоря, даже этим цифрам поверить сложно, потому что Вильфрид Карлович Штрик-Штрикфельдт работал все-таки не в Красном Кресте, а в ведомстве Гелена. Это надо учитывать. Придумать, сфантазировать можно что угодно, но где же истина? Например, Штрик-Штрикфельдт в своей книге называет 17 апреля, дату, когда фельдмаршал Кейтель отдал приказ о запрещении политической деятельности Власова. Приводит он и сам приказ: «Ввиду неправомочных, наглых высказываний военнопленного русского генерала Власова во время его поездки в группу армий «Север», осуществленную без доклада фюреру и мне, приказываю немедленно перевести русского генерала Власова под особым конвоем обратно в лагерь военнопленных, где и содержать безвыходно…» и т. д.
Но тот же Вильфрид Карлович до этого пишет, что вторая поездка Власова состоялась с середины апреля до начала мая 1943 г. А документ был подписан 1 июля и содержал угрозы возвращения в лагерь:
«Перевод с немецкого, начальник штаба Вооруженных сил 1.VII – 1943 года
1. Начальник отдела пропаганды вооруженных сил доложил мне в Берлине о совершенной им по моему приказанию фронтовой поездке (Восточной фронт).
Согласно его сообщению, власовская пропаганда и параллельно с этим развертывание «освободительной армии» сведены к масштабам, предусмотренным фюрером, и направлены в желаемое фюрером русло.
2. Министр по делам Востока отклонил использование Власова. Фюрер согласился с доложенным мной предложением полковника фон Веделя об использовании его в целях пропаганды.
3. Сегодня я беседовал с фюрером по поводу обоих предложений, переданных полковником фон Веделем. Фюрер согласен с таким раздроблением и связанной с этим отменой великорусской идеи Власова.
4. Начальник отдела пропаганды вооруженных сил мною проинформирован.
Подписал КЕЙТЕЛЬ».
Так советского предателя генерал-лейтенанта Власова немецкие хозяева поставили на место, напомнив ему очевидную истину: инициатива наказуема! Ведь он действительно переборщил. Но пользоваться им продолжали.