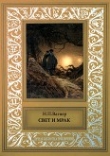Текст книги "Ключ от берлинской квартиры"
Автор книги: Олег Моисеев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Клятва
Много фотографий хранится в альбоме Кюнга. Иные из них с трогательными надписями, сделанными такими людьми, как член ЦК чешской компартии Кветослав Иннеман или Роза Тельман.
Вот на фоне московской гостиницы «Украина» стоят пятеро, Их руки сплетены в пожатии. Снимок можно назвать «Клятва». В середине – рядом с Николаем Федоровичем – полный, курчавый мужчина с высоким лбом и веселым приветливым лицом. Это Марсель Поль, член ЦК Коммунистической партии Франции, секретарь Союза электриков, бесценный друг по Бухенвальду, руководитель французского движения Сопротивления.
Николай Федорович, показывая мне эту фотографию, вдруг рассмеялся. Он вспомнил одну из удивительных историй времен подпольной деятельности заключенных.
…Национальные подпольные центры помогали чем могли своим соотечественникам. Довольно распространенным был «абкох» – подкармливание. Заключенного прикрепляли к «чужому» бараку или к работавшим на эсэсовской кухне, и он получал дополнительное питание. Существовала также «кантовка». Кантовщиками именовались те, кто числился в рабочих командах, нигде не работая. А работать, в лагере обязаны были все, даже малые дети, которых заставляли сортировать вещи и волосы казненных.
Наиболее ценных для подполья людей стремились избавлять от тяжелого физического труда. В числе их был французский полковник Фредерик Манес. Военный руководитель французского центра, он в дни восстания бухенвальдцев командовал вооружившимися заключенными. Его заместителем был советский пленный подполковник Иван Иванович Смирнов.
В один злополучный день Манес вместе с другим «кантовщиком» распределял во французском бараке прибывшие от Красного Креста посылки. Они раскладывали предметы па пустые нары находившихся на работах пленных. Здесь же, в бараке, лежал изголодавшийся и больной русский пленный. Он жадно потянулся к нарам, на которые Манес положил продукты. Тот стал ему объяснять, что французы потом от себя дадут ему пай. Но русский не понимал чужого языка.
Двое пленных из русского барака, зашедшие навестить больного, подумали, что Манес обижает его и решили заступиться за товарища. Назревал конфликт «международного значения». Русские, дескать, избили француза.
Интернациональный центр немедленно поручил подпольщикам урегулировать инцидент. «Парламентером» от французов был Марсель Поль, от советского подполья – Кюнг.
Легче всего было установить непосредственных виновников. Их имена Кюнг знал уже на второе утро. Но как заставить их извиниться перед Манесом в присутствии всех обитателей русского барака? Как убедить их, что они неправы, не раскрывая им, что существует подпольное движение в лагере?
И нужно отдать должное находчивости и такту Поля. «Французы – союзники дореволюционной России в первой мировой войне, – сказал он. – А разве не союзники во второй? Разве народы – и советский и французский – не страдают в одинаковой мере от насилия поработителей?» – Так предложил он объяснить ситуацию драчунам.
С ними поговорили и растолковали, что нельзя, мол, ущемлять также национальное самолюбие французов. В бараке провели собрание. На собрании присутствовали Фредерик Манес и еще несколько французов. Оба военнопленных извинились, протянули руки полковнику. И со всех сторон потянулись к французам ладони, на которых были хлеб, сигареты, мармелад. Русские от всей души делились скудным пайком со своими товарищами по заключению.
…К вечеру первого дня восстания бухенвальдцев, когда главные силы эсэсовской охраны были опрокинуты, а ключевые позиции захвачены, Фредерик Манес, находясь в штурмующей группе, уже за пределами лагеря, услышал за собой одинокий выстрел. Он оглянулся. По земле катались два человека. Один в ненавистной черной шинели с изображением черепа и костей на рукаве, другой в изодранной гимнастерке советского образца. Подоспевший Фредерик помог обезвредить дюжего гитлеровца. Русский военнопленный, которого хорошо запомнил Манес, поднялся. Его левая штанина набухла от крови, однако он стал по стойке смирно.
– Мон колонель [2] [2] Мой полковник (французск.).
[Закрыть], разрешите обратиться,– сказал он.– Когда вы шли, этот паразит из-за угла в вас целился.
Из всего этого обращения командир сначала разобрал только первые два слова на своем родном языке. Но тут же он понял и главное.
…Снимок, который. хранится в альбоме Кюнга, смело можно назвать «Клятва». Ни коммунист Марсель Поль, ни сам Кюнг, ни беспартийные Иван Соломко или Фредерик Манес в ходе борьбы не нарушили клятвы верности советского и французского народов.
Унтер ден Линден
Спустя много лет после окончания войны Симаков и Кюнг по поручению Советского Комитета ветеранов войны приехали в Берлин. Им предстояло наладить отношения с Международным комитетом бывших узников Бухенвальда.
В свободный вечер группа советских товарищей вышла из гостиницы и пошла по Унтер ден Линден к рейхстагу. Было начало июля. Одуряющий аромат цветущих лип слегка кружил голову.
– Унтер ден Линден, Унтер ден Линден… – Кюнг повторял про себя название улицы, будто эти слова были словами какой-то песни, мотива которой он не мог вспомнить Главная улица столицы Германской Демократической Республики из-под арки Бранденбургских ворот уходит в Западный сектор Улица одна, а жизнь на ней разная.
Бывший дворец Геринга находится в Восточном секторе, подле Бранденбургских ворот, а рейхстаг – уже в Западном. На бульваре возле рейхстага, у памятника советскому солдату, застыли два наших часовых. Они стоят так же подтянуто, непроницаемо и строго, как у мавзолея на Красной площади. И в этом, подумалось Кюнгу, свой глубокий смысл. Они берегут здесь славу и правоту идей своего великого государства.
Явственно выступает на верхней части здания рейхстага надпись русского воина, сделанная штыком: «Прибыл издалека. Рязань, где Ока. Иванов. 4 мая 1945 г.». Надписи наших солдат, сделанные ниже, сбиты, и стена грубо обтесана.
– Ну, до Иванова каменщикам Западного магистрата не добраться,– сказал кто-то.– Больно высоко!
Сумерки еще не легли на плечи Берлина, и западная реклама пока не начала свой бешеный световой хоровод. А на бульваре, в центре которого памятник с часовыми, и где отдыхает много людей, уже стали появляться ярко накрашенные, крикливо одетые женщины.
Одна улица. А жизнь разная.
– Ты помнишь? – спросил Симаков. Больше ничего. Он произнес только два слова, по Кюнг сразу понял, о чем подумал товарищ. Конечно, он помнил…
В Бухенвальде стоял перед изолятором барак, окруженный забором. По ту сторону калитки дежурил старый эсэсовец.
Вход в барак разрешался по особым талонам, выдаваемым комендатурой заключенным за «ценные заслуги», оказываемые политическому отделению. Национальные подпольные центры вели борьбу против этих посещений.
В бараке было тринадцать комнат. К каждой из них примыкала ванна со стенами и полом, облицованными кафельными плитками. Комнаты занимали молодые женщины. У каждой своя горькая судьба.
Жена казненного голландского антифашиста, заподозренная в связях с партизанами; полька; за что-то осужденная немка, которой тюрьму заменили пребыванием в этом бараке. Всех было тринадцать. У каждой своя тяжкая ноша на сердце, особая злая участь.
Как-то стало известно, что в барак доставлена русская. Вместо француженки, сошедшей с ума.
Кто она и откуда?
Как ее вызволить?
Эти мысли не давали Кюнгу покоя. Несколько дней русская провела в карантине. К ней никого не допускали.
Но вот карантинный срок окончился А наутро русскую нашли в ванне, куда медленно стекала кровь из прокушенных ее зубами вен на руках.
– Помнишь, Николай?
– Да, я помню…
Кюнг видел бульвар за громоздким рейхстагом и ярко накрашенных женщин.
Улица одна, а жизнь на ней разная.
Одурманивающе пахли цветущие липы. А в сознании назойливо звенело: «Унтер ден Линден, Унтер ден Линден…
Старая привычка
Сколько старых друзей встречает Кюнг в ГДР. Теперь он туда приезжает нередко. Новые контакты – свежие и крепкие звенья в единой цепи борьбы за мир.
Как-то Роберт Зиверт, один из руководителей немецкого и интернационального подполья Бухенвальда, а сейчас ответственный работник одного из министерств ГДР, спросил Николая Федоровича, чем он занимается в секции военнопленных Советского комитета ветеранов войны.
Кюнг достал записную книжку. Раскрыл на буквах: СК ВВ и подал Зиверту. Буквы сокращенно обозначали название комитета. Зиверт, полистав странички, не увидел там ничего примечательного. Отдельные буковки, цифры, крючкообразные знаки. Пожав плечами, Роберт протянул книжку обратно. Кюнг весело рассмеялся и пояснил:
– Старая бухенвальдская привычка. Отмечать для себя все так, чтоб никто другой не понял. Это так во мне укоренилось, что даже теперь, уже без всякой нужды, пользуюсь собственным шифром. Вот этот квадрат означает – добиться в областном городе издания воспоминаний одного бывшего пленного. Выполнено. Книжка получилась неплохая. Эта стрелка – проконсультировать рукопись об узнике фашизма. «Ле» – организовать на заводе лекцию. Чем больше узнают о стойкости наших людей, тем лучше.
Следом идет цифра '«700». О ней много можно сказать. Затратив немало усилий, мы уточнили большинство событий, предшествовавших,– помнишь, конечно, – тому знаменитому побегу семисот заключенных из лагеря Маутхаузен. Мы установили эпизоды побега многие фамилии участников, узнали, как сложились их судьбы после войны.
Тебя интересует эта буква «П»? П – это Панфилова, жена полковника, которая обратилась в Комитет с просьбой установить, не был ли ее муж в плену. В свое время военкомат сообщил ей, что он пропал без вести. После долгих розысков было доказано, что вовсе не без вести исчез Панфилов, а, будучи тяжело ранен, очутился в плену. И там не сдался. Замучен. Теперь и жена и сын знают: муж и отец их – герой.
Вот, браг, чем занимается сегодня председатель секции бывших военнопленных. Знаю, почему глядишь с хитринкой. Готов поспорить на наш лагерный суточный рацион сладкого, будь он трижды неладен, – на ложечку мармелада. Вот у тебя, Роберт, на языке уже вертится вопрос, откуда я познал тайны шифровки – да еще создал свой шифр. Нихт зо? [3] [3] Не так ли (немецк.).
[Закрыть]. Сейчас об этом смело могу сказать: вся работа отдела безопасности русского подполья Бухенвальда фиксировалась мною.
Вся.
Включая имена предателей, которых казнили решением Интернационального центра.
Кроме меня и умершего после войны моего помощника, которому доверял, как брату, Кости Крокинского, никто в мире не смог бы разгадать записанного. И по сей день цела у меня тетрадь в коленкоровом переплете. Знаешь, где она хранилась? Под бетонной площадкой водосточной трубы нашего блока! Сняв доску с пола, мы с Крокинским ночами вели к этой площадке подкоп под землей. Две недели.
Пятнадцать ночей.
Прямо, как в романе Дюма. А кто поверит, Роберт, если рассказать?
Зиверт встал с кресла, обнял Кюнга и кратко резюмировал:
– История.
Набил табаком трубку, прибавил:
– Спустимся-ка вниз. Время пить кофе Лизелотта уже заждалась нас.
Домик под черепицей
Последний раз Кюнг ездил в Германию на открытие памятника в Бухенвальде в связи с 15-летием со дня восстания заключенных. На митинге присутствовали представители движения за мир из ФРГ, Англии, Франции, стран Скандинавии, из Югославии, Чехословакии, Румынии. Из всех восемнадцати стран, чьи сыны томились в неволе на этой земле и чьи флаги сегодня реяли тут.
Свыше ста тысяч человек собралось на митинг. Было много жителей окрестных городов и деревень. Председательствующий Роберт Зиверт сказал: «Сейчас от Советского Комитета ветеранов войны… слово верному другу по борьбе с фашизмом нашему дорогому Николаю Кюнгу».
Дрогнувшим голосом Кюнг заговорил о том, что бывшие узники Бухенвальда хорошо помнят день своего второго рождения, когда над концлагерем взвилось знамя освобождения. Тогда же они на аппельплаце поклялись бороться до полного искоренения фашизма.
Он подчеркнул, что, по данным печати, в странах мира находятся под ружьем более двадцати миллионов солдат. Что на каждого из них работают в промышленности и в сельском хозяйстве по пять человек. А все7го свой труд и талант отдают на производительные военные цели свыше ста миллионов людей.
Оратор напомнил, что на вооружение современных армий поступают атомные и водородные бомбы. А взрыв лишь одной водородной бомбы по энергии разрушения превышает общую сумму взрывов снарядов, мин и бомб за всю многовековую историю человечества.
Кюнг назвал имена дорогих братьев своих Ивана и Гермогена, убитых в боях с гитлеровцами, и Григория, живым сожженного под Смоленском в деревенской бане.
– Советские люди, как никто другой, жаждут мира. Но если Демократическая Германия стала надежным бастионом в борьбе против милитаризма и фашизма, то в Западной Германии они возрождаются и пестуются. Миллионы жителей Востока и Запада, Юга и Севера не устают повторять за Юлиусом Фучиком: «Люди, будьте бдительны!»
И стотысячная масса на разных языках выдохнула в едином порыве: «Клянемся и мы!»
Через несколько дней, перед тем, как отправиться на аэродром, чтобы возвратиться на Родину, Кюнг заехал к Зиверту попрощаться.
Крытый розовой черепицей небольшой двухэтажный домик в берлинском районе Карлсхорт. Улица Григориуфсвег. Жилище старого коммуниста – соратника Карла Либкнехта и Розы Люксембург, Эрнста Тельмана и Вильгельма Пика – Роберта Зиверта, еще в Женеве встречавшегося с Лениным.
Вот тогда-то и поднесла на алой подушке, собственноручно расшитой ею, Лизелотта Зиверт посланцу Москвы необычной формы ключ. А Роберт сказал:
– Считай этот дом своим. Когда бы ты ни приехал, входи в него, как к себе, Николай. Бери ключ, потому что свое сердце я давно отдал советскому народу.
СОРОЧИНСКИЙ ПЛАТОК
В Великих Сорочинцах, тех самых, что стали известны миру благодаря Гоголю, несколько лет назад услыхал я этот рассказ от старика, хозяина дома, в котором останавливался. Я записал его слово в слово.
Сколько лет назад тому было, когда дороги за несколько километров от Сорочинец кипели народом? Все шесть дорог, что ведут из Сорочинец в большой свет: Миргородская, Шишацская, Зеньковская, Ковалевская, Гадячская и та, что на станцию? Отовсюду шел народ. Но не веселый, а хмурый. Позади каждой толпы – полицаи и фашистские унтеры. Видно, не своей волей поспешал народ на ту воскресную ярмарку. Не за покупками, за злым горем торопились.
Эх, не думалось тебе, Николай Васильевич, что в той стороне и доныне известной по твоим рассказам грамотным людям земли, где Грицько кохал Параску, а глупый черт терял свою свитку,– может твориться подобное.
На взгорье росли осокори. Безмолвные, несмотря на ветерок, стояли они, оцепенев, не шелестя ни единым листочком. А на крутом обрыве, туда, вниз, где нес свои воды Псел, склонив густые кроны, застыли печальные вербы. Псел спешил, гнал к Днепру свои воды. Еще мгновение, помутнеет зеркало реки, и соль человеческой крови вольется к вечеру в Днепр, что затем понесет эту соль длинным путем к Черному морю. И сольется та соль с морскою, и станет она тогда горчайшей в мире.
Понуро безмолвствовал на площади народ. Кругом автоматчики. А посреди стояла немолодая, рослая женщина в изорванном платье, на котором буйными маками неистово рдела кровь. Женщина шаталась, как былинка в поле и, наверно, давно бы похилилась, если б не босоногий хлопчик, заботливо поддерживавшие ее своей ребячьей рукой.
Это была Ольга Антоновна Бондаренко, голова местного колгоспа. Ее поймали гитлеровцы и расстреляли. Но пуля не оказалась смертельной. Подобрали Ольгу Антоновну советские люди, выходили. И снова схватили ее фашисты. Опять стреляли. И опять не добили. Темнесенькой ночью уползла она в хату. А наутро ее и сына выследил подлый предатель, выдал.
По всему району славилась Ольга Антоновна своим умом и правдою. А женщины знали ее еще и как искусную вышивальщицу. Как живые, росли на ее вышивках цветы, улыбались у криницы дивчины парубкам, а вода в ведрах была так натуральна, что вот-вот выплеснется с рушника.
Согнали оккупанты народ на третий расстрел Ольги.
Вот подошел к месту казни эсэсовский взвод. Крепче обнял хлопчик свою маты и закричал на всю площадь. Но не душевная немощь была в этом крике, а непреодолимая сила. Ибо знал хлопец, что батько сражается под Москвой, и не только к нему, а ко всему народу шел голос его сердца, звавший в последнюю минуту к отпору и борьбе.
– Видишь ли ты, батько? – закричал хлопец.
– Вижу! – всколыхнулась площадь в едином порыве.
Автоматчики стали оттеснять народ от смертников. Уже строились по отделениям черномундирники с черепом и скрещенными костями на рукаве.
Тогда раздался громкий женский голос. Как резкий клекот низко пролетающей птицы, пронесся он над толпой.
– Нехай писля нас живут ще краше! Вечно красуйся, ридна ненька!
И выхватила Ольга Антоновна спрятанный на груди вышитый ею платок и высоко, насколько позволяли ослабшие силы, подбросила в воздух. И он взлетел, как голубь, и, распрямившись в неожиданном дуновении ветра, затрепетал, как знамя.
И все увидели на нем самое дорогое лицо.
Раздался залп.
Дрогнула толпа. А ветер нес к круче расшитый цветными шелками платок с изображением Ленина. За ним, горланя, стреляя в платок, бежали эсэсовцы.
С тех пор ни в якой хате, ни в Сорочинцах, ни на наших хуторах нельзя не побачиты такого платка.
Может, где похуже, где получше изображены черты самой близкой нам всем людыны. Но спросите любую хозяйку, никто не скажет, что вышивала она. «Це Ольгин платок, Бондаренчихи»,– така буде видповидь.
Вот и у нас в углу, тихесенько сознаюсь, внученьки моей, Валюшки – работа. А и она скажет – Ольгин платок. А внизу красными нитками вон как старательно вышито:
«Да разве найдутся на свете огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!»
ХОЗЯЙСТВО ГЕНЕРАЛА КОРЖА
Еще в начале третьей июньской декады 1941 года он создал ядро будущего Пинского партизанского соединения.
И вот я лечу из Минска к нему, Герою Советского Союза, генерал-майору в отставке, по зову сердца возглавившему после войны колхоз.
Корж! Фамилия эта стала легендой в Белоруссии.
«Партизанским краем» называется хозяйство. Тогда и теперь тут сражались и продолжают сражаться люди, Природа и сегодня не поддается слабым. У нее крутой нрав, одолеть который дано лишь упорным и сильным. А такими не бедно Полесье.
С воздуха картина необычайно живописна. Темно-зеленая густота хвойных лесов, голубеющие ленты змеящихся Лани и Морочанки. Серовато-стальные пески, пески. Седые дымки над крышами населенных пунктов, застывшие в легком морозце.
Господствует же над всем коричневый цвет. Он окружает леса, властно вторгаясь в них и деля на участки. Коричневые площади притаились у деревушек, они бок о бок с сочти чернью больших массивов, вспаханных под зябь. Коричневый цвет, он ошибочно манит глаз лишь с воздуха. Ибо это – болото, трясина, топь. Черные же квадраты, вторгающиеся в это гиблое царство – поднятая целина, дающая невиданные здесь урожаи.
Итак, хозяйство. В нашем сегодняшнем понимании оно не нуждается в пояснении, Ну, а в прошлом? Всем ли попятно былое его толкование, применительно к условиям войны? Так, с добавлением фамилии командира, назывались отдельные воинские части. Такие таблички на развилках фронтовых дорог со стрелкой, указывавшей направление, помогали куда надо добираться. Конечно, у партизан табличек не было, но на штабной карте в Москве они тоже значились «хозяйствами»… Короткие невыдуманные рассказы о людях и разных событиях напомнят читателю о некоторых мужественных характерах и замечательных делах не столь уж давно минувших дней.
Внук Сусанина
Так все называют Владимира Цуба, колхозного лесника, и плотника, и шорника. Собственно, по «штатному расписанию», он только объездчик. Все остальное – оттого, что не любит сидеть сложа руки и сызмальства пристрастился от деда к ремеслам. Ему тридцать один год. И хотя на вид неказист, в руках его большое мастерство и сила. За эту силу, за любовь к труду его выбрали в правление колхоза.
Деревушка Новина небольшая и со всех сторон наглухо замкнута высоченными лесами. Ладные колхозные постройки и дома колхозников, школа и баня, даже заборы и колоды для пчел – все это новое, выросшее на обугленном месте.
Выдолбить в великаньем стволе жилье для лесных пчел, устроить для них удобное пристанище и склад для меда, смастерить окошко, чтоб пчелы свободно проникали, и лаз для руки – для этого тоже требуется немалая сноровка. И этому научил его тоже дед Иван Павлов. Владимир почему-то на болгарский лад произносит отчество деда.
Было так. Во время фашистской облавы, как партизаны называли жестокую блокаду, когда в кольце нескольких дивизий отсиживались в болотах, прикрытых острыми пиками сосен, в Новину пришел отряд в сорок четыре человека. Сорок автоматчиков, три сапера и капитан. Из деревушки все давно ушли в лес, увели и скот. Только в одной избе два деда Цуба – братья: Иван да Михаил Павловичи.
– Тяжко нам в лесу,– сказал старший Иван,– восемьдесят не сорок. Может, Михайла подастся, меньшой все ж, только семьдесят шестой пошел.
Но и младший не покинул родного дома.
Немцы предложили в награду корову, приведенную с собой. Голодная, она натужно мычала. Корова станет собственностью того, кто доведет их до партизан. Знают: старикам ведома тропа через болота.
– Николы! – затряс седой бороденкой младший. – Слышь, немчура поганая, николы!
Хотя слово не было понятно капитану, один только вид гневно выкрикивавшего его Михайлы был достаточно красноречив. Выстрел. Бородка деда окрасилась кровью. Он упал к ногам старшего брата.
– Ставь корову в хлев,– приказал тот офицеру,– я вас поведу,– и махнул рукой в сторону леса.
Очевидцев не сохранилось. Только прорвав блокаду, партизаны нашли в болоте сорок пять трупов. На сорок пятом пулевое ранение. Это и был Иван Павлов Цуба, полесский Сусанин. Он лежал, как бы вглядываясь в небо голубыми глазами, в которых застыло счастье.
Со всей категоричностью Корж уверял меня: «Да, да! Глаза были вельми (очень) счастливые».
Усомнившись вначале, я потом сам себе признался, что был не прав. Действительно, разве не великое счастье восемь десятков лет ступать по родимой земле, а потом навечно сердцем припасть к ней, отдав жизнь за ее свободу?