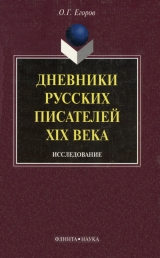
Текст книги "Дневники русских писателей XIX века: исследование"
Автор книги: Олег Егоров
Жанры:
Языкознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
С точки зрения содержания дневник представляет собой идейно законченный цикл. Ряд типичных для Герцена тем и образов проходит по кругу и, как в музыке, разрешается тоническим аккордом, придающим всему произведению эстетическую завершенность.
В 1860-е годы Герцен сделал несколько коротких дневниковых записей с интервалом в 1–2 года. Все они объединены одной общей темой, которая побудила писателя назвать свой поздний журнал «Книгой стона». Тема времени, имевшая важное значение в раннем дневнике, здесь становится центральной и приобретает мрачный, пессимистический тон. В этом коротком дневнике перед нами предстает не Герцен – носитель и пропагандист философии прогресса и оптимизма, а уставший в борьбе с жизненными невзгодами, сокрушенный в своих несбывшихся мечтах и замыслах человек. Монотематизм придает этому дневнику единство и почти художественную выразительность: «15 июня 1860. Я ужасно устал – видно, это-то и есть старость» (т. XX, кн. 2, с. 601); «27 апреля 1862. Еще два года на днях мне было пятьдесят лет – после 2 мая 1852 г.» (с. 601); «24 сентября 1863. – Генуя <…> Широкой жизни, богатой рамы искал я, переезжая первый раз Приморские Альпы <…>» (с. 603).
Тарас Григорьевич
ШЕВЧЕНКО
В истории дневникового жанра 1850-х годов дневник Т.Г. Шевченко занимает едва ли не центральное место по своему художественному совершенству. Написанный на русском языке, он, как и повести поэта, по праву принадлежит русской литературе.
Дневник велся в период окончания солдатской службы, когда Шевченко ожидал официальный документ о своем освобождении. Импульсом к ведению дневника и послужило данное обстоятельство. Поэтому в функциональном отношении журнал автора «Кобзаря» родствен дневнику В.К. Кюхельбекера и ранним дневникам В.Г. Короленко. Преимущественное положение Шевченко в этой группе писателей очевидно: он считает дни до своего освобождения, а они запасаются терпением на долгие годы ограничения свободы.
С психологической точки зрения все три дневника имеют одну природу. Настоящее время является для каждого автора препятствием, и ему скорее хочется его преодолеть. Дневник заполняет это насильственно растянутое время, замещает психологически тягостное ожидание: «А я все-таки не могу ни за что приняться. Ни малейшей охоты к труду. Сижу или лежу молча по целым часам <…> Настоящий застой. И это томительное состояние началось у меня 7 апреля, т. е. со дня получения письма от М. Лазаревского. Свобода и дорога меня совершенно поглотили» (с. 15) [41]41
Шевченко Т.Г.Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. – М., 1964.
[Закрыть].
Сама идея дневника вначале представлялась Шевченко очень смутно. Лишенный всех форм духовного творчества в течение десяти лет, ссыльный поэт пытается компенсировать отобранную свободу активной литературной деятельностью в самом конце этого мучительного и долгого пути.
Прежде всего Шевченко хочет забыть ужасы солдатчины, утопить воспоминания о десятилетней каторге в незамысловатом бытописании – этом первом труде не по принуждению. Солдатское прошлое он хочет вычеркнуть из жизни и поэтому, как и Кюхельбекер, предпочитает в своем тюремном дневнике совершенно сторонние темы, игнорирует чисто солдатскую тематику: «Однако вспоминание о прошедшем и виденном в продолжение этого времени приводит меня в трепет. А что же было бы, если бы я записал эту мрачную декорацию и бездушных грубых лицедеев, с которыми мне привелось разыгрывать эту мрачную, монотонную десятилетнюю драму? <…> Обратимся к светлому и тихому, как наш украинский осенний вечер, и запишем все виденное и слышанное, что сердце продиктует» (с. 9).
Однако отсутствие ясного плана и утрата навыка писания на первых порах затрудняют работу авторской мысли. В сфере внимания поэта оказываются совершенно незначительные предметы, и он сам иронизирует над собой по поводу того, что они невольно попадают в его журнал. Но юмор, с которым он принимается их описывать, истинно украинская лукавинка придают таким записям почти гоголевскую выразительность: «Сегодня уже второй день, как сшил я себе и аккуратно обрезал тетрадь для того, чтобы записывать, что со мною и около меня случится <…> Пока совершенно нечего записывать. А писать страшная охота. И перья есть очиненные <…> А писать все-таки не о чем. А сатана так и шепчет на ухо: – Пиши, что ни попало, ври, сколько душе угодно» (с. 8).
С самого начала Шевченко не придавал своему журналу серьезного значения, считая его делом пустяковым, вроде случайно приобретенного и пригодившегося на время чайника, с которым постоянно сопоставляет дневник. В писании дневника Шевченко видит не труд, а развлечение, не потребность, а род литературной разминки перед предстоящим серьезным делом. К тому же его ближайшие планы не связаны с писательством: он мечтает заняться ремеслом живописца.
Признание Шевченко акцидентального характера своего труда созвучно лирическому дарованию кобзаря. Приземленность жанра не согласуется с поэтическими полетами фантазии, которые обычно сопровождали его в минуты творческого вдохновения. Поэтому постоянство, с которым ведется журнал, вызывает у автора удивление, заставляющее его поскорее отогнать мысль о серьезности своих записок: «Не знаю, долго ли продлится этот писательский жар? <…> Если правду сказать, я не вижу большой надобности в этой пунктуальной аккуратности. А так – от нечего делать» (с. 11).
По мере продвижения работы над дневником представления о его функции не меняются в сознании поэта. Но та аккуратность, с которой в него заносятся сведения о прожитом, находится в разительном противоречии с многократными попытками убедить самого себя в легковесности своих ежедневных занятий. Как уже бывало в таких случаях, общение с дневником становится потребностью для его автора. Поэт бессознательноотдается новой для него работе как привычному жизненно важному делу: «Сначала я принимался за свой журнал как за обязанность, как за пунктики, как за ружейные приемы; а теперь, а особенно с того счастливого дня, как завелся я медным чайником, журнал сделался для меня необходимым как хлеб с маслом для чаю <…> Справедливо говорится: нет худа без добра».
Дневник для Шевченко становится элементом духовного быта, от которого он отвык за десять лет и к которому теперь не без труда приобщается в качестве профессионального литератора. Но как только функция замещения перестает действовать, – а это случается в Петербурге, во время фактического прекращения ссылки, – необходимость в дневнике отпадает сама собой. Его место займут традиционные для сознания и образа жизни поэта культурные потребности. Но произойдет это не вдруг, а постепенно, как гаснет затухающая свеча.
Занявший кратчайший промежуток времени в творческой эволюции поэта (один год), дневник отразил переходное душевное состояние Шевченко – от переживания одиночества к полнокровному восприятию внешнего мира. В этот период дневник не только помог поэту преодолеть «затянувшееся» время, но и стал для него своего рода психотерапевтическим средством. Через дневник накопившееся за годы психическое напряжение разряжалось в наименее острой и безопасной для сознания форме. Вот почему сам автор не может найти подходящего объяснения исходящим изнутри импульсам, заставляющим его словно против воли обращаться к своему журналу: «Я что-то чересчур усердно и аккуратно взялся за свой журнал» (с. 11); «<…> Счастливым для меня числом кончился первый месяц моего журнала. Какой добрый гений шепнул мне тогда эту мысль? <…> В первые дни не нравилось мне это занятие <…>» (с. 58–59).
Функциональное своеобразие дневника в значительной степени определяет его основные жанровые составляющие. В наибольшей степени это относится к проблеме времени и пространства. В этом отношении записки Шевченко представляют собой уникальный образец в истории дневникового жанра. Традиционные формы хронотопа здесь модифицированы в соответствии с состоянием сознания автора. События в дневнике даны в трех временных измерениях и в формах физического и идеального времени-пространства.
Основополагающим принципом пространственно-временной организации событий дневника является табу, наложенное Шевченко на период десятилетней солдатчины. Чтобы вытеснить из сознания негативные образы недавнего прошлого, автор вводит в событийный ряд записи-воспоминания о родной Украине и строит проекты на будущее. Вместе с ними установка на «уплотнение» настоящего времени создает условия для погружения в бессознательное, порождающее группы снов. Так образуется сложная зависимость акцентированных воспоминаний, повседневных событий и инициированных фантазией сновидений.
Физическое время – пространство представлено на страницах дневника его локальной разновидностью. Отсутствие информации и сосредоточенность на тягостном однообразии ежедневных занятий предельно сужают жизненные рамки повествователя. Даже перспектива расширения пространственных границ не разрушает сложившегося за годы стереотипа восприятия событий. Однако длительное проживание в ограниченном пространстве по четко фиксированному времени не создает в сознании и дневнике Шевченко экзистенциального рефлекса. Поэт постоянно ощущает и сопереживает параллельно текущие события за пределами Новопетровского укрепления. Эти события, в их пространственно-временных границах, имплицитно присутствуют в его сознании и находят косвенное отражение в ряде записей: «Вчера ушел пароход в Гурьев и привезет оттуда(курсив мой. – O.E.) вторую роту и самого батальонного командира <…>» (с. 17); «Сегодня рота придет в Гурьев, а по случаю полноводия в Урале она пройдет прямо на стрелецкую косу и сегодня уже сядет на пароход. Завтра рано пароход подымет якорь и послезавтра высадит роту в Новопетровской гавани» (с. 20); «Если бы еще хорошую сигару воткнуть в лицо <…> тогда бы я себя легко мог вообразить на петергофском празднике <…> А сегодня действительно в Петергофе праздник» (с. 38).
Перечню примелькавшихся мест и вызывающих скуку событий контрастно противопоставлены планы на будущее с подробным описанием профессиональных занятий, образа жизни, с обозначением места действия и временных интервалов. Хотя все эти предполагаемые события заключены в идеальный хронотоп, они теснее сопряжены с физической реальностью; в них отсутствует бессознательная основа сновидений, и контуры пространственно-временных форм выглядят естественнее. Петербург, Академия художеств, методичная работа, эскизы задуманных гравюр обладают всей силой действительности наряду с окружающим Шевченко предметно-событийным миром. Совершенно здоровое сознание поэта не дает повода сделать вывод о том, что подобные записи носили характер вынужденного бегства от опостылевшей жизни в спасительный мир фантазии. Выведенный на страницах дневника притягательный образ будущей жизни не менее правдоподобен, чем привычный для глаза и чувств уголок оренбургского захолустья: «Но почему же не верить мне, что я хотя к зиме, но непременно буду в Петербурге <…> увижу мою прекрасную Академию, Эрмитаж <…> услышу волшебницу оперу <…> Потом уеду на дешевый хлеб в мою милую Малороссию и примусь за исполнение эстампов <…> Кроме копий с мастерских произведений, я думаю со временем выпустить в свет <…> и собственное чадо – «Притчу о блудном сыне» (с. 27–28).
По выразительной силе и месту, отведенному им в дневнике, с двумя приведенными разновидностями хронотопа сопоставимы сны и фантазии. Эти продукты бессознательного – нередкие объекты изображения в дневниковом жанре. Разница в том, что у Шевченко они представляют автономную пространственно-временную сферу по причине особого психологического состояния поэта. Если обычно сны в дневниках сопутствуют событийной линии и могут быть объяснены, исходя из фактов настоящего, то у Шевченко большая часть сновидений воссоздает, по контрасту с настоящим, прошлую, досолдатскую жизнь. Это бессознательные образы, построенные по аналогии с воспоминаниями. В них нет ничего загадочного, причудливого, фантастического. Они не требуют усилий для своего истолкования. Здесь сконцентрировано все лучшее, что испытал поэт в молодые годы. Интенсивность сновидений, посетивших поэта именно в период напряженных ожиданий, свидетельствует об их компенсаторном характере. Они поддерживали психическое равновесие и ослабляли силу негативных последствий душевной травмы периода солдатчины.
Временны́е и пространственные формы в снах выступают отчетливо и напоминают образы действительности. Поэтому их можно рассматривать как самостоятельный мир, но не служащий продолжением мира материального, а соотнесенный с воспоминаниями: «<…> видел во сне покойника Карла Павловича Брюллова и с ним вместе товарища моего Михайлова, сначала в какой-то огромной галерее <…> Потом перешли мы в мастерскую, что в портике <…> Потом Карл Павлович пригласил нас на лукьяновский ростбиф, как это бывало во времена незабвенные» (с. 45); «<…> Я задремал и на крыльях Морфея перелетел в Орскую крепость и в какой-то татарской лачуге нашел Лазаревского, Левицкого и еще каких-то земляков, играющих на скрипках и поющих малороссийские песни» (с. 72).
Со снами содержательно перекликаются воспоминания. Так же как и сновидения, они в основном отражают светлые стороны прошлого. Правда, некоторые из них представляются автору на грани правдоподобия и сна и тем сильнее подчеркивают реализм бессознательных образов: «Незабываемые золотые дни, мелькнули вы светлым, радостным сновидением передо мною, оставив по себе неизгладимый след чарующего воспоминания» (с. 55).
Родство снов и воспоминаний основывается на пространственно-временной конкретности отраженных в них событий. Они всегда воспроизводят точную картину местности с подробностями и во временной динамике. С точностью хронографа Шевченко называет даты, имена, местные достопримечательности: петергофский праздник 1836 г., мастерская Брюллова, встреча со Щепкиным в Москве в 1845 г., кабинет Жуковского 1839 г., ильинская ярмарка в Ромны в 1845 г., игра украинского артиста Соленика и пение цыганами романса на стихи Лермонтова. За счет фантазий, снов и воспоминаний мир дневника расширяется до масштабов культурного пространства целой страны, поглощая убогий мирок военной крепости.
Хронотоп дневника периода пребывания Шевченко в Москве и Петербурге заметно отличается от пространственно-временной организации предыдущих записей. Оказавшись в кругу знакомых и покровителей, во взлелеянных мечтами центрах культуры, Шевченко с головой окунается в новую жизнь, которая не оставляет места для воспоминаний; с ними проходят и сны, имевшие компенсаторный характер. Событийная насыщенность дня вынуждает автора осуществлять отбор материала, а в особенно богатые в этом отношении дни давать беглый обзор увиденного. От этого время московско-петербургского дневника уплотняется, но не за счет его искусственного «преодоления», а с помощью более интенсивного проживания. Если неожиданными переходами из настоящего в прошлое и будущее хронотоп новопетровского дневника сродни времени – пространству эпических сказаний, то поздний журнал близок драматическому темпу событий. Здесь время не течет, а пульсирует, его ритм как бы подталкивает автора к активным действиям. Повествователь здесь находится во власти времени, там же он был полным его хозяином: «В 10 часов утра пошел проститься с А.Н. Мокрицким <…> По дороге зашел к М.И. Сухомлинову, да по дороге же зашел к барону Клодту <…> прошел в Академию на выставку <…> Из Академии поехали с Семеном на Петербургскую сторону искать дачу <…> в 6 часов приехали домой. Вечером с Семеном же были у Н.И. Петрова <…>» (с. 226–227).
Среди образов дневника личность автора стоит на первом месте. Положение ссыльного, солдата, лишенного права писать и рисовать, казалось бы, давало основание ожидать, что дневник будет наполнен воспоминаниями о тяжести пережитого, чувством мучительного ожидания того момента, когда, наконец, придет желанное освобождение. Но дневник наполнен не этим. Стойко перенеся десять лет солдатчины, Шевченко сохранил душевное здоровье. И волевым усилием преодолел негативные для психики последствия своего положения. Поэтому со страниц дневника к будущему его читателю обращается не сломленный муштрой, угрюмый мизантроп, разуверившийся в идеалах молодости, а все тот же балагур, несгибаемый оптимист, задушевный лирик, который способен в окружении людей, впавших в полускотское состояние, размышлять о высоком и сохранять присутствие духа: «Все это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания прошли, как будто не касаясь меня. Малейшего следа не оставили о себе. Опыт, говорят, есть лучший наш учитель. Но горький опыт прошел мимо меня невидимкою. Мне кажется, что я точно тот же, что был десять лет назад» (с. 21).
Образ автора в дневнике строится на сочетании двух мотивов – самоиронии и проникновенного лиризма. Именно они помогли поэту сохранить душевное здоровье, выстоять в условиях полурабского существования в забытом богом захолустье. Оба начала относятся к разным сферам бытия Шевченко-солдата. Лирическая стихия пронизывает страницы, посвященные воспоминаниям дорогой сердцу поэта Украине. Как припев задушевной народной песни звучит призывный клич кобзаря, обращенный к родине. Щемящие звуки ожидания и надежды в этих поистине поэтических строках: «О, моя бедная, моя прекрасная, моя милая родина! Скоро ли я вздохну твоим живительным, сладким воздухом? Милосердный бог – моя нетленная надежда» (с. 64).
И совсем другую тональность встречаем в записях бытового характера. Реалистически точное воссоздание жизни, ее скудности, уродств не создает впечатление безысходности. Шевченко использует иронию как принцип не столько разоблачения действительности, сколько демонстрации несоответствия между идеалом возвышенной духовной жизни и ее прозаической стороной. Образ автора при этом выступает своего рода средним звеном. Именно на него чаще всего направлена ирония, сдобренная изрядной долей незлобивого хохлацкого юмора: «Рисовал портрет М.А. Дороховой. И после неудачного сеанса по дороге зашел к Шнейдерсу, встретил у него милейшего М.И. Попова и любезнейшего П.В. Лапу. Выпил с хорошими людьми рюмку водки, остался обедать с хорошими людьми и с хорошими людьми за обедом чуть-чуть не нализался, как Селифан» (с. 154).
Не всегда вышеназванное несоответствие имело ироническую форму выражения. В дневнике наряду с положительными представлена галерея отрицательных образов. В основном это выходцы из высшего дворянства. Им Шевченко посвящает ряд записей, которые образуют своеобразные сюжетные миниатюры. Подобный образ строится на несоответствии между сословным званием и исходящим от этого звания автоматическим воздействием на незнатного человека, с одной стороны, и его нравственными, человеческими качествами – с другой. Описывается характерная ситуация, в которой «герой» доходит до полного саморазоблачения, а в конце автор выводит «мораль» из жизненной «басни»: «Из всего этого оказывается, что помещик шестисот душ крестьян, аристократ, наперсник графа Перовского, наконец, полковник Киреевский – подлец и негоднейшая тряпка» (с. 23); «Рабочий дом, тюрьма, кандалы, кнут и неисходная Сибирь – вот место для этих безобразных животных <…>» (о сыне статского советника Порциенко, с. 26); «Я плюнул другу на порог, да и ходить перестал. Таких друзей у меня было много, и, как на подбор, все люди военные» (о гвардейце Апрелеве, с. 46).
Материал об этих типах Шевченко черпает из разных источников: рассказов коменданта (Киреевский), собственных воспоминаний о столичной жизни (Апрелев), настоящих солдатских будней (Порциенко). В совокупности повторяющихся черт данные образы представляют некий тип растленного барина и своей типичностью напоминают панаевскую коллекцию «аристократических жуков» из его «физиологических очерков» («Онагр» и др.): «Сегодняшним числом мне хочется записать или, как зоологи выражаются, определить еще одно отвратительное насекомое» (о Порциенко).
Тенденция к типизации, свойственная Шевченко-писателю, проявляется и в группе коллективных образов дневника (солдаты, купцы, офицеры, дамы провинциального общества). Причем литературная типизация порой пересекается с живописной, а с точки зрения психологии творческого процесса, возможно, и вытекает из нее. Так, строя творческие планы на будущее, Шевченко постепенно переходит от художественного замысла серии рисунков, через посредство купеческих тем у П.А. Федотова и A. Н. Островского, к собственным характеристикам этого сословия, а от него – к офицерству (запись под 26 и 27 июня 1857 г.).
Естественным порядком появляется на страницах дневника собирательный образ солдата. Как и лирические отступления о родине, он проникнут глубоким эмоциональным переживанием за его тяжелую долю. Образ солдата у Шевченко согрет личным чувством горечи и сожаления. В этих строках слышатся признания, которые превращают описываемый тип в отстраненный образ автора: «Солдаты – самое бедное, самое жалкое сословие в нашем православном отечестве. У него отнято все, чем только жизнь прекрасна: семейство, родина, свобода <…> Ему простительно окунуть иногда свою сирую, одинокую душу в полуштофе сивухи» (с. 12). Здесь Шевченко находит место и для полемики с B. И. Далем, выражая недоверие к его интерпретации солдатских типов в очерке «Солдатские досуги». Так, созданный образ обретает статус литературно-художественного.
Общая оптимистическая тенденция способствует появлению на страницах дневника группы положительных образов. Хотя сам поэт и признавался, что во всем гарнизоне был один-единственный человек, которого он любил и уважал (Мостовский), в журнале то и дело встречаются эстетически привлекательные характеры. Нередко они интересуют автора не своими нравственными качествами, а с точки зрения художественной выразительности: это новопетровские Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна «странные старые люди. Зигмонтовские, о которых автор «Кобзаря» слагает целую повесть наподобие «Старосветских помещиков»; и «человеколюбивый Андрий» Обеременко, словно сошедший со страниц «Тараса Бульбы», но по характеру родственный Остапу, а не его малодушному брату; и директриса нижегородского благородного института, «возвышенная, симпатичная женщина» М.А. Дорохова.
Сочетая в себе дарование лирика и художника, Шевченко и положительный образ строит живописно-поэтически. Нередки случаи, когда автор «Гайдамаков», работая над портретом какой-нибудь модели, в дневнике дает сравнительный анализ образа сразу в двух видах искусства: «<…> сегодня наконец я окончил портрет гусароподобной М. Варенцовой <…> Она чрезвычайно довольна портретом, потому что он похож на какую-то кокетливую нимфу в амазонке с хлыстом <…>» (с. 162).
Как уже было отмечено, в процессе создания образов вольно или невольно проявляются литературно-художественные пристрастия и антипатии Шевченко. В образной системе дневника можно выделить три группы отношений такого рода. К первой принадлежат образы, типологически родственные характерам из произведений Гоголя и Панаева, ко второй – замыслы захвативших воображение писателя образов, разработанных ранее Федотовым и Островским, третьи строятся по принципу полемической заостренности (В.И. Даль, П.И. Небольсин, И.И. Железнов).
Типологическое своеобразие дневника определяется психологическим характером Шевченко и его творческой установкой. В своих записках кобзарь предпочитает не углубляться в сферу тонких чувств и переживаний. Они находят поэтическое выражение в его стихах, а в дневнике лишь называются, но не анализируются. Отсутствие записей рефлективного характера позволяет отнести журнал Шевченко к экстравертивному типу.
Установка на «объективное» повествование в значительной степени связана живописностью мышления Шевченко-художника. Любой предмет, явление, характер он воспринимает прежде всего зрительно. А обычное повествование часто у него представляет собой развертывание событий не во времени, а в пространстве, как на живописном полотне. К этому типу относятся жанровые сценки в манере Федотова, которые так и просятся, чтобы им дали названия в стиле лубка: «Нет худа без добра, или солдатская трапеза» (с. 59); «Уговор дороже денег» (с. 84); «Кончил дело – гуляй смело, или солдатское развлечение» (с. 95); «За чем пойдешь, того не найдешь, или в поисках колбасной лавки» (с. 95).
Шевченко и сам признается в наклонности к отысканию живописных подробностей, выразительных картин быта, памятников старины. Из примелькавшейся обстановки крепости, бедной для художественного глаза, Шевченко вдруг попадает в волжские города – Астрахань, Симбирск, Самару, Нижний, своеобразная жизнь которых находит живой отклик на страницах его журнала. Картины, одна примечательнее другой, сменяют друг друга, тесня событийную часть рассказа. «Я, как живописец, – пишет Шевченко, находясь в Астрахани, – люблю шляться по этим грязным живописным закоулкам <…>» (с. 94).
И в портретных характеристиках лиц, заинтересовавших странствующего солдата, преобладает живописно-зрительная акцентировка: «<…> я заметил в солдатской публике <…> совершенно не солдатскую фигуру. Походка, физиономия, даже шапка-чабанка – все в нем отличало моего земляка <…> Физиономия его показалась мне более суровою, нежели вообще у земляков моих <…>» (с. 89); «Женщины здесь ненатурально белы и преимущественно чахоточны. Мужчины вообще в белых фуражках с кокардою <…> Всматриваясь пристальнее в господствующую здесь узкоглазую физиономию калмыка, я нахожу в ней прямодушное, кроткое выражение. И эта прекрасная черта благородит этот некрасивый тип» (с. 98).
Глубины психологической жизни не привлекают Шевченко-повествователя, хотя ему, прожившему десять лет солдатчины, было о чем поведать в этом отношении. Намеки на это то и дело встречаются в различных записях. Но автор не столько стремится скрыть выглядывающие наружу следы былых переживаний – в дневнике скрывать не от кого, – сколько попросту предпочитает мир зримый и слышимый. До конца он остается чужд романтическому дуализму внешнего и внутреннего. Целостность духовной личности и здоровый темперамент обеспечивают психологическое единство дневника.
Жанровое содержание записок Шевченко тяготеет к художественному бытописанию. Увлеченно и со знанием дела ведет Шевченко рассказ о житейских делах, буднях гарнизонной службы, незамысловатых увеселениях, завершающихся попойками, о похождениях местных чудаковатых типов. Из записок мы узнаем об особенностях кухни и аппетитах автора и других «персонажей» повествования. Человек у Шевченко погружен в вещный мир и показан в своих повседневных занятиях. Где бы ни оказался автор, его опытный глаз художника тут же схватывает все особенности и детали окружающего его мира. Как в федотовском реализме, вещи в изображении Шевченко обладают самостоятельной, не зависящей от человеческого присутствия значимостью. Они организуются то в натюрморт в фламандском стиле, то в «пейзаж и жанр» литературных «физиологий»: «<…> я прошел на малые исады (съестной базар). Кроме фруктов, огородной зелени и хлеба печеного, я на этих исадах ничего не заметил; мясо не продается по случаю поста, а рыба продается на лодках»; «Здесь все заперто, кроме скворечниц на высоких шестах, свидетельствующих о жилищах меломанов. Постучался я в несколько запертых ворот наугад, потому что билетиков здесь на воротах не приклеивают, как это водится в порядочных городах. После долгих поисков удалось мне открыть наемный чулан с миниатюрным окном, выходящим прямо на помойную яму».
Погруженность в быт, в естественную человеческую среду нередко упраздняет иерархию ценностей. И автор в одном предметно-смысловом ряду упоминает, казалось бы, несопоставимые по значимости вещи. Но за мнимой неотобранностью бытового материала скрывается любовь живописца к богатству и зрелищной красочности мира: «У щеголя, краснобородого кизылбаша, купил я за 5 копеек 5 головок чесноку <…> и отправился в кремль полюбоваться вблизи красавцем собором. Он, как щегольXVII века, красуется в кружевах перед всем городом».
Как документ частной жизни автора, а в положении Шевченко как временное средство заполнить томительное ожидание гражданской свободы, дневник не ориентирован на изложение художественных воззрений автора. Тем не менее в истории жанра встречаются случаи, когда летопись личной жизни писателя содержала более или менее систематическое толкование его представлений о методе, стиле, эстетике. К числу таких образцов принадлежат и дневники, написанные в тюрьме и ссылке (Кюхельбекер, Короленко). Встречаются подобные высказывания и у Шевченко. Однако, в отличие от своих коллег писателей, автор «Завещания» вводит «теоретические» темы не в виде отвлеченных и не связанных с основным содержанием рассуждений (что свойственно, например, Короленко), а в известной мере поясняет свою литературную практику в самом дневнике. Строки, посвященные проблеме художественного метода, появляются в контексте размышлений о прочитанной книге и воспоминаний о творческих принципах его учителя К.П. Брюллова, с которым он мысленно не расставался весь период солдатчины. Они имеют такое же отношение к литературе, как и к живописи: «Мне кажется, что свободный художник настолько же ограничен окружающей его природой, насколько природа ограничена своими вечными, неизменными законами» (с. 60).
Отбор материала в дневнике осуществляется в соответствии с данным принципом. Поскольку содержанием дневника является обыденная повседневность и все то, что попадает в сферу визуального наблюдения автора, он становится реалистическим отображением жизни. А так как реальными являются и факты бессознательного – сны, воспоминания, мечты, – то и они на равных правах входят в повествование.
События дня группируются в соответствии с вектором движения автора. В дневнике новопетровского периода он был направлен отобязанностей солдатской службы и воспоминаний о ней. Путевой и столичный дневники имели направленность в сторону местных достопримечательностей и интересных людей.
Пространственная ограниченность и небольшое число человеческих контактов в крепости способствовали композиционному единству подневных записей. Чередующиеся события дня фиксировались в зависимости от их причинно-следственных связей. Отсутствие строгого отбора и ценностной иерархии придавали фактам характер естественного следования одного за другим. Такой метод позволял удерживать в событийном ряду даже те явления, которые не мог наблюдать автор, хотя и был их активным участником. В подобных случаях записи в дневнике за него делались его товарищами (записи под 15–20 и 25 августа, 11 сентября и 4 октября 1857 г.).








