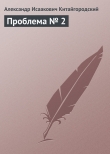Текст книги "Физик на войне"
Автор книги: Олег Казачковский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Женщины на фронте
Женщины на фронте это, вообще говоря, противоестественно. Не их дело сражаться. И фронтовой быт для них труднее. Но что поделаешь, не смогли мы, мужики, сами справиться и вынудили женщин (кого добровольно, кого по мобилизации) прийти к нам на помощь. Многие женщины-медики находились в боевых порядках пехоты. Зима 42-го, Донбасс. Небольшая лощинка вблизи передовой, куда изредка залетают мины. У тропинки лежит мертвый солдат с незажженной цигаркой в зубах. Неужели сразило в этот самый момент? Или кто-то пытался дать ему закурить перед смертью? Женщина-врач здесь же на снегу безо всякого укрытия обрабатывает раны непрерывно подходящим и приносимым бойцам. Образовалась целая очередь и она выбирает тех, кто особо нуждается в срочной помощи. Вот солдат, которому в плечо попала разрывная пуля. Я смотрю, как сноровисто, деловито делает она свое дело. Буквально несколько минут – и не видно этого страшного месива. Рана ухожена, забинтована. Следующий… Работает напряженно, не обращая внимания ни на мороз, ни на мины. И когда, прошу прощения, ей все же надо прерваться, как говорится, по своей надобности, лишь отходит немного в сторону. На виду у всех. Скрыться некуда – ни кустика, ни бугорка, кругом один снег. Все чувства померкли по сравнению с чувствами долга и сострадания. Мужики просто отворачиваются.
А вот другой пример женской самоотверженности. Теперь уже Польша, 44-й. Небольшая группа бойцов нашего полка идет по дороге. Уже стемнело. Один солдат немного отошел в сторону и подорвался на мине. Все замерли. Он лежит беспомощный, стонет, но никто не решается подойти. Мины, как правило, в одиночку не ставятся. Вероятно, здесь минное поле. Раненый истекает кровью, кто-то должен решиться. Проходят драгоценные минуты. Не выдержала Нина Балаклеевская (теперь она Кабашенко), даже не медик, наша связистка, единственная женщина в группе. Хрупкая, слабая на вид девушка бросается к солдату и благополучно вытаскивает его на дорогу. Потом только произнесла укоряюще: «Эх вы, а еще мужчины!». Что здесь можно сказать? Это даже не долг. Просто не могла вынести, что кто-то рядом страдает.
Иногда женского милосердия не хватало. Мне рассказали такой случай. Последний день войны в Крыму. К колонне сдавшихся в плен подходит девушка и спрашивает – есть ли среди них русские. Выходят двое. Та выхватывает пистолет и в упор стреляет. После чего, все-таки она женщина, истерика. Оказывается получила сообщение, что с ее семьей, остававшейся в оккупации, зверски расправились наши же полицаи.
Сколько женщин сражалось с оружием в руках! Они подчинялись воинскому долгу и долгу совести не меньше, а может быть, и больше, чем иные мужчины. Один из моих университетских друзей, Юзик Меерсон, с которым мы неожиданно встретились на фронте, рассказал о случившемся в их батальоне. При очередном наступлении повыбивало в роте всех командиров, тщетно пытавшихся поднять своих в атаку. Тогда командование ротой взяла на себя девчонка, санинструктор. Поднять бойцов она подняла, мужикам, видно, стало стыдно, но тут же ее и сразило.
Были женщины танкистки, были летчицы. На легких ночных бомбардировщиках, похоже, вообще летали исключительно девушки. Как только наступал вечер, раздавалось привычное стрекотание. Шли наши «кукурузнички», как их продолжали ласково называть. Над немецкой передовой навешивались осветительные ракеты и сбрасывались пусть и небольшие, но беспокоящие и поражающие противника бомбы. Сколько ни пытались немцы их сбить, все равно, по крайней мере по нашим наблюдениям, безрезультатно. Мы даже перестали особенно волноваться за них. Одно время с самолетов выливалась какая-то фосфоресцирующая жидкость, вероятно, зажигательная смесь. Образовывался большой светящийся в небе конус, уступами спадающий к земле. Вместе с ракетами и летящими вверх трассирующими пулями это представляло собой весьма красивое зрелище.
Женщины летали не только на ночных бомбардировщиках. Одно время в небе над нами на истребителе летала, до сих пор помню имя, Лиля Литвяк. Фронтовая газета писала об ее успехах, была помещена фотография. Симпатичная, улыбающаяся девушка. Погибла у нас на глазах в боях на Миусе в 43-м. Видели, как наш самолет рухнул на землю. С парашютом никто не выбросился. Радисты перехватили тревожные возгласы оставшихся в небе летчиков: «Лилю сбили!»
Казалось бы, тяжелая, грубая обстановка на фронте должна исключать проявление нежных чувств. Но нет, хотя жизнь и проходила почти на грани смерти, но требовала свое. Люди были молоды. И была любовь, настоящая, искренняя. В полку не только Алеша и Оля, о которых я писал, были вместе. В этом нет ничего предосудительного. Это было естественно и было известно всем. Загсов на фронте не существовало. Наш начальник штаба, человек строгих, пуританских взглядов, в конце концов нашел выход в издании специальных приказов по полку. В приказе так и предписывалось: «Считать старшего лейтенанта такого-то и ефрейтора такую-то в законном браке».
Неоценимый вклад внесли женщины на фронте. И не только тем, что спасали раненых, сражались наравне с нами. Их присутствие смягчало, облагораживало ту обстановку, в которой так легко могли проявляться грубость, жестокость. Низкий вам поклон, дорогие наши боевые подруги, за все. Ваши подвиги не менее значительны, чем наши заслуги. Только не всегда это осознают.
Жестокости войны
Война жестока и несправедлива. Убивают и калечат всех без разбора. Хороших и плохих, талантливых и бездарных, храбрых и трусливых, но все равно людей. Ладно еще, если это солдаты с оружием. Им, вроде бы, по штату положено умирать, так же как и убивать себе подобных. Впрочем, в уставах по этому поводу несколько фарисейски говорится, что задачей воина является не убийство, а поражение живой силы противника. Ну а безоружные, а мирные жители? Они что, тоже «живая сила»? Прямая угроза мирным жителям, попавшим в мясорубку войны, исходила не только от врага, но и от нас самих. Сегодня ты в каком-то городе, селении беседуешь с ними, а завтра, может быть, будешь вынужден стрелять сюда. А снаряд не разбирает, где свои, а где чужие. Помню, как первый раз пришлось стрелять по нашей деревне, которую занял противник. Как говорится, молил Бога, чтобы не попасть в своих. Нужно – значит нужно, но привыкнуть к этому и относиться спокойно нельзя. Как-то, я об этом уже писал, в Белоруссии довелось вести огонь по немцам, сгрудившимся в деревушке у колодца. Один из снарядов попал в хату. Потом узнал, как женщина из этой деревни рассказала нашим, что снаряд разорвался в ее хате. Убило четверых находившихся там немцев и… ее мужа. Так и висит это, как не оправдывайся, на мне!
Иногда стреляли туда, где наши безусловно есть, а вот находятся ли там немцы – это вопрос. Помню, как по приказу свыше одно наше орудие по ночам специально подтягивалось к переднему краю, чтобы на пределе досягаемости вести огонь по Славянску, далеко в глубине немецкой обороны. Просто по городу, куда придется. Это, что называется, беспокоящий огонь. О том, что он беспокоит и поражает, может быть, в основном наших, а не немцев, по-видимому, не очень задумывались. Мне рассказывал Фридман, что, когда немцы заняли правобережную часть Днепропетровска, они начали собирать по несколько сот жителей, в основном женщин, на одном из пустырей, вести какие-то землекопные работы. С левого берега, где еще находились наши, это было хорошо видно. Что же именно там делали, оставалось неясным. Так продолжалось два или три дня. Наши военные не знали, как и быть. Потом приехал один из высокопоставленных политических руководителей, не буду называть его имя, и все же дал команду стрелять туда.
Немцы, или, вернее, некоторые из них, похоже, действительно уверовали, что они – представители высшей расы, призванной управлять и подавлять других. И что им дозволено, даже, больше того, положено расправляться с мирным населением, как заблагорассудится. Впервые довелось это постичь в конце 41-го, в Ростове. Всего 10 дней владели немцы тогда городом. Но и этого им было достаточно, чтобы показать себя. Недалеко от театра им. Горького я обратил внимание на большой пятиэтажный, полностью сгоревший дом. Подумал, что это результат бомбежки или артобстрела. А мне мои близкие знакомые, которые оставались в городе и жили неподалеку, пояснили: его сожгли немцы. Вместе со всеми жителями! Рядом с этим домом был убит немецкий офицер. Кто убил – неизвестно. Дом ночью оцепили каратели и подожгли. Тех, кто пытался выскочить, расстреливали. Не пощадили ни женщин, ни детей. Потрясла не только сама трагедия, но и то, что культурные, цивилизованные, как привыкли их считать, немцы способны на такое варварство. В Донбассе, в Приднепровье, уходя, немцы стремились оставить за собой выжженную землю. Мы приходим, а в деревушках еще тлеют дома, подожженные специально создаваемыми для этого с немецкой обстоятельностью отрядами «факельщиков». На лугу расстрелянные стада коров и другой живности. Кого-то из жителей угнали с собой, кого-то убили. С «факельщиками», если их удавалось захватить, наши безжалостно расправлялись.
И даже в конце войны, когда исход ее был предрешен, видимо по инерции, совсем уже бессмысленные эксцессы все еще происходили. Где-то у западной границы Польши, помню, зашли в дом лесника. Обезумевшая от горя женщина, плачущие дети. Только что были здесь убегавшие от нас немцы и так, ни за что ни про что, походя, застрелили мужа. Ведь для убежденных нацистов поляки – такие же «недочеловеки», как и мы. Я пишу здесь лишь о том, с чем сам непосредственно сталкивался. А ужасы массового истребления людей и без меня хорошо известны.
Война завершается
Как когда-то привыкли отступать, так теперь мы привычно наступаем. Стремительно продвигаясь вперед, оставляем позади разрозненные отряды немцев, которые пытаются пробиваться к своим. На тыловых коммуникациях возникают стычки. В одном из поселков, когда я возвращался к своим из штаба армии, меня задержал специально выставленный пост. Впереди лес, и были случаи нападения на наши отдельные машины. Пришлось подождать, пока не накопится внушительная колонна. В нашей машине находилось тогда полковое знамя и рисковать тем более было нельзя: потеря знамени грозила расформированием полка.
Где-то после Бродницы потерялась связь с нашим первым дивизионом, следовавшим сзади. Под вечер остановились на ночной привал, ожидая, что дивизион подойдет. Ждем до глубокой ночи, а его все нет. Это уже ЧП. Что с ними случилось? Может быть, напоролись на блуждающих немцев? А ведь нужно будет отправлять очередную оперативную сводку по инстанции. Не докладывать же, что мы потеряли целый дивизион! Отправляюсь на поиски. Я помню, где в последний раз переговаривались с ними по радио. На развилке дорог, когда мы проезжали, там горел немецкий «тигр». Подъехали к этому месту. Танк уже догорел. Пробуем вызывать их по радио. Ответа нет. Уже собираюсь проехать дальше, как, наконец, отозвались. Оказывается, не уверены были, куда дальше двигаться, и на всякий случай остановились в стороне от дороги, в каком-то хуторе, куда и днем непросто добраться. Я и не пытался искать. Стали выпускать сигнальные ракеты, ориентируясь по которым к нам пришли оттуда разведчики и проводили к себе. Утром привел дивизион в полк.
Почти до самого конца ходили слухи о том, что немцы готовят или уже приготовили какое-то новое секретное оружие, могущее в корне изменить ход войны. А Гитлер будто бы сказал, что, если ему придется уйти со сцены, он хлопнет дверью так, что весь мир содрогнется. Как бы в подтверждение этому в начале 45-го у немцев появились какие-то особо мощные снаряды. Звуки разрывов разносились на многие километры вокруг. Удалось увидеть после такого разрыва огромнейший кратер в земле. Вероятно, это был ФАУ. Потом, когда стало известно об атомной бомбе, невольно пришло в голову – как хорошо, что она не досталась Гитлеру. Он бы не задумался ее применить и против нас, и против союзников.
В преддверии близкого окончания войны стали проявлять активность охотники за наградами. Других случаев потом не представится. Это не значит, что появилось стремление совершать какие-нибудь особо выдающиеся подвиги. Совсем нет! Просто некоторые старались приписать на свой счет то, что, может быть, они и не заслужили. В принципе возможности для этого объективно имеются. Скажем, за сбитый самолет, подбитый танк автоматически полагается награда. Но по одной и той же цели, как правило, одновременно стреляют многие. Поди разберись, чей именно выстрел был решающим! Все участники почти в равной степени могут претендовать на авторство. Обычно это соответственно и отражалось в оперативных сводках из каждого низового подразделения и механически суммировалось в армейских штабах. В результате один и тот же подбитый танк на бумаге мог превратиться чуть ли не в роту танков, сбитый самолет – в эскадрилью. До поры до времени это устраивало, ибо говорило о якобы особо высокой результативности наших действий и считалось полезным для поднятия духа. Но со временем поняли, что так не должно быть. На бумаге науничтожали столько всего, что немцам и не снилось иметь. Под конец войны стали требовать обоснования на все. Каким образом? Очень просто: факты должны официально подтверждаться независимыми наблюдателями. Как-то ко мне в землянку, я исполнял обязанности начальника штаба полка, явился некий капитан, зенитчик. Вынул из полевой сумки поллитровку и какую-то бумагу. Просит подписать и поставить печать. Там свидетельство, что это они сбили в тот день немецкий самолет. Но я сам видел, что самолет был сбит нашим истребителем. Пришлось, как говорится, дать ему «от ворот поворот». Капитан не очень огорчился. Только сказал: «Не все же такие принципиальные. Найду другого!»
Активизировались и охотники за личным оружием. Произошел такой неприятный инцидент. Землянки в войну освещались с помощью, как их почему-то так прозвали, «катюш». Это орудийные гильзы, сплющенные сверху, куда вставлялся матерчатый фитиль. Заполнялись они бензином. Чтобы предохранить от взрыва, в них засыпалась соль (вероятно, по закону Рауля упругость паров при этом существенно уменьшается). В тот вечер солдат начал доливать очередную порцию бензина, оставив, вопреки обычаю, «катюшу» горящей. Бензин вспыхнул. Банка выскользнула из рук. Бензин разлился по полу, все заполыхало. Еле выскочили из землянки. А когда огонь был потушен и вернулись обратно, оказалось, что мой пистолет исчез. Осталась лишь пустая кобура. Наутро начались боевые действия и заниматься расследованием было некогда. Хорошо, что у одного из моих друзей, майора Еремьяна, оказался лишний пистолет, и он его мне отдал.
Когда подходили к границам Германии, шли. разговоры о партизанской борьбе, которая якобы нас ожидает. Будто бы готовятся и будут действовать отряды так называемых вервольфов – оборотней. Куда там, ничего подобного не случилось! Полная покорность. В немецких городах, поселках, куда мы входили, чуть ли не изо всех окон торчали самодельные белые флаги. А кое-где вывешивались и красные. Все это даже несколько смущало. Мы же не воюем с мирным населением.
Поначалу жители были напуганы. Сказалась геббельсовская пропаганда. Конечно, поведение наше было совсем не ангельским. Но не в такой же степени, как преподносилось. В отличие от немцев на нашей земле, мы не считали себя представителями «высшей расы», которым многое дозволено. В чем, пожалуй, особо были грешны, так это в увлечении «барахлом». Не оправдывая, скажу только, что понять можно, если учесть, какие материальные потери понесла практически каждая наша семья. Положение в этом плане объективно усугублялось тем, что были разрешены трофейные вещевые посылки домой. Не очень много, но один-два обычных посылочных ящика почти каждый из нас отправил. Однако понятие «военный трофей» быстро расширилось. Стали забирать не только со складов, как первоначально предполагалось, но и из покинутых квартир. И даже, боюсь, не всегда этим ограничивались. Понятие «военного трофея», нечего скрывать, нередко распространялось и на женщин, что, похоже, некоторыми из них тоже воспринималось как законное право победителя.
Но далеко не всеми. В марте 45-го поздно вечером ко мне в штабную машину привели двух дрожащих от холода и страха молодых женщин. Одна немка, другая полька. Они, проходя вдоль опушки леса, где мы расположились на ночной привал, наткнулись на наш патруль. Стал расспрашивать, насколько мне позволял мой плохой немецкий. Оказалось, направляются в близлежащий городок, где у них живут родственники. В темноте заблудились и вот попали к нам. Конечно, никакие не шпионки, как кто-то пытался мне втолковать. Ушли же со своего хутора, спасаясь от настойчивых притязаний наших солдат. Ко мне прониклись доверием и все откровенно рассказывали. Полька пожаловалась, что ее «зганбыли», что было понятно. Немка все повторяла: «Ich habe Angst», что я никак не мог взять в толк. В университете мы учили немецкий. Но такого слова что-то я не мог припомнить. Сначала подумал, что это означает жажду и спросил не хотят ли они пить. Нет! Затем поинтересовался не нужно ли им поесть. Опять не то. На мой вопрос «Was ist das Angst?» – только грустно заулыбались. Начал злиться: как это я не могу разобраться, в чем дело. В конце концов все же понял, что Angst означает страх. Что с ними делать? Отпускать в ночь действительно небезопасно. К тому же они заблудились, не знают куда идти. Напоили чаем, дали полушубки и посадили в кабину нашей машины. Пусть поспят до утра. Утром проводили к дороге. Они тут же узнали, где находятся, и обрадованные, искренне поблагодарив, отправились в путь.
Последний бой, последние усилия. Уже идет битва за Берлин, а мы все еще на Одере, недалеко от Штеттина. Находимся на небольшом пустынном островке. С левого берега, совсем недалеко – пулеметный и минометный огонь. Доносятся угрозы и ругательства на нашем родном языке. Власовцы – не власовцы, но русские в немецкой форме. Им терять нечего и они все еще пытаются сопротивляться. Но через день стрельба прекратилась, противника больше нет. Наша война закончилась!
Не встречая сопротивления, движемся в походном порядке на запад. Обходим Берлин с севера. Навстречу почти непрерывным потоком беженцы. На повозках с лошадьми или с ручными тележками или просто так, неся на себе свой скарб. Каждая группа под своим национальным флагом, чтобы не приняли за немцев. Кроме наших здесь и французы, бельгийцы, поляки, чехи. И немецкие подразделения в походном порядке, как-то держа строй, тоже идут навстречу. Похоже, их никто не сопровождает, конвоиров не видно. Жмутся к обочине, чтобы не мешать нам. Вот уж поистине дни Победы.
Выходим к Эльбе, недалеко от Гамбурга. На той стороне англичане. Неприятное чувство вызвала инструкция о том, как вести себя с союзниками. В контакты не вступать, своих планов не раскрывать (вроде можно, не вступая в контакт, вообще что-либо сообщать!). Значит, не доверяем. Видно, они уже бывшие союзники. А жаль! Слава Богу, что не заняли боевые позиции.
Наконец, 9 мая. Разбудила громкая стрельба. Неужели все-таки перестрелка с союзниками? Нет, это спонтанный салют на радостях. Что творилось в этот день! Вот дали волю своим чувствам! Говорят, госпитали в этот день работали с полной нагрузкой. Кто хватил лишнего и стрелял, не разбирая куда. Кто отравился, напившись древесного спирта, которого здесь было в изобилии. Кто попал в аварию, лихо выжимая скорость на трофейной машине. В нашем полку, насколько я знаю, день Победы прошел без инцидентов.
После войны
Германии довольно быстро стали устанавливаться нормальные взаимоотношения с населением. Особенно после того, как Жуковым был издан приказ, строго регламентирующий нормы поведения наших войск на оккупированной территории. Между прочим, многие немцы, как выяснилось, были убеждены, что тогда, в 41-м, именно мы собирались напасть на них, а прозорливый Гитлер, первым начав войну, лишь упредил события. Когда я говорил, что это не так, что оборонительные сооружения на границе строились только с нашей стороны, но не с немецкой, лишь недоуменно пожимали плечами.
Вскоре наш артполк передислоцировался в Польшу. На несколько дней задержались в небольшом немецком городе недалеко от Берлина. Там я, к тому времени уже майор, оказался старшим по званию и поэтому посчитал себя начальником гарнизона. В городе уже был бургомистр. Соблюдая международный этикет, как я его себе представлял, решил устроить для него прием. Он пришел, как и положено, с супругой. По части угощений мы не подкачали. Но вот с напитками случился конфуз. У нас осталась только запасенная когда-то впрок канистра со спиртом, который мы влили в нее, поспешно опорожнив от бензина. Никакой предварительной промывки не было. Перебить запах бензина спиртом, на что мы надеялись, не удалось. Букет получился ужасный, от которого долго потом во рту не удавалось избавиться. Когда я честно об этом поведал, думал, что гости откажутся. Те же, на удивление, согласились. Попросили только сахару, который они насыпали в налитые бокалы. Пили, изображая вполне хорошие мины на лицах. В остальном все прошло хорошо. Расстались почти совсем друзьями.
В Лигнице, отошедшем к Польше, но населенном еще в основном немцами, произошел такой случай. Поздно вечером, когда мы укладывались спать, прибежал мальчишка сын хозяйки, у которой мы остановились. Взволнованно сообщил, что неподалеку женщины взывают о помощи Какие-то наши военные ломятся к ним. Интересно, а мы уже вроде как свои, он к нам обращается за помощью Взяв с собой двоих солдат, поспешил туда. Большой пятиэтажный дом, из которого слышатся женские голоса «Hilfe!» У подъезда двое наших офицеров. Один пытается проломить дверь. Другой в это время играет на аккордеоне То ли чтобы заглушить крики, то ли чтобы расположить к себе женские сердца. Играл он действительно превосходно. Пришлось их отвадить отсюда. Уходя, я счел нужным поддержать нашу пошатнувшуюся репутацию и крикнул женщинам, чтобы они не боялись – «keine Angst» (это слово я хорошо запомнил). «Больше такое не повторится. Наши воины вполне хорошие (sehr gut)». На что мальчишка несколько позже не преминул заметить, что наши люди, хотя и действительно с добрым сердцем, но все же, как он выразился, «wilde» – дикие.
Война завершилась – и кончилась свободная жизнь. Снова строгий распорядок дня. Снова строевая подготовка, снова учебные стрельбы. Как будто там мало стреляли! Опять зубрить уставы, которые за войну устарели. После насыщенного событиями военного времени – регламентированная однообразная жизнь. Не лежит у меня душа к этому. Неужели так будет продолжаться и дальше? Не к этому себя я готовил.
И тут сообщение об атомных бомбардировках японских городов. Казавшаяся несбыточной идея о высвобождении внутриядерной энергии стала реальностью. Это будет иметь огромнейшее значение и не только для целей истребления людей. Командир полка, считая, что я должен все знать, тут же приказал мне выступить с лекцией. По тревоге в 11 часов вечера был собран весь офицерский состав полка. Пришлось, почти ничего не зная по существу и строя догадки, что-то рассказывать. Слушателям все же понравилось. Особенно как я фантазировал насчет летательных аппаратов на атомной энергии. «Представьте себе», – говорил я, – «Вы летите на самолете, а, может быть, и на космической ракете, и у вас кончается горючее. Тогда вы отрываете пуговицу, бросаете ее в специальный аппарат – и проблема снята. Полет продолжается».
Я же, помня о своей клятве, посчитал, что это моя судьба. Тем более, что эта область физики интересовала меня давно. Еще почти два года тому назад я писал с фронта моей будущей жене (она сохранила все мои письма): «Теперь уже явственно чувствуется, что война идет к концу. Невольно приходят в голову мысли: а что же будет потом? Хочу закончить аспирантуру, хочу стать настоящим физиком. Это стремление у меня давно и, очевидно, навсегда». И в другом письме: «Я остановил свой выбор на физике. Меня прельстили атомное ядро и возможность получения практически неограниченных количеств энергии». Отправил письмо на имя члена военного совета северной группы Войск генерала Субботина. Написал, что я честно исполнял свой долг на фронте от начала до конца войны. Но я физик и думаю, что теперь смогу послужить отечеству и в этом качестве. Ответ пришел незамедлительно, с нарочным: «Демобилизовать немедленно!» И вскоре началась для меня новая жизнь, целиком посвященная ядерной физике и ядерной энергетике. И теперь, по прошествии многих лет, мне кажется, что свой долг, ту давнюю клятву, я все же выполнил, хотя, может быть, и не совсем так, как тогда представлялось.
Мы давно ушли из армии и разбрелись кто куда. Но братскому чувству дружбы не изменили. Нам повезло, наш полк сохранился до сих пор. И мы, однополчане, регулярно встречаемся в нем, вместе посещаем памятные места боев. Как. приятно снова увидеться, повспоминать прошлое, поделиться настоящим! Ничего не поделаешь, с каждым годом нас все меньше и меньше. А в полку тех, кто в нем воевал, давно уже никого нет. Но осталось имя полка, традиции и, мы это хорошо чувствуем, глубокое уважение к нам, фронтовикам. И, несомненно, гордость за прошлое. Действительно, есть чем гордиться. Полк награжден четырьмя орденами: Красного Знамени, Суворова, Кутузова и Александра Невского. Его имя в мемориале на Сапун-горе. Теперь он входит в состав прославленной Таманской дивизии.