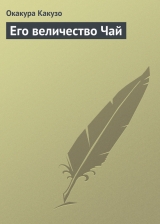
Текст книги "Его величество Чай"
Автор книги: Окакура Какузо
Жанр:
Кулинария
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Понимание и оценка искусства
Вы слышали сказку китайских даосов о приручении арфы? Когда-то давным-давно в ущелье Лунмынь стояло дерево Кири – настоящий король леса. Оно вонзило свою крону высоко в небо, чтобы говорить со звездами, а корни – глубоко в землю, переплетя их бронзовые завитки с серебряными завитками дракона, который жил под землей. И произошло так, что могущественный волшебник сделал из этого дерева удивительную арфу, чей упрямый нрав мог укротить только самый великий из музыкантов. Долгое время инструмент охранялся китайским императором как сокровище. Но тщетны были все усилия музыкантов, которые по очереди пытались извлечь мелодию из ее струн. В ответ арфа выплескивала только резкие, грубые звуки – надменные, презрительные и пренебрежительные. Она отказывалась признавать мастера.
Наконец прибыл Пейвох, принц арфистов. Нежной рукой он мягко притронулся к струнам и тихо стал ласкать арфу, будто пытался успокоить необъезженную лошадь. Он пел о природе и временах года, о высоких горах и течении воды. И все воспоминания дерева проснулись! Сладкое дыхание весны взыграло в его ветвях. Оно вспомнило ранние ливни, которые проливались над ущельем, орошая только что распустившиеся цветки. Затем послышались мечтательные голоса лета – с его насекомыми, мягко барабанящим дождем и причитанием кукушки. А когда зарычал тигр, долина вторила его призыву. Настала осень. В пустынной ночи острый, как меч, месяц замерцал над покрытой инеем травой. А следом и зима вступила в свои права. Воздух наполнился вихрем снежных хлопьев, падающих на землю. Сильный град с треском хлестал по ветвям со свирепым, неистовым наслаждением.
Затем Пейвох сменил тональность и запел о любви. О том, как по шумящему лесу шел влюбленный пастушок, глубоко погруженный в свои мечты. А в вышине, как надменная девушка, величаво плыло белое облако, бросавшее на землю длинную черную, как отчаяние, тень.
Снова Пейвох сменил тональность и запел о войне, о лязге стали и о топоте копыт. И арфа изобразила бурю молнию, выпущенную драконом, громкую лавину, с грохотом обрушившуюся на холмы.
В экстазе монарх Поднебесной спросил Пейвоха, в чем его секрет победы над арфой. «Ваше величество, – заметил музыкант, – другие потерпели неудачу, потому что пели только о себе. Я же позволил арфе самой выбрать тему. И я не знаю точно, была ли арфа Пейвохом или же Пейвох был арфой».
Эта история прекрасно иллюстрирует тайну понимания и оценки искусства. Шедевр – это симфония, сыгранная на наших чувствах. Настоящее искусство – это Пейвох, а мы – арфа. При волшебном магическом прикосновении чего-либо прекрасного тайные струны нашего существа просыпаются, мы вибрируем, содрогаемся и волнуемся в ответ на их позывы. Разум разговаривает с разумом. Мы слышим что-то недоговоренное, мы пристально вглядываемся во что-то невидимое. Мастер возбуждает, вызывает в нас те нотки, о которых мы не знаем. Давно забытые воспоминания возвращаются к нам с новым значением. Надежда, подавленная страхом, тоска, которую мы не осмеливались признать, выдвигают на первый план новые ощущения. Наш разум – это всего лишь холст, на который художник накладывает свои цвета; их пигменты – это наши эмоции; их чиароскуро – свет радости и тень печали. Шедевры сделаны из нас самих, потому что мы сами сделаны из шедевров.
Чиароскуро – в изобразительном искусстве – распределение светотени, в поэзии – контрастное сопоставление.
Сочувственное общение умов, необходимое для понимания и оценки искусства, должно основываться на взаимных уступках. Очевидец, зритель должен культивировать надлежащее отношение к искусству для получения от него сообщения, как и творец должен знать, как передать сообщение, чтобы оно тронуло зрителя. Кобори Еншиу, мастер чая и даймио, оставил нам такие памятные слова: «Приближайтесь к великим картинам так, как будто вы приближаетесь к принцу». Чтобы понять произведение искусства, нужно расположиться низко перед ним и ждать затаив дыхание его высказываний. Известный критик Санг однажды сделал такое признание: «В молодости я восхвалял мастеров, чьи картины мне нравились. Но теперь, когда мои суждения созрели, мне нравится то, как мастерам удается заставить меня полюбить их творения». Стоит пожалеть о том, что совсем немногие из нас прилагают усилия, чтобы изучить настроение мастеров. С нашим упрямым невежеством мы отказываемся оказать им эту простую любезность и, таким образом, часто не видим красоту, представленную нашим глазам. Мастеру всегда есть что предложить, а мы упускаем возможность наслаждения его творением только из-за того, что не стремимся понять его и оценить.
Для зрителя, воспринимающего шедевр всей своей душой, он становится живой реальностью. Мастера становятся бессмертными, когда их любовь и страхи оживают в таком зрителе. Это больше душа, чем руки, это больше человек, чем техника, – они взывают к нам. Чем человечней призыв, тем глубже наш ответ на него. Все это заключено в тайном понимании между мастером и зрителем. Вот почему в поэзии и прозе мы страдаем и радуемся вместе с героем или героиней.
Чикамацу Монземон, японский Уильям Шекспир, выдвинул в качестве одного из главных принципов драматической композиции важность доверия к автору со стороны читателей.
+Чикамацу Монземон (1653–1725) был великим японским создателем кукол-марионеток и драматургом в жанре марионеточного театра, позже ставшим известным драматургом театра кабуки с живыми актерами. Он писал пьесы главным образом для театров в Киото и Осаке. Всего им написано 130 пьес, большинство из которых кончаются двойным самоубийством влюбленных.
Некоторые ученики Чикамацу представили пьесы для одобрения, но только одна из них привлекла его внимание. Это была пьеса, чем-то напоминавшая европейский жанр «комедии ошибок», в которой братья-близнецы пострадали из-за ошибочной тождественности. «Эта пьеса, – сказал Чикамацу, – имеет истинный дух драмы, так как она привлекает внимание публики, которой позволено узнать больше, чем актерам. Она знает, в чем заключается ошибка, и жалеет и соболезнует бедным героям на сцене, которые наивно и простодушно бросаются навстречу своей судьбе и смерти».
Великие мастера как Востока, так и Запада никогда не забывают ценности совета и намека как способа получить доверие и внимание зрителя. Кто может созерцать и восторгаться шедевром, не относясь с благоговением к огромной веренице мыслей, представленных нашему вниманию? Насколько они близки и хорошо знакомы и насколько холодны по контрасту избитые и банальные выражения современных авторов! В первых мы чувствуем теплые излияния человеческой души, а в последних – только формальное приветствие. Поглощенный своей техникой, современный автор редко поднимается выше себя самого. Он, подобно музыкантам, которые тщетно пытались призвать арфу, поет только о себе самом. Его работы могут быть близки науке, но они далеки от человека. У нас в Японии есть поговорка о том, что женщина не может полюбить мужчину, который поистине пустой, тщеславный и самодовольный, потому что в его сердце нет ни единой трещины, через которую любовь может пройти и наполнить его. В искусстве тщеславие и самодовольство являются равно фатальными для сочувствия как со стороны творца, так и со стороны публики.
Ничто так не почитается, как единство и согласие кровного родства душ в искусстве. В момент встречи любитель искусства превосходит себя самого. Одновременно он существует и его нет. Он ловит мимолетное впечатление Бесконечности, но слова не могут озвучить его наслаждения и восхищения, так как у глаз нет языка. Освобожденный от оков материи, его дух движется в ритме вещей. Именно таким образом искусство становится родственным религии и облагораживает человека. Именно это делает шедевр чем-то священным. Преклонение, с которым японцы в старину относились к работам великих художников, было впечатляюще сильным. Чайные мастера охраняли свои сокровища, как религиозные святыни. Приходилось открывать целую серию коробок, которые находились одна в другой, чтобы наконец добраться до шелковой обертки, в складках которой и находилась святая святых. Редко предмет выставлялся взору, да и то только посвященным.
Во времена, когда тиизм имел доминирующее влияние, генералы получали большее удовольствие от преподнесенного им в дар редкого произведения искусства, чем от большой территории земли в качестве вознаграждения за победу.
Многие из популярных японских драм основаны на потере или возвращении известного шедевра. Например, в одной пьесе дворец правителя, в котором хранилось полотно великого художника Сессона, неожиданно был охвачен огнем из-за небрежности самурая. Решив во что бы то ни стало спасти драгоценную картину, самурай устремился в горящее здание. Думая только о картине, он разрубил свое туловище пополам с помощью меча, обернул разрезанными рукавами шедевр Сессона и погрузил его в зияющую рану. Когда огонь погас, среди тлеющих угольков нашли наполовину сожженное тело самурая, внутри которого находилось сокровище, не тронутое огнем. Да, конечно, такие сказания очень жестоки и ужасны, но они показывают, как японцы ценят шедевры и поклоняются им, а также как преданно служат верные самураи.
Мы должны помнить, что искусство имеет ценность только тогда, когда оно говорит с нами. Это должен быть универсальный язык, чтобы мы, самые разные, могли его понимать и проникаться сочувствием. Но наши условности, сила традиций, а также природа, наследственные инстинкты ограничивают наши возможности восприятия произведений искусства и наслаждения ими. Наша индивидуальность устанавливает в некотором смысле границу пониманию. Наша эстетическая индивидуальность ищет свою родственную душу в творениях искусства. Правда, с развитием наше чувство оценки и понимания искусства совершенствуется, и мы становимся способны наслаждаться многими шедеврами, которые ранее нами не были признаны. Но в конце концов мы видим только наш собственный образ во Вселенной – наша индивидуальность диктует способ нашего восприятия. Мастера чая помещали в чайную комнату только те предметы, которые строго подходили под мерку их собственного понимания.
В данной связи стоит вспомнить историю, касающуюся Кобори Еншиу. Однажды его ученики сделали ему комплимент по поводу восхитительного вкуса, который он продемонстрировал в подборе своей коллекции: «Каждая часть является такой потрясающей, что вряд ли кто-нибудь может ими не восхищаться. Это показывает, что у вас вкус лучше, чем у самого Рикю, так как его коллекцию смог оценить лишь один очевидец из тысячи». Еншиу печально заметил: «Это всего лишь доказывает, насколько я банален. Великому Рикю удалось полюбить только те предметы, которые привлекали лично его, в то время как я бессознательно удовлетворял вкусы большинства. Истинно, Рикю был одним на тысячу чайных мастеров».
Стоит сильно пожалеть, что такое пристальное внимание к искусству в настоящее время не имеет фундамента в настоящих чувствах. В нашу эру демократии люди требуют того, что всенародно признается лучшим, несмотря на личные ощущения. Они хотят дорогостоящего и пышного, но не изысканного и утонченного, модного и светского, но не по-настоящему красивого. Для массы людей доставляет большее удовольствие созерцание иллюстрированных периодических изданий, чем полотен итальянских мастеров Раннего Возрождения или японских мастеров периода правления династии Асикага, которыми они якобы восхищаются. Имя мастера для них более важно, чем качество его работы. Как один китайский критик жаловался много веков тому назад: «Люди критикуют картину по слуху». Именно недостаток понимания истинного прекрасного со стороны зрителя дает возможность процветанию того псевдоискусства, с которым мы сталкиваемся, куда бы ни повернулись.
Клан Асикага был видным японским кланом самураев, которые установили свой сёгунат и своевольно управляли Японией с 1335 по 1573 год. Асикага ответвились от клана Минамото, получив свое имя от городка Асикага. После того как главное семейство сёгунов Минамото потеряло власть, Асикага принялись править самостоятельно.
Другая общая ошибка заключается в том, что мы путаем искусство с археологией. Преклонение человечества перед Античностью заслуживает похвалы. Древних мастеров по праву следует почитать за то, что они открыли тропу к будущему просвещению. Тот простой факт, что они прошли невредимыми через века критики и дошли до нас все еще в лучах славы, достоин нашего уважения. Но мы были бы глупцами, если бы ценили их достижения только из-за того, что их уже нет в живых. Плохо, что мы дарим цветы одобрения только тогда, когда художник уже безмятежно лежит в своей могиле. XIX век, богатый теорией эволюции, создал в нас привычку терять зрелище индивидуального в видах, подвидах, классах и подклассах. Коллекционер беспокойно стремится приобрести экземпляры, чтобы проиллюстрировать тот или иной период, ту или иную школу. Но он забывает, что единственный шедевр может научить нас большему, чем огромное количество посредственных произведений данного периода или школы. Мы слишком много классифицируем и слишком мало наслаждаемся. Жертвование эстетическим методом в пользу так называемого научного метода выставки явилось гибелью для многих музеев.
Требованиями современного искусства не следует пренебрегать ни в одной из существенных схем жизни. Оно является искусством, которое действительно принадлежит нам: это наше собственное отражение. Осуждая и приговаривая его, мы тем самым приговариваем и осуждаем самих себя. Мы говорим, что у настоящего времени нет искусства. А кто за это несет ответственность? Действительно стыдно, что, несмотря на все наши дифирамбы древним, мы обращаем так мало внимания на наши собственные возможности. Борющиеся художники – усталые души, остающиеся в тени холодного презрения и пренебрежения! В нашем эгоистичном веке какое вдохновение мы можем им предложить? Прошлое может с жалостью посмотреть на пустоту нашей цивилизации. Будущее посмеется над бесплодием нашего искусства. Мы сами разрушаем красоту жизни. Как было бы хорошо, если бы какой-нибудь великий волшебник из нашего времени создал могущественную арфу, чьи струны зазвучали бы от прикосновения его гения.
Цветы
Когда в дрожащем сумраке весенней зари птицы таинственно щебечут в зарослях деревьев и кустов, не кажется ли вам, что они ведут разговор со своими собратьями о цветах? Определенно, у человека понимание и оценка цветов должны быть одного возраста с поэзией любви. В чем лучше, чем в цветке, сладком благодаря своей бессознательности, ароматном благодаря своему молчанию, человек может выразить открытость своей девственной души? Первобытный мужчина, даря первый венок своей девушке, преодолел таким образом в себе животное. Он стал человечным, поднявшись над незрелыми и грубыми потребностями природы. Он вступил в царство искусства, когда осознал утонченную полезность бесполезного.
В радости или печали цветы являются нашими постоянными друзьями. Мы едим, пьем, поем, танцуем и флиртуем с ними. Мы вступаем в брак и крестим детей с цветами. Мы даже не умираем без них. Мы поклоняемся богам и ходим в храм с лилиями, медитируем с лотосом, атакуем врага с розой и хризантемой. Мы даже пытаемся говорить на языке цветов. Как бы мы могли жить без них? Нас пугает мысль о мире, лишенном их присутствия. Какое утешение они приносят больному, лежащему в постели, какой свет блаженства они доставляют в темноту усталых душ! Их безмятежная нежность вселяет в нас уверенность, как и внимательный взгляд на ребенка возвращает нам потерянные надежды. Даже если мы уже мертвы, именно они остаются грустить на наших могилах.
Довольно печально, но мы не можем скрывать тот факт, что, несмотря на наши товарищеские отношения с цветами, мы не поднялись слишком высоко над животными. Волк в овечьей шкуре внутри нас скоро покажет свои зубы. Ведь недаром было сказано, что человек в 10 лет – животное, в 20 – сумасшедший, помешанный, в 30 – неудачник, в 40 – обманщик и мошенник, в 50 – преступник. Возможно, он становится преступником из-за того, что он никогда не переставал быть животным. Ничто не является реальным для нас, кроме голода. Ничто не является священным, за исключением наших собственных желаний. Храм за храмом рушатся перед нашими глазами, но один алтарь навсегда сохранен, в котором мы жжем ладан главному идолу – нам самим. Наш бог велик, а деньги являются его пророком! Мы опустошаем природу, чтобы принести ему жертву. Мы хвалимся, что мы победили материю, но забываем, что именно она нас и поработила. Какие зверства мы не совершаем во имя культуры, изящества и изысканности!
Поведайте мне, милые цветы, слезы звезд, стоящие в саду и кивающие своими головками пчелам, когда те поют о росе и солнечных лучах, знаете ли вы о страшной судьбе, которая вас ждет? Мечтайте и веселитесь на милом тихом ветерке, пока можете. Завтра безжалостная рука сомкнется у вас на горле. Вы познаете страдание, потому что вас вырвут порознь, стебелек за стебельком, и унесут прочь от вашего спокойного дома. Бедняги, а ведь судьба еще может пройти мимо вас. Она может сказать, как вы прекрасны, в то время как ее руки все еще будут покрыты вашей кровью. Скажите мне, в этом ли заключается доброта? Может быть, ваша судьба – быть в заточении в волосах той, о которой вы знаете, как она бессердечна? Или ваша судьба – быть бутоньеркой в петлице у того, кто не осмелился бы посмотреть вам в лицо, если бы вы были людьми? Вашей участью, возможно, станет быть заключенными в некий узкий сосуд с застойной водой, чтобы утолить ужасную жажду, которая предупреждает об угасающей жизни.
Цветы, если бы вы были на земле Японии, вы могли бы когда-нибудь встретить страшного персонажа, вооруженного ножницами и крошечной пилкой. Он называет себя мастером цветов и претендует на права доктора. И вы инстинктивно возненавидели бы его, так как узнали бы, что доктор всегда старается продлить неприятности своих жертв. Он срежет, согнет и скрутит вас в те невозможные композиции, которые, по его мнению, для вас являются наиболее приемлемыми. Он искривит ваши мускулы и сместит ваши кости, как любой остеопат. Он обожжет вас с помощью раскаленных углей, чтобы остановить ваше кровотечение, и воткнет в вас проволочки, чтобы содействовать вашей циркуляции. Он будет держать вас на диете из соли, уксуса, квасцов и иногда купороса. Кипяченая вода будет вылита на ваши ноги, когда вы, кажется, совсем потеряете сознание. Он будет хвалиться тем, что он смог сохранить в вас жизнь на две недели дольше, чем это было бы возможно без данного ухода. Не предпочли бы вы, чтобы вас сразу убили, когда только вы были сорваны? Какие преступления вы должны были совершить во время вашего последнего воплощения, чтобы заслужить подобное наказание?
Бессмысленная порча цветов в среде западного общества является даже более ужасной, чем тот способ, с помощью которого за ними ухаживают восточные мастера. Бесчисленное количество цветов срезается каждый день в Европе и Америке, чтобы украсить бальные комнаты и банкетные столы и выкинуть их на следующий день. Если связать их все вместе, то эта гирлянда смогла бы опоясать целый континент. Рядом с этой крайней легкомысленностью по отношению к жизни вина мастера цветов становится незначительной. Он, по крайней мере, уважает экономию природы, отбирает свои жертвы с заботливой предусмотрительностью и после их смерти отдает свое почтение останкам. На Западе выставление цветов напоказ является прихотью, капризом на мгновение, частью блеска и шика богатства. Куда они все денутся, эти цветы, когда буйное веселье закончится? Нет ничего более жалкого, чем увидеть увядшие цветы, безжалостно выброшенные на компостную кучу.
Почему цветы были рождены такими красивыми и одновременно такими несчастными? Насекомые могут ужалить или укусить в свою защиту и даже самые кроткие животные будут бороться, когда их загонят в ловушку. Птицы, чьи перья ищут, чтобы украсить ими какую-нибудь шляпку, могут улететь от преследователя. Животное с драгоценным мехом, чью шубу вы носите, может спрятаться, услышав приближение охотника. Увы! Единственно известный цветок, у которого есть крылья, – это бабочка. Все другие стоят беспомощно перед разрушителем. Если даже они и пронзительно кричат в своей смертельной агонии, их крик никогда не достигнет черствого слуха. Мы всегда жестоки и безжалостны с теми, кто любит и служит нам безмолвно. Но может прийти время, когда из-за нашей же жестокости мы лишимся своих лучших друзей. Вы не замечали, что дикие цветы становятся более редкими и скудными год от года? Может быть, оттого, что мудрецы сказали им уйти до того времени, пока люди не станут более человечными и гуманными. Возможно, они мигрировали на Небеса.
Многое можно сказать в пользу того, кто культивирует растения. Человек с горшком намного более гуманен, чем человек с ножницами. Мы с удовольствием наблюдаем, как он беспокоится о воде и солнечном свете, борется с паразитами, опасается наступления заморозков, тревожится о медленном распускании почек, восторгается ростом здоровых листьев.
На Востоке искусство выращивания цветов является одним из самых древних. Любовь поэта к любимому растению часто встречается в мифах, стихах и песнях. С развитием керамики во время правления династий Тан и Сун во дворцах появились специальные ящики (не горшки) для цветов, украшенные драгоценными камнями. Также назначалась специальная прислуга, чтобы следить за каждым цветком и мыть их листья с помощью мягких кистей из заячьей шерсти. В одной из книг написано, что пион должна была поливать красивая девушка в японском костюме, а зимнюю сливу – бледный стройный монах.
В Японии одна из самых популярных опер, «Хачиноки», сочиненная в период правления династии сёгунов Асикага (1335–1573), основана на истории о разоренном рыцаре, который в морозную ночь, не имея дров для поддержания огня, но желая накормить странствующего монаха, срубил свои заботливо выращенные растения. Монах был не кем иным, как добрым волшебником, и жертва рыцаря не осталась без вознаграждения. Эта опера все еще вызывает слезы у японской публики.
Большие меры предосторожности предпринимались для сохранения деликатных бутонов. Император Хиенсунг из династии Тан развешивал крошечные золотые колокольчики на ветвях растений в своем саду, чтобы отпугивать птиц. Именно он весной отправлялся со своими придворными музыкантами в сад, чтобы порадовать цветы приятной нежной музыкой. Необычная табличка существует в одном из японских монастырей со Средних веков. Составленная для защиты определенного замечательного вида сливового дерева, она обращается к нам с жестоким юмором, свойственным военному времени. Описав красоту цветков дерева, надпись далее гласит: «Тот, кто срежет хотя бы одну ветку с этого дерева, поплатится за это своим пальцем». Вот бы подобный закон был введен сегодня против тех, кто безжалостно убивает цветы и портит произведения искусства!
Даже если цветы растут в горшках, мы склонны обвинить человека в эгоизме. Зачем брать растения из их собственных домов и принуждать их цвести среди чуждого им окружения? Это то же самое, что просить птиц петь и размножаться в клетках. Кто знает, что чувствуют орхидеи, задушенные искусственным отоплением в оранжереях и теплицах. Может, они безнадежно жаждут хотя бы мельком взглянуть на свое привычное южное небо?
Идеальный любитель цветов тот, кто навещает их в их родных местах, подобно поэтам и философам, которые могли сидеть перед сломанным бамбуковым забором и разговаривать с ним, или бродить в сумерках среди загадочного благоухания цветущих сливовых деревьев, или спать так, чтобы сны смешивались со снами лотоса. Тот же самый дух двигал императрицей Комио, одной из самых значительных правителей периода Нара, когда она пела:
О цветок!
Если я сорву тебя,
Моя рука осквернит тебя.
Стой в лугах так же, как ты стоишь.
Я подарю тебя Будде прошедшего,
настоящего и будущего.
Когда чайные мастера учреждали культ цветов, они рассуждали следующим образом: «Давайте не будем слишком сентиментальными и расточительными, а лучше будем более величественными и прекрасными. Мы встречаемся с разрушением всюду, куда только не повернемся: оно внизу и вверху, сзади и спереди. Почему бы нам не встретить смерть так же радостно, как и жизнь? Они двойники, копии одна другой, ночь и день Брахмы. Через распад и разрушение старого становится возможным восстановление. Так почему бы нам не разрушить цветы, если посредством этого мы можем развить новые формы, которые облагородят идею мира? Мы только попросим их присоединиться к нашей жертве прекрасному. Мы загладим свой поступок, посвятив себя Чистоте и Простоте».
Каждый, кто знакомится с японскими чайными и цветочными мастерами, непременно замечает религиозное благоговение, с которым они относятся к цветам. Они очень тщательно отбирают каждую веточку или побег для художественной композиции, которую задумали. Они были бы опозорены, если бы отрезали стебель больше, чем это было необходимо. Стоит заметить в данной связи, что японские мастера всегда соединяют листья, если таковые имеются, с цветком, так как главной целью является представление полной красоты живого растения. Этим методы японских мастеров отличаются от методов цветочных мастеров в западных странах. Там мастера, как правило, оставляют только стебельки цветка и бутоны, в то время как все остальное искусно прячут в вазе.
Мастер чая, как правило, выставляет цветок в нишутокомона, которая является «красным углом» в чайной комнате. И ничего другого рядом с ним не должно быть даже картины, чтобы не служить помехой впечатлению от цветка. Он стоит там, подобно принцу на троне. И гости приветствуют его при входе в комнату низким поклоном еще до того, как адресовать свое приветствие хозяину. Когда цветок увядает, мастер нежно предает его реке или заботливо хоронит в земле. Иногда мастера возводят памятник цветку.
Для чайных церемоний используются цветы, составленные в технике чабана (ответвление икебаны). Это, как правило, одинокий цветок, помещенный в металлическую, бамбуковую или керамическую (но не стеклянную) полость. Естественным фоном для цветка может служить предмет изобразительного искусства: картина, свиток с рисунком или изречением.
Искусство упорядочения и аранжировки цветов – икебана – зародилось и развивалось одновременно с появлением тиизма в XV веке. Японская легенда приписывает зачатки этого искусства ранним буддистским святым, которые собирали цветы, разбросанные штормом, и в своей бесконечной обеспокоенности за всех живых существ размещали их в сосуды с водой.
Считается, что одним из самых ранних адептов этого искусства был великий Соами – художник при дворе сёгунов Асикага. Его учеником стал Сено, основатель выдающегося рода Икенобо, который вошел в летопись мастеров цветов. С усовершенствованием чайного ритуала при Рикю (во второй половине XVI века) достигло своего полного расцвета и искусство икебаны. Рикю и его последователи, прославленные мастера Одавурака, Фурука Орибе, Койецу, Кобори Еншиу, Катагири Секишиу, соперничали друг с другом в формировании новых цветочных композиций.
Но надо помнить, что поклонение цветам – это лишь часть эстетического чайного ритуала. Приведение в порядок цветов подчинялось общей схеме декорирования чайной комнаты. Например, яркие цветы были безжалостно высланы из нее, а по предписанию Секишиу белые цветки сливового дерева не использовались, когда лежал снег в саду. Цветы теряли свою значимость, если убирались с того места (токомона), которое предназначалось специально для них, так как линии и пропорции этого места были разработаны, исходя из общей обстановки комнаты.
Обожание цветов, как таковых, началось в середине XVII века с развитием цветочного искусства. Теперь цветы стали независимы от канонов чайной комнаты и не знали других законов, кроме тех, что налагала на них ваза. Стали возможны новые концепции и методы исполнения композиций, в результате чего возникло множество школ. Грубо их можно было разделить на два главных направления: формалистичное и натуралистичное.
Формалистичное направление, возглавляемое Икенобо, имело своей целью классический идеализм, который соответствовал японской школе живописи Кано. Мастера формалистичной школы практически воспроизводили цветочные композиции с декоративных картин художников Сансецу и Цуненобу.
Натуралистичное направление взяло в качестве своей модели естественную природу, ее полнокровную красоту, только изменив формы ради выражения художественного единства замысла. В работах мастеров этого направления проявились та же самая эмоциональная выразительность и изящная импульсивность, которые были характерны для направления укиё-э в японской живописи и графике, мастера которого со всей достоверностью запечатлели скромное обаяние природы японской провинции.
Было бы интересно глубже рассмотреть, чем это сейчас возможно, законы композиции и фундаментальные теории, сформулированные цветочными мастерами, которые управляли украшением двора периода правления сёгунов Токугава. Тогда бы мы узнали, что любое искусство цветов, которое не воплотило Лидирующий закон (Небо), Второстепенный закон (Земля) и Примиряющий закон (Человек), является бесплодным, несодержательным и мертвым. Мы бы узнали, что для мастеров был также очень важен подход к цветку в трех разных аспектах: формальном, полуформальном и неформальном. Первый требовал представить цветок как бы в величественном костюме в бальной комнате, второй допускал простую элегантность дневного платья, а третий позволял ему находиться в очаровательной наготе в будуаре.
Наши личные симпатии более на стороне обращения с цветами чайных мастеров, чем цветочных, потому что их искусство привлекает нас своей истинной близостью к жизни. Нам хотелось бы назвать школу чайных мастеров натуральной в противовес натуралистичным и формалистичным школам цветочных мастеров. Чайный мастер считает, что его обязанность заканчивается на выборе цветов, и он дозволяет им самим рассказать свою историю. Войдя в чайную комнату поздней зимой, вы можете увидеть тонкую ветку дикой вишни в сочетании с бутонами камелии. Это эхо отступающей зимы в паре с предвестником весны. А если вы зайдете в чайную комнату в какой-нибудь знойный летний день, вы увидите в полумраке и прохладе на токомона единственную лилию в подвешенной вазе: орошенная каплями воды, она как бы улыбается над глупостью жизни.








