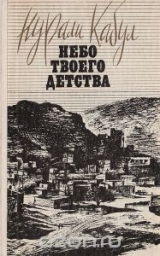
Текст книги "Небо твоего детства"
Автор книги: Нурали Кабул
Жанры:
Повесть
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
– Проклятые мясники! – крикнула мама. – Вы не только ягнят, вы и детей убивать готовы! Не плачь, сынок! Говорила я тебе, чтобы не ходил один в горы! Это горные духи вселились в тебя.
Продолжая причитать и всхлипывая, она унесла меня в дом.
Вечером я не обмолвился с отцом ни единым словом. Лег раньше всех, постарался уснуть, и мне это удалось. А рано утром мы с Буйнак опять ушли подальше от дома.
Неспокойно мне было. Я то срывался с места и мчал, как сумасшедший, пока хватало сил, вверх, вверх, все выше по горной тропке, и Буйнак летела рядом, не отставая ни на шаг, то вдруг падал, обессиленный, и лежал долго, шумно дыша, чувствуя спиной глубинную прохладу гор, а грудью – согревающий жар солнца. Я лежал, представляя небо то огромным, крутым куполом мечети, то, наоборот, тяжко провисающим брюхом гигантского голубого быка… Небо…
Как я все-таки мало знаю о нем… Почти ничего. Почему оно так притягивает меня? Почему мне кажется, что оно – живое и знает ответы на все мои вопросы?
Снизу, из сая, ветер доносил до нас разговор горожан и чабанов. Я узнал голос чабана соседней отары, которого люди называли Джумантай-Сумасброд.
– В общем, так, я режу овцу, вынимаю из нее четырехмесячного ягненка и снимаю с него шкурку, – бахвалился Джумантай. – Сур – первый класс. Эмир Алимхан такого не видывал. И всего за четыреста рублей.
– Триста! – Голос был мне не знаком.
– Буду посредником. Триста пятьдесят, – вмешался кто-то третий. – И по полста с каждого в мою пользу.
– Четыреста, и ни копейки меньше, – упорствовал Джумантай-Сумасброд. – На базаре за такую шкурку пятьсот дадут. Из уважения к вам дешевле уступаю.
– Кубанка хоть получится? – спросил незнакомец.
– Еще как! А нет, вторую овцу заколю.
– По рукам! Даю четыреста, чтобы шкурка завтра была готова.
– Не просохнет до завтра.
– Не беда. Мастер сам обработает и высушит. На днях в столицу еду. К этому сроку кубанка должна быть готова.
– Договорились. Гоните монету.
– А посреднику? Хоть на полбанки пожертвуйте!
– Пошел ты! – окрысился Сумасброд. – Без тебя договорились.
– Деньги с меня получишь, Джумантай. – Я узнал по голосу главного бухгалтера совхоза Рахима.
– Нет-нет, – запротестовал горожанин. – Я заплачу.
– Вы у нас гость, – веско сказал бухгалтер. – В кои-то веки к нам пожаловали. Так что не обижайте. С Джумантаем мы сочтемся. А шкурку я вам завтра сам доставлю.
Джумантай прикусил язык. С Рахимом не поспоришь, он – главный бухгалтер совхоза. И денег, конечно, не даст. Плакали четыре сотни.
И вдруг у меня все похолодело внутри: о чем я думаю? Ведь Джумантай собирается содрать шкурку с еще не родившегося ягненка!
Я отчетливо представил себе, как он вспарывает живот овце, запускает в него окровавленные руки…
– Нет!.. Нет!.. Остановите его!!! – закричал я. – Ведь вы же лю-ю-ди-и-и!!!
Буйнак ощетинилась и зарычала. Ветер прошелестел по траве, донес чей-то смех. Там, внизу, меня никто не услышал.
Лето кончилось. Настала пора уводить отары с гордых пастбищ. Мы погрузили пожитки в коляску мотоцикла. В нее же сели мама с Муттихон. Я устроился позади отца на втором сиденье. Чабан Хамро и Буйнак остались с отарой, чтобы отобрать слабых и больных овец, которых потом надо будет пригнать в кишлак.
Пасти этих овец возле кишлака входило в мои обязанности. Обычно меня сопровождала Буйнак, но нынешней осенью помощи от нее я не ждал: у Буйнак должны были родиться щенята. Я заботился о Буйнак – соорудил ей подстилку из соломы в углу сарая, носил еду, менял воду в миске.
И вот однажды утром я проснулся от громкого отцовского голоса.
– А, чтоб ты подохла, не ощенившись! – ругался отец во дворе. – Восемь штук сразу принесла! Полон сарай собак! Псарня, а не дом! Сколько раз собирался увезти проклятую куда-нибудь подальше!
«Щенята! – обрадовался я. – У Буйнак щенята». Вскочил и со всех ног бросился в сарай. Буйнак лежала на боку в углу, на подстилке из соломы, а возле нее копошились и жалобно попискивали крохотные слепые щенки. От радости я растерялся и не знал, что делать. Присел на корточки и погладил Буйнак по голове. Она не шелохнулась, только взглянула на меня и снова закрыла глаза. Я взял миску и вышел из сарая, чтобы принести ей поесть.
Мама хлопотала возле очага.
– Мама, Буйнак ощенилась. Дайте ей поесть что-нибудь, – попросил я. Мама кивнула, продолжая следить за казаном, в котором закипало молоко.
– Сейчас, сынок. Казан освободится, я ей болтушку приготовлю.
Я не отходил от очага до тех пор, пока не сварилась болтушка, остудил ее в миске и отнес в сарай. Опершись на передние лапы, Буйнак жадно лакала похлебку, а я тем временем хорошенько рассмотрел щенят.
Отец ошибся: их было семь, а не восемь. Три – вылитая Буйнак, один совсем черный, один пятнистый и два пегих.
Желающих забрать щенков нашлось, как всегда, много.
– Кто щенка просит – сам пес, кто не дает – собака! Что я их – пасти буду? – сердился отец. – Подрастут, тогда и забирайте. Только, чур, вон у него спрашивайте, он у нас над собаками главный начальник! Пусть и решает. Слышишь, Нарбута?
Я слышал, но раздавать щенят не хотелось, и, возвращаясь из школы, куда я нынешней осенью пошел в первый класс, я боялся, что не застану щенков на месте. Так и случилось: четырех кобельков раздали без меня, и я даже не узнал – кому.
Я понимал, что это, может быть, и к лучшему, что нам столько собак ни к чему, что у новых хозяев щенкам будет совсем не плохо, но где-то в душе все равно было жалко. И, как ни странно, я еще больше жалел трех оставшихся: они не были кобельками, и поэтому брать их никто не хотел.
Щенки подросли и уже всюду бегали за Буйнак – забавные, пушистые, неуклюжие, как медвежата. Особенно смешным был пегий щенок с черным пятном вокруг пасти. Когда он вставал на задние лапки и быстро-быстро перебирал в воздухе передними, он становился похожим то ли на суслика, то ли на крошечного потешного человека.
– Как же мне назвать тебя, бедняжка? – спросил я его однажды. Щенок смотрел на меня, хитро моргая круглыми веселыми глазенками. – Будь ты мальчиком, еще куда ни шло. А то угораздило девчонкой родиться! – Я в задумчивости гладил щенка, а он забавно перебирал лапами, пытаясь схватить мои пальцы. – Знаешь, назову-ка я тебя Карауз – Чернушка. Не беда, что ты почти вся светлая, мордашка-то у тебя черная!
Карауз слушала, навострив уши.
– Нравится? Карауз! Правда, здорово? Карауз! Карауз! На! На!
Я побежал, оглядываясь на нее и продолжая звать. Карауз раздумывала несколько секунд и вдруг сорвалась с места и кинулась за мной, заливаясь веселым писклявым лаем.
Мы играли все вместе, пока не наступил вечер. Утром я ушел в школу, а когда вернулся… Лучше бы я не ходил в тот день в школу…
Обычно Буйнак со щенками встречала меня возле ворот. На этот раз меня никто не встретил. Я бросил сумку с книгами у порога и помчался в сарай. Там было пусто. Я обежал весь двор, заглянул в каждую щель, выскочил за ворота, кричал, звал… Мне никто не ответил…
Бабушка пряла свою пряжу на солнцепеке возле сарая. Я бросился к ней.
– Бабушка! Где Буйнак, бабушка?
Она нахмурилась, не поднимая глаз от пряжи.
– Щенков люди разобрали. А Буйнак, по-моему, за отцом твоим увязалась. Он утром к отаре уехал.
– Неправда! – крикнул я, чуть не плача. – Не могла она с отцом… Он ведь на мотоцикле уехал!
– Стара я тебя обманывать! – обиделась бабушка. – Не веришь, у матери своей спроси.
Я побежал к дому.
Мама месила тесто. Я подошел к ней и, еле сдерживая слезы, спросил упавшим голосом:
– Скажите правду, мама, где Буйнак?
Мама взглянула на меня как-то виновато и растерянно.
– Здесь где-нибудь, наверное… Да что это я говорю? Она за отцом увязалась. Ну, что же ты плачешь?
– А щенята?
– Щенят, кажется, чабаны забрали.
Я видел, что мама говорит неправду и сама мучается из-за этого. Но я должен был во что бы то ни стало знать все.
– Отец уехал на мотоцикле. Сам видел, – соврал я. – И Буйнак с ним не было.
– Ну, тогда не знаю, сынок. – Ладонью мама устало отвела со лба прядь волос. – Наверное, бегает где-нибудь.
Я понял, что допытываться бесполезно, и, ни слова не говоря, вышел из комнаты. «Надо расспросить Муттихон, – решил я. – Наверное, ее тоже научили, что отвечать, но ее хоть обмануть можно».
Отыскать Муттихон оказалось не так-то просто. Я уже отчаялся было, когда услышал мягкие шлепки со стороны старого русла арыка. Сестренка что-то лепила из глины и была так увлечена своим занятием, что не сразу меня заметила. А может, она просто делала вид, что меня не видит?
– Что ты тут делаешь, Муттихон? – спросил я, не зная, с чего начать разговор.
Она взглянула на меня и отвела глаза. «Так и есть, – подумал я, – научили девчонку». И решил не хитрить.
– Буйнак не видела?
– Нет.
– Не стыдно обманывать? Забыла, чему тебя бабушка учит?
– Все равно не скажу! – заупрямилась Муттихон. – Папа не велел говорить.
– Не скажешь?
– Не скажу! Только попробуй меня пальцем тронуть. Папа предупредил: если обижать меня будешь, он тебя поколотит как следует.
– Никто тебя и не собирается трогать. Скажешь, где Буйнак, – цветные карандаши получишь.
– Ха! Так я тебе и поверила!
– Не веришь – не надо. Сам все узнаю.
Я сделал вид, что собираюсь уходить.
– Постой. Ладно, скажу, только чтобы папа не знал!
И Мутгихон рассказала все как было.
Утром, лишь только я ушел в школу, отец посадил щенят в хурджун, взвалил на ишака и выехал за калитку, свистнув Буйнак, чтобы шла за ним. Маме он сказал, что отвезет собак в тугай [4]4
Густые заросли.
[Закрыть] и там оставит.
– Так и сказал? – переспросил я.
– Так и сказал, – кивнула Мутти. – Л теперь давай карандаши, раз обещал.
– Дам, не бойся. Ты вот что сделай: беги домой и принеси пару лепешек. Только смотри, чтобы никто не видел. Понятно?
– Понятно. Ты что задумал?
– Не твое дело.
– Неужели в тугай пойдешь? – ахнула сестренка. – Не ходи! Бабушка говорит, там волки водятся, шакалы. Не ходи! Лучше мне никаких карандашей не надо!
– Враки все это, – успокоил я. – Я в том тугае тысячу раз с Буйнак бывал. Ну, сама подумай, кого из нашего кишлака волки в тугае съели? Никого. Это бабушка нарочно тебя пугает, чтобы далеко от дома не уходила. Иди, лепешки тащи.
Уговаривать Муттихон не пришлось. Она мигом слетала домой и принесла лепешки.
– Молодец, – похвалил я. – Можешь взять карандаши, они у меня в сумке лежат. Если мама спросит, где я, скажи – с мальчишками играть пошел.
Я погладил ее по голове, взял хлеб под мышку и выбежал на улицу. К тугаю вела узкая, заросшая по обочинам густым камышом дорога. Метелки камыша пушились от малейшего дуновения, пушинки роились в воздухе, устилали дорогу грязно-серыми хлопьями.
Вдоль дороги тянулся водосборный коллектор, который кончался озером. А сразу за озером тугай. Я дважды бывал здесь с отцом: пригоняли на водопой стадо, когда возвращались с отгонных пастбищ. И оба раза меня так и подмывало забраться в чащу, такая она была загадочная и пугающая, полная неясных шорохов и приглушенных звуков. Но отец строго-настрого запретил мне бывать в тугае. Туда и взрослые-то не часто решались заходить, разве что по крайней необходимости. Тугай пользовался дурной славой.
…Я нерешительно потоптался возле зарослей на берегу озера. Идти теперь было страшновато. Дорога обрывалась у озера. Дальше в тугай вели тропинки. Пробираться по ним можно было только пригнувшись, так низко нависали колючие ветки. Было тихо – чаща жила своей таинственной, непонятной жизнью.
Я огляделся по сторонам. Коллектор, видимо, углубляли экскаваторами, там и сям высились холмы твердого сухого грунта.
Что, если взобраться на холм и оттуда позвать Буйнак? Она услышит и прибежит. А вдруг не прибежит? Все равно буду звать! Она умная, поймет, что я тут ни при чем… Что это не из-за меня…
А может, отец вовсе не привозил их сюда? Отвез куда-нибудь в другое место? Разыскать отца и спросить?
Нет, не годится. Спрашивать нельзя. Ну, почему он такой жестокий у нас? Ни Буйнак не пожалел, ни щенков. Наверное, его кто-то сильно разозлил. Он, когда вспылит, ничего не видит и не слышит. Бабушка говорит, что он с войны таким пришел. А до этого спокойный был, добрый…
Я поднялся на холм и еще раз внимательно осмотрелся вокруг. Над зарослями джиды и турангила покачивались серебристо-сиреневые метелки камыша. Дальше заросли становились выше и гуще, начинался настоящий лес. В вечереющем небе кружились птицы, какие – отсюда не разглядеть.
– Буйна-а-ак! – крикнул я. Голос прозвучал негромко и жалобно. Я набрал полную грудь воздуха и закричал изо всех сил: – Буйна-а-а-к-е-е-ей!
В кустах испуганно шарахнулся какой-то зверек. Я вздрогнул и оглянулся. По верхушкам зарослей было заметно, в какую сторону он удирал. Я проследил его до самой чащи и уже хотел снова крикнуть, как вдруг увидел, что сквозь заросли по направлению ко мне кто-то движется. Почему-то я сразу решил, что это Буйнак.
Она медленно вышла из кустов и остановилась у подножия холма, понуро опустив голову. Такой я еще никогда ее не видел: бока ввалились, шерсть слиплась в клочья, вся в репьях и грязи, глаза тоскливые, уже ни на что не надеющиеся.
Пока я сбегал с холма, Буйнак легла на редкую пожелтевшую траву, уронив голову на передние лапы. За эти несколько часов она словно постарела на десять лет.
Я хотел обнять ее и не решился.
– Хлеба тебе принес, – сказал я, чувствуя себя бесконечно виноватым перед нею.
Буйнак даже не взглянула на меня. Она была права. Многие годы она верой и правдой служила нашей семье, охраняла овец лучше, чем иные пастухи, рожала сторожевых псов, стерегла дом и кочевье, любила нас всех, даже отца, и вот теперь…
Колючий комок подкатил к горлу, мешал мне дышать.
Конечно, Буйнак была права. Ведь мы прогнали ее из дому. Привезли вместе со щенками в тугай и бросили – живи как хочешь. Представляю, что она о нас думает. О нас… Но ведь я не хотел, я…
Буйнак подняла голову, и в глазах ее промелькнуло новое выражение. «Ты не виноват, – казалось, говорили ее глаза. – Я не обижаюсь на тебя».
Я опустился на колени и прижался лицом к ее морде.
– Хочешь, я останусь с вами? Будем вместе жить в тугае.
Буйнак вздохнула и отодвинулась от меня. Теперь в ее глазах были жалость и укоризна. «Глупый, разве люди живут в тутаях? Люди должны жить с людьми. Это нам, собакам, все равно где жить».
– Неправда, – сказал я.
«Правда», – моргнула Буйнак.
Она видела меня насквозь. Ее невозможно было обмануть. Мы оба понимали это.
– Мы останемся друзьями.
«Да».
– Я буду навещать вас.
«Да».
– Часто-часто.
«Нет. Приходи изредка. У тебя будет много своих забот».
Она потянулась ко мне, просунула морду мне под мышку. Некоторое время мы сидели молча. Я чувство вал, как гулко бьется ее сердце. Прошелестел ветер в зарослях. Каркнула, пролетая над нами, ворона. И опять наступила тишина.
– Где Карауз? – спросил я.
Буйнак осторожно высвободилась из моих рук и поглядела в сторону тугая. Я вскочил и подобрал с земли лепешки.
– Пойдем к ним.
Казалось, Буйнак колеблется.
– Пойдем, пойдем, – торопил я.
Она решилась и медленно затрусила к зарослям. Я поспешил следом.
Наша тропинка была похожа на узкий желто-зеленый туннель в зарослях. Ее наверняка протоптало зверье – взрослому человеку здесь пришлось бы пробираться ползком.
Я шел следом за Буйнак, низко пригнувшись и отводя от лица колючие ветви джиды. Местами приходилось опускаться на четвереньки. Тропинка была устлана сухими листьями камыша. Я порезал руку, но не подавал виду и старался не отставать от Буйнак.
Впереди забрезжил просвет. Через минуту-другую Буйнак вышла на лужайку и оглянулась, словно приглашая меня поторопиться.
После желто-зеленого сумрака тропы закатное солнце ослепило меня, и я зажмурился. Поросшая жесткой зеленой травой лужайка выходила к озеру. Дул ветер, по воде бежала мелкая рябь. Красноватое вечернее солнце клонилось к закату. От него через все озеро тянулась огненная дорожка.
Чуть в стороне, на подстилке из сухого камыша, свернувшись клубками, спали щенята.
– Карауз! – позвал я. – Иди сюда, Карауз!
Все трое вскочили, как по команде, и бросились к нам, заливаясь лаем и повизгивая. Я разделил лепешку на четыре части, три отдал щенятам, а четвертую – побольше – Буйнак. Они мигом все съели.
– Завтра принесу, потерпите, – сказал я, а про себя решил, что надо кроме хлеба прихватить с собой что-нибудь еще.
…Возвращаясь домой уже затемно, я думал о том, что отвечу отцу, если он станет меня расспрашивать, где был. Но отца дома не оказалось. Я наскоро поужинал и лег спать, довольный тем, что разговор с отцом не состоялся. Я не боялся этого разговора. Мне не хотелось говорить с отцом, не хотелось его видеть.
Муттихон помалкивала о том, что я бываю в тугае. Но если бы она даже и проболталась, ей все равно никто бы не поверил: тугай был далеко, туда и взрослые ходить побаивались.
Меня такое положение устраивало, и я чуть не каждый день навещал Буйнак с детьми.
Разговора с отцом у нас так и не было. Последнее время он, правда, редко бывал дома, но когда и бывал, речь о Буйнак не заходила. Он упорно молчал, я ни о чем не спрашивал, и все делали вид, будто ничего не произошло.
Порою я смотрел на отца и, чувствуя, как болезненно сжимается сердце, задавал себе вопрос: неужели он и в самом деле такой черствый, бессердечный человек? Я не мог, не хотел в это верить. Ждал, что отец вот-вот сам заговорит о Буйнак и ее детях, возьмет меня с собой, мы отправимся в тугай и привезем их обратно.
Но отец молчал, и я с ужасам убеждался в том, что судьба четвероногих изгнанников ему безразлична.
Бабушке вообще ни до чего, кроме пряжи, дела не было. Она заметно сдала за последнее время. Ни с кем не разговаривала. Пряла целыми днями да пила чай, настоянный на оленьей траве.
Мама хлопотала по хозяйству и бывала так занята, что таскать из кухни еду для собак не составляло особой трудности.
Так все и шло своим чередом. По утрам я уходил в школу, потом спешил к Буйнак в тугай, возвращался домой, готовил уроки и ложился спать. А утром все начиналось сначала.
Однажды в классе нам дали задание нарисовать, кто как провел лето. Я нарисовал Буйнак возле топольков с ободранной корой.
Учитель долго разглядывал мой рисунок, потом отложил в сторону и посмотрел на меня так, словно видел впервые. Я смутился, а он похлопал меня по плечу со словами:
– Очень хороший рисунок, Нарбута. Молодец. Пошлем его в журнал «Гунча»[5]5
Бутон.
[Закрыть], если не возражаешь.
Я удивился: рисунок как рисунок, могу нарисовать и лучше, но вслух ничего не сказал.
Прошла зима. Опять зазеленели горные склоны. На ветках деревьев в тугае набухли и проклюнулись почки. Щенки у Буйнак выросли и стали совсем взрослыми. Если бы я не видел их чуть ли не каждый день, я бы их теперь не узнал. Даже Карауз. Шерсть у нее стала густая, пушистая. И потемнела. Она была теперь серая, как волчица. Да и повадками напоминала волчицу – такая же поджарая, стремительная, ловкая. Ей ничего не стоило поймать зайца, подкараулить суслика или зазевавшуюся пичугу. Она даже за рыбой наловчилась охотиться на отмелях. Сестры от нее не отставали.
Они уже давно не нуждались в моей помощи, сами себе добывали пропитание и Буйнак приносили ее долю.
А она, как и наша бабушка, сильно сдала за эту зиму, двигалась мало, ела неохотно, целыми днями грелась на солнышке.
Наверное, бабушка ошиблась, когда говорила, что собака за год два года проживает. Бабушке семидесятый год пошел, ну и Буйнак, по собачьему счету, не меньше.
Как же я теперь без нее с Кадыркулом и заготовителями бороться буду? На Карауз с сестрами надежда маленькая, они совсем другие.
Карауз грызла кость, лежа рядом с матерью. Я посмотрел на ее грозные клыки, представил себе, как она рвет и треплет ими Насфуруша, и засмеялся. Да, с Карауз Кадыркулу ни за что не справиться, это ему не Буйнак! Карауз выросла в тугае настоящей хищницей, жестокой, бесстрашной, не знающей жалости.
Однажды, когда я после школы пришел как обычно проведать Буйнак, они все вчетвером рвали зубами тушу какого-то крупного зверя.
– Ого! Вот так добыча!.. – начал было я и вдруг осекся, чувствуя, как у меня от ужаса холодеют и сами собой подгибаются ноги: собаки терзали овцу…
«Неужели Карауз решилась напасть на стадо? А может быть, баран сам заблудился и забрел в тугай? Но даже если и так, то…»
Мысли путались, тревожные, обжигающе холодные. Ни слова не говоря, я отошел на несколько шагов и остановился возле самой воды. Собаки, не обращая на меня внимания, продолжали неторопливо раздирать свою страшную добычу.
«…Она нарушила древнейший закон чабанской жизни. Из века в век собака была чабану верным другом, помогала ему пасти, охраняла овец от хищников и никогда не нападала на отары сама. И вот… Но, может быть, я ошибся? Может быть, мне только показалось, что это овца?..»
Я снова подошел к собакам, присмотрелся внимательнее… Нет, сомнений не оставалось: это овца из отары. Голова еще цела… Мертвая, в потеках грязи и запекшейся крови…
И вдруг ужасная догадка пригнула меня к земле. Я бросился на колени, растолкал глухо зарычавших собак, непослушными пальцами стер с клейма багровую слизь и увидел три знакомые тройки… Отчаянный вопль рванулся из моего горла. Падая, я успел заметить, как шарахнулись в сторону косматые, зловещие тени четвероногих убийц…
Я очнулся от щекочущего прикосновения к лицу теплого, шершавого языка Буйнак. Ее, кажущаяся огромной, голова четко вырисовывалась на фоне пронизанного весенним солнцем бездонного голубого неба. Глаза смотрели на меня жалобно и виновато.
– Как ты могла… – произнес я и заплакал. В горле першило, голос был какой-то чужой, хриплый. – Как же ты допустила, Буйнак?
Она склонила голову набок и чуть слышно заскулила.
«Не надо, – умоляли ее глаза. – Не говори об этом».
– Надо, – жестко сказал я и сел, подтянув колени к подбородку. – Что плохого сделала вам Сиротка? Зачем вы убили ее?
«Ты не поймешь».
– Не пойму, – согласился я. – Наверное, никогда не пойму. Но ты все равно ответь.
«Я не убивала Сиротку».
– Карауз?
«Да».
– Какая разница?
«Разница есть. Карауз выросла в тугае. Она почти не знает людей».
– Ну и что?
«Ничего. Просто она живет по другим законам».
– Она твоя дочь.
«Да, но…»
– Ты должна была ее научить.
«Я старалась. Не вышло. Тебе этого не понять! Ты не жил в тугае. Здесь все по-другому. Здесь иначе нельзя».
Я осмотрелся по сторонам. Сестры Карауз лежали поодаль, греясь на солнце.
– Где Карауз?
«Я прогнала ее. Вернется».
– И опять будет душить овец?
«Не знаю. Наверное, будет».
– И ничего нельзя изменить?
«Нет. Теперь уже ничего не изменишь. Поздно, Охотиться на овец легче, чем на зайцев. Овцы не боятся собак. Не убегают».
– Они верят вам!
«Да. Верят. Мы так же верили людям».
– Мне пора. – Я встал. – Надо что-то делать, Буйнак. Это плохо кончится!
Теперь она смотрела на меня снизу вверх, и от этого взгляд ее казался еще жалобнее.
«Я попробую. – Не осуждай ее… и нас не осуждай», Я промолчал. Что я мог сказать?
«Ты больше не придешь?»
Я отвел глаза в сторону.
– Приду.
«Когда?»
– Не знаю. Может быть, завтра.
…Но я не пришел ни на другой день, ни на третий, ни через неделю. Возможно, больше не пошел бы к ним никогда – кровоточащая тень Сиротки разделяла нас, и я не мог, не смел переступить через нее. Я много думал о том, что произошло тогда в тугае, старался осмыслить случившееся, мучился, не находя ответа, кто же виноват в том, что между мною и Буйнак с ее дочерьми пролегла бездонная пропасть.
Однажды, возвращаясь из школы, я увидел, как на дорогу, которая вела к тугаю, свернули два пса. Сам еще не зная почему, я побежал за ними и скоро догнал их. Это были старшие сыновья Буйнак – Сиртлан и Коктай. Куда они направлялись? Неужели к матери? Но откуда им известно, где она?
Не замечая меня, псы трусили по пыльной дороге. Я следовал за ними на некотором расстоянии и вскоре понял, что не ошибся: добежав до озера, Коктай и Сиртлан отыскали нужную тропинку и скрылись в зарослях. Я подождал немного и пошел следом. Не выбираясь на открытое место, я из зарослей наблюдал за тем, что происходит на поляне.
Буйнак и ее сыновья стояли друг против друга и настороженно принюхивались. Потом она вильнула хвостом и, подойдя к Коктаю, потерлась мордой о его морду. То же повторилось с Сиртланом. Затем Буйнак вдруг отскочила назад и, продолжая вилять хвостом, побежала по кругу. Сыновья, словно маленькие щенята, с лаем и визгом бросились за ней в погоню, и началась веселая кутерьма.
У меня защемило в груди. Еще совсем недавно мы с Буйнак точно так же резвились на горных лужайках. Недавно? Как давно это было! Я почувствовал, что еще немного, и я не выдержу, кинусь к ним и, позабыв обо всем, присоединюсь к их игре.
Наверное, я бы так и сделал, но как раз в это мгновение мимо меня промелькнули три серые бесшумные тени и грозное рычанье разом положило конец веселой возне. Я выглянул из-за куста.
Посреди поляны, ощетинившись и угрожающе оскалив клыки, стояли Карауз и ее сестры. Коктай и Сиртлан на мгновение растерялись, но тотчас же яростно зарычали, и шерсть у них на загривках поднялась дыбом.
На Буйнак больно было смотреть: она как-то сразу сникла и, низко опустив голову, понуро поплелась прочь.
Я со страхом ожидал, что собаки бросятся друг на друга и начнется грызня, но все кончилось мирно. Сиртлан с Коктаем, продолжая рычать, обошли сторонкой сестер и скрылись в зарослях.
«А ведь они родные, – с горечью подумал я. – Но еще чуть-чуть, и вцепились бы друг другу в горло».
И всю дорогу до дома я мучительно пытался придумать что-нибудь такое, чтобы Буйнак с дочерьми могла вернуться домой, пока наконец не понял, что стараюсь напрасно и ничего уже изменить нельзя. Буйнак еще, может быть, и вернулась бы, хотя тоже вряд ли: она обидчивая и предательства ни за что не простит. Ну, а те трое никогда не станут домашними собаками. Буйнак права, теперь уже ничего не изменишь.
Вечером отец пришел из конторы совхоза раздраженный и злой. Отказался от ужина. Снял со стены ружье, патронташ, достал коробку с патронами.
– Картечь где-то у нас была?
– Откуда я знаю? Картечь-мартечь… Время овец в горы гнать, а он на охоту собирается, – заворчала мама. – Добро бы хоть охотник был, а то!.. Только пугать умеете.
– Что верно, то верно, – согласился отец, роясь на полке. – Душа у меня не лежит к охоте. А в этот раз, видите, придется… Вот она где, оказывается. – Он открыл коробку, вынул из нее патроны и стал засовывать в патронташ. – Обнаглели волки. Шесть овец за две недели, и все из нашей отары. Никогда такого не бывало. А у бухгалтера разговор короткий: не уберег – плати из своего кармана. Я ему и так объяснял, и этак, ничего слушать не хочет. Плати, и все. Или волков сюда подавай. Тогда спишут. – Он налил в пиалу остывший чай, отхлебнул. – Собери поесть чего-нибудь. Завтракать не буду, чуть свет в тугай пойду.
Я еле удержался, чтобы не закричать. Изо всех сил стискивал зубы, но меня так трясло, что зуб на зуб не попадал.
– Ты что это? – удивился отец. – Трясешься весь и лицо бледное. Иди, мать, посмотри, уж не заболел ли парень.
Мама потрогала мне лоб, заставила выпить чаю с медом, заботливо укутала одеялом.
Всю ночь я не сомкнул глаз. А едва забрезжило за окном, встал, тихонько оделся и выскользнул за дверь.
Я мчался по дороге, смутно белеющей в предрассветных сумерках, сам еще толком не зная, что иуду делать. «Спасти… – билось у меня в голове. Предупредить… Пусть уйдут куда-нибудь подальше.."
Уже возле самого озера, услышав, как где со позади, на дороге, затарахтел, приближаясь, отцовский мотоцикл, я пригнулся и, обдирая лицо и руки о нависшие ветки, побежал по знакомой тропе.
Вот наконец и поляна. Я бросился к тому месту, где на камышовой подстилке обычно спала Буйнак, и остановился как вкопанный: собак не было!
Я обшарил всю поляну, окрестные заросли, звал вполголоса, чтобы не услышал отец. А в ушах раскатами грома отдавался грохот мотоциклетного мотора. Обессиленный, я опустился на землю и только тогда понял, что это стучит, пытаясь вырваться из грудной клетки, мое сердце.
А вокруг было тихо. Где-то плескалась вода, как обычно шуршало и потрескивало в тугае, птицы перекликались неуверенными со сна голосами. Озеро было бирюзово-синим, и небо над озером наливалось светлеющей с каждой минутой бездонной синевой.
Я поднялся и, не думая, куда и зачем иду, пошел вдоль берега, машинально обходя высокие кусты и деревья.
Заросли поредели и кончились. Впереди зеленел просторный выгон, подернутый легкой дымкой испарений, которая исчезнет с первыми же лучами солнца. На выгоне паслась отара. Уже рассвело, но солнце еще не поднялось из-за дальних гор, и овцы казались просто темными холмиками, неторопливо передвигающимися с места на место. И навстречу мне шел, огибая отару, человек с палкой наперевес.
Из-за гор выглянул краешек солнца, в его лучах палка в руках человека сверкнула холодным металлическим блеском, и я вдруг понял, что человек этот – мой отец и палка у него в руках – вовсе не палка, а ружье. И в то же мгновение я увидел, что впереди меня, на одной линии с отцом крадется к отаре собака. И по тому, как она кралась, а не шла открыто, я понял, что это не сторожевой пес, и, все еще не веря, наугад негромко позвал:
– Карауз!
Собака вздрогнула и оглянулась.
Отец вскинул ружье. Он не видел меня, не мог видеть, я стоял в тени.
– Беги, Карауз! – крикнул я, но было уже поздно. Отец выстрелил…
Карауз метнулась в заросли. А ты…
Ты еще стоял несколько мгновений, прежде чем упал лицом вниз.
Захлопав крыльями, взмыли в небо потревоженные выстрелом птицы. Но они возвратятся на землю, а тебе не вернуться уже никогда.
Опираясь на руки, ты приподнялся, чтобы в последний раз взглянуть на небо, которое так любил, и увидел отца. Отшвырнув ружье и вцепившись руками в волосы, он бежал к тебе, широко раскрыв рот в безумном рыдающем вопле. Но ни голоса его, ни слов безысходной тоски и горя ты уже не услышал…
Я слышал их много раз. И одиннадцать лет спустя написал о тебе эту повесть. Я – твой старший брат, которого ты ждал когда-то из армии, но так и не дождался.








