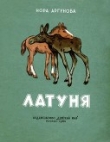Текст книги "Не бойся, это я ! (рассказы)"
Автор книги: Нора Аргунова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
До Тиши я никогда не видела сурков. Только слыхала о них. В нашей квартире жил когда-то Валя, худенький мальчик с белыми мягкими волосами. К нему ходил Славик – крепыш, немного полноватый, смешливый и живой парнишка. У Вали было пианино, и часто они вдвоём что-то там подбирали, а я часами дожидалась у двери: им было по двенадцать лет, а мне – шесть. Помню, как один раз открылась дверь, выглянул Валя и сказал:
– Стоит. Пустим давай?
Славик ответил что-то из комнаты, оба рассмеялись. Мне велели влезть на диван. Валя сел за пианино. Ребята запели:
Из края в край вперёд иду,
И мой сурок со мною...
Под вечер кров себе найду,
И мой сурок со мною.
Не знаю, что именно поразило меня тогда и в певцах и в песне, но поразило так, что осталось в памяти навсегда. Валя потом погиб на фронте, а Слава, говорят, живёт в Москве – может быть, он прочтёт эти строчки, припомнит тот концерт. Много раз потом я слыхала её, беспечную и грустную песню Бетховена – песенку савояра*. И задумывалась, что это за зверь, к которому так привязывается человек, с которым бродит из края в край, зарабатывая на хлеб и делясь последним куском. Человек играет на шарманке, сурок танцует под музыку и вытаскивает билеты на счастье; вытаскивает не зубами, наверное рукой – теперь-то мне известно, какая у сурка ручка: он умеет сжимать в кулаке хлеб и, когда я его ношу, держится за мой палец.
______________
* Савояр (франц.) – житель Савойи, странствующий с учёным сурком и с шарманкой.
...Тишка съедал хлеб, немного орехов или семечек, отгрызал яблока и втягивал в себя, словно макаронину, стрелку зелёного лука. Сытый, он не прочь поиграть. Он шёл в наступление, встав на дыбы, разинув узкий роток с мощными резцами: "У-у-у!"
Я толкала его, он мягко валился на спину, показывая заросший золотистой шерстью живот, щипался, похватывал небольно зубами, урчал, лепетал, перекатывался с боку на бок. Честное слово, с ним бывало весело, я смеялась до слёз – до того комичный был зверь! И как обидно, что никто, кроме меня, не мог этого видеть! Самое милое в Тише скрыто от посторонних. Он никогда не играл при чужих, он их боялся. Тишка поглядывал на гостей издали, сидел, уткнувшись в пол, приняв странную позу то ли задумчивости, то ли дремоты. Но когда пытались приблизиться, он удирал. Он признавал только меня. Правда, помнил и того человека, своего прежнего хозяина, который его принёс. Когда человек этот через полгода появился, сурок узнал его тотчас. Но баловался и нежничал Тишка только со мной.
Наевшись и поиграв, предоставленный самому себе, сурок брёл, глазея по сторонам, выискивая, чего бы такое поделать. Он прекрасно знал, что делать можно, а что запрещено. Открывать стенной шкаф, влезать, вышвыривать обувь, сотворяя кавардак, – нельзя. И он останавливался перед шкафом, выжидал, косясь зорким чёрным глазом. Я молчала. Тогда он зубами подцеплял снизу дверцы, распахивал их...
– Ты что делаешь? Тебе кто позволил? Разве хорошие сурки так поступают? Так плохие сурки поступают, – говорила, говорила я бог знает что, потому что Тишку даже ругать было весело.
Тишка вываливался из шкафа, недовольно сощурясь, опустив повинную голову, ждал, когда утихнет гроза. Утихало – он направлялся в тот угол коридора, где всё ему дозволялось. Отодвигал чемодан, собирал в ком половик и втискивал, втрамбовывал половик в щель между чемоданом и стеной; приволакивал пылесос, приносил резиновые сапоги и среди этой неразберихи (неразбериха для нас – для него временный беспорядок строительства!) расхаживал неторопливо, осматривая, подправляя, – коренастый, крепкий, хозяйственный сурок-мужичок.
Наступал поздний час. Я ложилась. Тишка взбирался на тахту, пристраивался поближе, потеснее, подлезал под руку, укладывал голову мне на плечо. Я открывала книгу. Однажды зимой, помню, взвыла сирена; одна, другая пронеслись по улице пожарные машины. Мгновение – и сурок оказался на полу, под креслом. Он смотрел оттуда на меня, и тревожный свист, должно быть далеко слышный в родной Тишиной казахстанской степи, рвался из окна московского дома.
– Опасность! Прячься, народ! – кричал зверь, и было понятно, что кричал мне, потому что здесь его народ – это я.
Когда впервые я услыхала сигнал опасности и вбежала в комнату узнать, что случилось, то увидела влетевшую в окно синицу. Она перепархивала по книжным полкам, а Тишка не спускал с неё глаз. Он был взволнован, но запомнил, что явилась я по его сигналу. С тех пор, если ему надоедало в клетке (хотя у него там имелись осиновая доска, чтобы грызть, втиснутая между прутьями толкушка для картофеля, чтобы подбрасывать, кусок сосновой коры – тоже грызть), если он слышал мои шаги, он издавал свист. И как бы ни была занята, я спешила к нему – разве вытерпишь, когда зверь тебя зовёт!
...Ночь. Тишка засыпал, вздрагивая. У него двигались лапы, помаргивали веки, он причмокивал и вздыхал. Затем впадал в глубокий сон. Он больше не шевелился. Теперь гремите пушки, бейте барабаны – Тишка проснётся далеко не сразу, он спит "как сурок". И я откладывала книгу. Вот в эти минуты иногда приходило в голову, что Тиша принадлежит не мне. Наступит тёплое время, его заберёт хозяин. Я говорила себе, что тот человек – биолог, он любит зверей и умеет обращаться с ними. Что Тишка будет там бегать по траве. Рыть настоящую землю. Для него теперь оборудовали – не в комнате, на воле настоящее логово, где можно заснуть на зиму, а суркам полезны долгие спячки. Я твердила, что Тише у другого будет лучше, чем у меня...
Затихал за окном город. Пора было спать. Как там, в песне?
Мы здесь пробудем до утра,
И мой сурок со мною,
А завтра снова в путь пора...
Я гасила лампу. И ещё некоторое время слышала спокойное Тишкино дыхание.
ДЕТИ
Когда перед тобой море, а сзади скалы до небес, по которым могут взобраться только козы, а на узкой полоске берега ни души, кажется, будто ты первый человек, ступивший на эту землю. Ты её открыл...
Я лежу на чёрном песке, ищу ракушки. Докапываюсь до мокрого песка, где прыгают большие серые блохи. Передвигаюсь, собираю на другом месте. Начинает припекать плечи. Море будто ещё не проснулось – чуть дышит. Если приподняться, увидишь извилистую дорожку на белёсой воде. Будто прошёл кто-то ночью от берега до горизонта.
По воде зашлёпали вёсла. Отрываюсь от песка – а это дельфины! Два дельфина. Так близко, что видно, как блестят их чёрные спины и какие у них яркие белые животы.
Один выскочил из воды; и только упал, как выскочил второй. Этот как прянет вверх, да как животом об воду даст – только брызги да волны!
А ведь они умеют нырять аккуратно, я видела с парохода.
Сначала один взлетал, а другой, наверное, из моря глядел, насколько тот высоко прыгнет, и старался прыгнуть ещё выше. Потом мне показалось, что не в том дело, кто выше, а кто больше брызг поднимет. Дельфин упадёт – и пена с брызгами стеной встаёт. Другой животом плюхнется – так под ним море расступается и брызги до неба. И уже не по очереди, а всё быстрее, быстрее, и врозь, и вместе, и – шмяк!.. и – трах!.. – ни спин, ни животов, водоворот сплошной, словно с ума посходили. Толкаются даже. Или мне показалось? Как мальчишки!
И вмиг надоело им или они устали, – чинно уходят, удаляются от берега, плавно скользят и ныряют покатые спины. Я смотрю дельфинам вслед, озадаченная. Вот ушли в глубину – и нет их. Только голубая дорожка по-прежнему лежит на парной воде...
Кто сильнее брызнет – так ведь только люди могут играть. Только человеческие дети?
Много лет я ломала голову над тем, почему дельфины вели себя тогда совершенно как люди.
И только став взрослой, узнала, что весь мир ломает голову над этой загадкой...
КТО ТЫ?
А в то утро я побежала на пляж, чтобы рассказать про дельфинов маме.
Среди валунов у берега есть длинная плоская плита, на которой хорошо лежать. Я свернула, прыгая с валуна на валун, и растянулась на плите. Она уже тёплая. У самых моих глаз, между камней, – маленькая прозрачная лагуна. Вода в ней тихонько вздымается и опускается. На песчаном дне лежит солнце.
В лагуне юркие мальки теребят мёртвого краба. Малёк рванул, оторвал кус, отплыл, съел. Круто повернулся, возвращается. Опять рванул энергично, проглотил. И другие дёргают, растаскивают краба.
Из-под камня, на котором я лежу, кто-то высунулся. Изогнулся – не боком, как это делают рыбы, а спиной – и прямо глаза в глаза уставился снизу.
Нас разделяет тонкая плёнка воды. Неизвестное существо так близко, что я вижу внимательные зрачки. Поднялась и тихо опустилась вода в лагуне. Гибкое чёрное тело попятилось под камень, и – никого. Только брошенный краб колышется на дне...
Постой, кто это? Он так приковал меня, что, кроме зрачков, ничего не успела запомнить. Кажется, красное пятнышко где-то у него сбоку. Как он разумно смотрел! Он и сейчас подо мною, наверное. Ни протянуть руку, ни ступить в воду и заглянуть под камень я не смею. Мне становится не по себе.
Бегу на пляж. Мама лежит и читает. Сажусь рядом. Её загорелое плечо лоснится на солнце.
– Ты что? – спрашивает она.
Я молчу.
– Случилось что-нибудь?
Я мотнула головой. Не умею ничего объяснить.
Мы купаемся, и нам не приходит в голову, что, переступая кромку воды, мы переступаем границу другого мира, где живут таинственные существа, которые по-человечески смотрят... Быть может, хотят с нами как-то сблизиться, понять нас. Я уверена, они могут понять, раз их дети затевают такие человеческие игры...
Море зашевелилось, косые мелкие волны покатились на берег. За ними скачет собака. Она припадает на грудь, хватает волну, и пена тает у неё в зубах. Собака лает, оглядывается, прыгает к другому пенистому гребешку, но во рту опять ничего нет.
И возбуждённо, весело, с недоумением ловит новую волну.
СЫНОК
Он родился два месяца назад, но уже многое понимал. Дельфины вообще очень умные, и дети у них рано становятся умными. Он любил мать и боялся свою тётку. Что он, не знает, как надо жить? Он всё знает. А тётка следит за ним сердитыми глазами и то и дело командует:
– Вверх! Быстро!
Когда он был совсем маленький, мать или тётка подплывали под него и спинами выталкивали наружу, чтобы он сделал глоток воздуха. Но теперь-то он соображает сам!..
Последнюю взбучку тётка задала ему только что. Он сосал молоко и, когда насытился, выпустил немного изо рта.
У дельфинов молоко густое, как сливочное масло, оно не расплывается, а остаётся в воде шариком.
Дельфинёнок выпустил шарик, наподдал его носом и устремился за ним. Нагнал, хотел ещё пихнуть, но промазал, проплыл выше. Сливочный шарик заскользил по его животу. Дельфинёнку стало так щекотно, что он замахал плавниками, забил хвостом и вдруг замер, не понимая, что с ним случилось.
А он висел вниз головой!
Откуда-то из глубины на него надвинулась огромная голова, и тётка проскрипела:
– Вверх!
Он и сам чувствовал, что ещё мгновение, он не выдержит и хлебнёт воды. Он помчался, чтобы поскорее выставить из моря нос.
У него было два носа. Один, которым оканчивалось рыльце, не имел ноздрей. Второй, которым он дышал, назывался дыхало и был даже не носом, а лишь ноздрёй, дырочкой, находившейся на макушке.
У дельфинов она помещается на макушке – так им удобнее. В воде дырочка закрывается, а когда дельфин всплывает – она открывается.
Дельфинёнок выставил макушку, сделал выдох, набрал чистого воздуха. Он высунулся побольше и огляделся. Всё кругом было синее и золотое. Синее небо с золотым солнцем и синее, позолоченное море.
Дельфинёнку захотелось увидеть ещё больше. Его хвост затрепетал, и тело, как свечка, встало над водой.
Чайка скользнула с высоты на распластанных крыльях. Дельфинёнок испугался и плюхнулся, подняв брызги. Он ещё не встречался с чайкой и с любопытством следил за ней.
Она села неподалёку на воду. Снизу ему были видны её лапы с коготками и серебряное брюшко. Она тоже зорко смотрела на него сквозь воду. Над ней закружилась вторая птица. Чайка задрала голову. Дельфинёнок подскочил, боднул её лбом, и она взвилась как ужаленная, вспенив крыльями воду.
После он поел и заснул. Он лежал возле матери. Когда поднималась на воздух она, не просыпаясь, с закрытыми глазами, поднимался и он. Старая тётка расположилась тут же. Она болтала без умолку, поучала маму. Мама задумчиво слушала. Дельфины не читают никаких книг и про жизнь узнают от старших.
У дельфинов есть свой язык, и, конечно, каждый имеет своё имя. И у Дельфинёнка оно было. Если произнести его на дельфиньем языке, люди ничего не поймут. Они услышат странный щелчок с присвистом, который неизвестно что означает. Ведь ещё никто не изучил дельфинью речь. Несомненно, щелчок с присвистом можно перевести на человеческий язык, и тогда получится "Серёжа". Или "Федя".
И у его мамы было имя. Если кто-нибудь звал её, выходило так, будто на кипящем чайнике подпрыгивает крышка:
– Тр! Тр! Тр!
Людям показался бы резким этот звук, но для дельфиньего уха он был приятным, и возможно, что прыгающая крышка означала не что иное, как нежное имя "Мария".
Когда Дельфинёнок проснулся, он увидел другого дельфинёнка – тот гнался за длинной рыбой-иглой. Дельфины, даже маленькие, двигаются поразительно быстро. Они самые лучшие пловцы в мире. И конечно, тот малыш поймал рыбу. За хвост. А наш схватил её за голову. И они стали тянуть бедную рыбу каждый в свою сторону. Но тут к ним приблизился ещё дельфинёнок, постарше. Это была дельфинёнок-девочка.
Если бы на них посмотрели люди, они не смогли бы разобрать, какая разница между ними тремя – разве что один покрупнее. У всех были тёмные спины, ослепительно белые животы и выпуклый лоб. А между тем рыльце Дельфинёнка было чуть короче, шире и имело наивное, доверчивое выражение. Физиономия того, что держал рыбу за хвост, была острее, зрачки шныряли по сторонам, и всякому сразу становилось ясно, что его мама ещё хлебнёт с ним горя.
А дельфинёнок-девочка обещала превратиться в настоящую красавицу. Она и теперь была хороша со своими особенно ровными зубками и тонким, сильно вытянутым стеблем хвоста с бантом-плавником на конце. Подбородок у неё был выдвинут вперёд, уголки рта постоянно приподняты, и это придавало ей смелое и доброе выражение.
Она приблизилась к дельфинятам, дравшимся из-за рыбины, и уверенно взялась за рыбу-иглу посередине. Но в эту минуту всем троим понадобился воздух. С рыбой во рту они всплыли, погрузились обратно.
Дельфинёнок-девочка только повела очами в сторону одного, другого – и оба робко выпустили иглу.
Держа добычу, дельфинёнок-девочка спокойно двинулась прочь. Дельфиний хвост машет не вправо и влево, как у рыб, а вверх и вниз. Она плыла у самой поверхности и громко пришлёпывала хвостом по воде, что у дельфинов означает хорошее настроение.
Шли дни. Дельфинёнок рос, и уже его умишко работал вовсю. Однажды в расщелине скалы он заметил угря. Он попытался достать рыбу зубами, но щель была узка. Тогда он быстро зашевелил плавниками. Вода забурлила, закружилась: он хотел, чтобы угря вынесло течением. Однако тот залез ещё глубже.
Дельфинёнок остановился и стал думать. Потом всплыл, набрал побольше воздуха и начал стремительно погружаться. Он слышал, как окликает его мать, но шёл и шёл вниз. Уже он различал дно, покрытое лесом мохнатых водорослей, которые сильно колыхались, и величественных рыб, скользящих над этим лесом.
Летя во всю мочь, Дельфинёнок лихорадочно шарил взглядом. Он нашёл то, что искал: среди рыб сновал колючий морской ёрш. Дельфинёнок ухватил ерша, метнулся кверху...
С ершом во рту он направился к скале. Угорь всё сидел там. Дельфинёнок запихнул в расщелину колючего ерша. Угорь не вытерпел, выплыл, извиваясь по-змеиному. Дельфинёнок поймал его. И тут же отпустил. Он вовсе не собирался есть угря. Он выковыривал упрямую рыбину просто так – из озорства.
Между тем недаром раскачивались водоросли на дне: в море начиналось волнение. Дельфины всегда знают заранее, когда приближается волнение, и умеют заранее определить его силу.
Надвигался шторм.
Стая повернула в открытое море, подальше от берегов, – во время бури часто случается, что дельфина калечит о камень или выбрасывает на берег, где без воды он погибает.
Но и в открытом море дельфины не успокоились. Они тревожно переговаривались, следя за своими малышами; как это часто бывает, дети не разделяли беспокойства взрослых. Что плохого может случиться, если старшие рядом?
И чем выше вздымались волны, тем веселее становилось дельфинятам. Не всем, конечно. Некоторые притихли, со страхом жались ко взрослым.
А Дельфинёнок именно в эту минуту изобрёл великолепную игру. Он взбирался на верхушку вала, вместе с водой низвергался вниз, в пропасть, чтобы взлететь опять и снова скатиться с высоты. Когда он оказывался на валу, то видел далеко вокруг потемневшее море с шипящими гребешками. А когда падал, у него обрывалось сердце. Он еле удерживался, чтобы не завизжать!
Внезапно он разглядел, что приближается земля. А он уже понимал, что такое берег для дельфина во время шторма.
Дельфинёнок хотел плыть обратно, но не тут-то было. Его потащило к берегу. Он начал захлёбываться. Он не успевал как следует вздохнуть и бился, и рвался вверх: как и человек, он ие мог жить без воздуха.
Его волокло к земле. Он больше не сопротивлялся.
Вокруг вились смутные тени. Это стая следовала за своим детёнышем, не желая оставлять его в беде. Но что могла поделать стая дельфинов вблизи берега, где вал встаёт, неся в себе обеспамятевшую рыбу, водоросли, камни, и с рёвом рушится, сотрясая землю, скрежеща галькой!
Дельфинёнка втянуло в узкие ворота между двумя скалами. Он очутился в бухте.
На берегу сидели двое – мужчина и мальчик. Они смотрели, как вздымается и опускается вода в бухте и как с той стороны скал, отгородивших бухту, ревёт море, белыми лепёшками взлетает пена и скалы угрожающе гудят.
Вода поднялась, на берег вынесло какой-то предмет. И сразу же поверхность бухты покрылась чёрными гребнями и покатыми блестящими спинами. Они появлялись и ускользали, округлые, будто часть огромных колёс, вертящихся в глубине моря.
Люди подошли к странному морскому существу. Оно лежало на боку. У него были мягкие плавнички и тупое детское рыльце.
– Он мёртвый, – сказал мальчик и, присев на корточки, провёл пальцем по гладкой дельфиньей коже.
Но стоило мальчику дотронуться, как Дельфинёнок изогнул хвост, оттопырил грудной плавник, завозился, силясь перевернуться на живот.
Он издал тонкий, прерывистый свист, и люди отскочили, потому что из моря вылетел большой, красивый дельфин и тяжело упал рядом с маленьким.
Это мать кинулась к сыну.
– И! И! И! И! И! – взывал Дельфинёнок, и один за другим из моря выбросились ещё три дельфина.
Остальные волновались, высовывались из воды, подпрыгивали, пытаясь разглядеть, что творится на берегу, и бухта так и кипела.
Мужчина скинул плащ. Вдвоём с мальчиком они перекатили на плащ большого дельфина и поволокли к воде. Оставили его в море, побежали за вторым. Но первый вылетел на берег снова, прямо к маленькому, который продолжал свистеть. Даже рёв моря за скалами не мог заглушить этот пронзительный, жалобный, хватающий за душу звук.
– Они посходили с ума! – с отчаянием крикнул мальчик, когда и второй дельфин выпрыгнул обратно на берег.
Мужчина опустился на колени возле Дельфинёнка.
– Нужно начинать с малыша, – сказал он, поднимаясь с Дельфинёнком на руках и движением головы откидывая со лба мокрые волосы.
И понёс Дельфинёнка к морю. Он опустил его наполовину в воду и держал так, следя, чтобы вода не попала в дыхало на макушке. Он ждал, когда Дельфинёнок наберётся сил, чтобы плыть. И в то же время глядел, как другие люди, прибежавшие к бухте, перетаскивают в море остальных взрослых дельфинов.
...Море затихало. У берегов оно ещё хранило неприветливый вид, и стая торопилась к горизонту.
Дельфинёнок чувствовал себя превосходно. А его мать сильно ушиблась о камень на берегу, её с обеих сторон поддерживали дельфины.
И тётка выбрасывалась за Дельфинёнком два раза, только она ничуть не ушиблась. Уж теперь-то она не спускала с него глаз!
Он виновато косился на взрослых, которые молча рассекали воду вокруг, работал хвостом, плавниками, на теле у него двигалась кожа – так он старался!
Как назло, он увидел под собой небольшую черепашку. Она несла медузу. И хотя Дельфинёнок не ел медуз, он рванулся к черепахе, выдернул у неё медузу. Тётка не успела глазом моргнуть, как он уже вернулся. Пристроился возле верхнего материнского плавника, как полагается воспитанному дельфинёнку. Потихоньку выплюнул медузу...
А стая уходила всё дальше от опасных берегов. И наконец перешла черту, за которой стоит синяя вода и на синей воде качаются золотые солнечные рыбы.
АГАША
Мой первый сурок Тиша принадлежал другому человеку, и его пришлось отдать. Тишка признавал только меня. При мне он веселился и баловался, чужих боялся, и часто я задумывалась над тем, как он будет жить у настоящего хозяина.
К своему хозяину Тиша относился суховато, и когда его забрали, мне запретили навещать его. Тишка должен забыть меня.
Недели через две я всё-таки отправилась в дачный посёлок, куда увезли Тишку. На калитке висел замок. Дом обнесён глухим забором.
Я увидела сурка в щель. Он разделывался в клетке с ящиком, который служил гнездом, и толстые доски трещали у него на зубах.
– Тиша, – сказала я.
Он прислушался. Я ещё раз сказала:
– Тиша!
Он пронзительно вскрикнул, и этот сигнал тревоги и волнения передался мне, и я полезла на забор, но забор был высоким, без перекладин, даже подпрыгивая, я не могла уцепиться за верхний край. Я стала обходить проклятый забор, разделявший нас, искала место пониже, какой-нибудь сучок, гвоздь, искала камень – я могла в ту минуту подтащить, кажется, утёс, но не было ничего. А изнутри кричал и кричал, звал мой зверь...
Я дала себе зарок никогда больше не заводить животных.
Но довольно скоро мне рассказали, что у одного знакомого живёт маленький сурок – кажется, детёныш. Мой знакомый – человек добрый, но безалаберный, животных никогда не держал, и как он ухаживает за сурком, я не могла себе представить. Я позвонила по телефону.
– Бога ради, приезжайте! – сразу сказал мой знакомый. – Мне страшно нужны советы!
Так я увидела Агашу. Она оказалась молоденькой сурчихой, совершенно голой, голой как коленка. Но такое уж существо сурок, что даже и без меха он привлекателен – ребячески пухлый, с гладкой чистой кожей красивого дымчатого цвета.
У Агаши был авитаминоз.
Начались ежедневные телефонные переговоры. Стояла зима, а сурку нужна зелень – укроп, лук, петрушка. Для этого надо идти на рынок, а хозяину вечно некогда. Он любил Агашу, но я уж говорила, что человек он безалаберный. Кончилось тем, что Агаша переселилась ко мне. Но я помнила тот забор. Для чего давать себе волю, так привязываться к животному, так мучаться потом? Нет уж, с меня хватит.
Агаша обросла светлой пушистой шерстью, и стало заметно, как она не похожа на Тишку. У Тиши было грубоватое мужское лицо, у Агаши черты мелкие, глаза большие, кроткие. И характер оказался другой. Тиша при посторонних бывал угрюмым, только оставаясь со мной он баловался и нежничал, и всей его прелести никто, кроме меня, не знал. Агаша никогда не баловалась и не играла. Зато она любила, когда появлялись гости, и к каждому шла на руки.
Меня Агаша особенно не выделяла. Я уходила – она ложилась спать, я вернусь – она пробуждается, иногда и глаз не откроет, только пробормочет коротко и спит дальше. Тишка, бывало, томился без меня. Стоило вставить в двери ключ, как он уже кричал... Куда спокойнее с Агашей!
На лето у меня была путёвка в подмосковный дом отдыха "Берёзовая роща". Я решила съездить туда, поискать, нельзя ли поселить сурчиху где-нибудь поблизости. Нашлись люди, которые держали кроликов. Клетки с кроликами стояли в саду на дощатых высоких стеллажах, под навесом. Мне разрешили поставить здесь ещё одну клетку. И я с Агашей переехала за город.
Агаша выросла в московской квартире, не помнила ни птиц, ни деревьев, и сначала всё страшило её. Покажется ли хозяйский щенок, пролетит ли синица, ветер пробежит по кронам деревьев – Агаша пугается. Она издаёт режущий уши свист, который разносится далеко вокруг. Думаю, это не доставляло удовольствия хозяевам, особенно самому хозяину, человеку ворчливому и, как я скоро заметила, сильно пьющему. Но они пока молчали. Зато отдыхающие непременно разыскивали меня и говорили:
– Идите скорей, там Агаша свистит на всю улицу!
Я спешила к ней, беспокоясь, что скоро меня попросят отсюда и придётся возвращаться в душный город.
Мне хотелось, чтобы сурчиха побегала по земле, но когда я спустила её с рук, она потеряла голову, метнулась, и я только потому поймала её, что она не успела протиснуться под забором.
Гулять приходилось в нежилой сторожке. Там, в запущенной комнате, имелось низкое окно, два расшатанных табурета и стол, заваленный тряпьём. Помещение достаточно просторное, чтобы Агаше побегать, а уж тряпьё для сурка – находка. Сурки любят спать мягко, и рваные детские майки, рубашки, рукава от вельветовой куртки – незаменимая подстилка для гнезда.
Я приносила Агашу в каморку, закрывала дверь, приставляла к столу табурет, и она вскарабкивалась на табурет, с табурета на стол, заталкивала в рот тряпку, подбирая концы, чтобы не мешались под ногами, спрыгивала и неслась в дальний угол. Перетаскав туда ворох, Агаша принималась за другое. Ловко отпирала дверцу давно нетопленной печки и залезала в неё. Задними ногами вышвыривала какие-то коробки, стружки, мятые газеты, наконец появлялась сама. Она пятилась из печки, повисала и осторожно сползала на животе, и её растопыренные ноги с чёрными узенькими ступнями болтались в воздухе, нащупывая пол.
Она принималась носить в угол хлам из печки, захватывая по дороге траву и ветки, которые я для неё приготовила. А я тем временем сидела у окошка, колола орехи, раскладывала по кормушкам разную снедь, чтобы потом оставить в клетке, или смотрела на Агашу и вспоминала Тишку. Если Агаше случится когда-нибудь попасть в другие руки, полюбят её сразу, спокойно ей будет так же, как и со мной, а у меня не будет болеть сердце.
И я была довольна, что сурчиха деятельна, здорова, во мне не нуждается и особой тонкости отношений у нас нет.
Между тем хозяйка сада, где стояла клетка, не раз уже давала понять, что сурок – животное беспокойное. Вот кролики – другое дело. Кроликов не видно, не слышно, а сурок гремит в клетке, грызёт, надоедает свистом. Заговоришь с ним – он замолкает. Уйдёшь – опять крик. И это действует на нервы.
Прогулки по комнате продолжались. Однажды я заметила, что Агаше надоели обычные занятия, она слоняется в поисках нового дела. Я отодвинула от стола табурет и на самый край – чтобы виднелась снизу – положила на стол её любимую рваную варежку. А сама отошла, села у окна.
Агаша сразу застыла, всматриваясь, соображая. Потом нетерпеливо затопталась на задних лапах. Передние она протягивала вверх, сжимала в кулачки, растопыривала и опять сжимала, и было видно, до чего ей хочется достать варежку.
"Попроси – я помогу", – мысленно сказала я. И сразу одёрнула себя: да разве она обо мне вспомнит! Это не Тишка. И ещё раз одернула: сурки ведь и не способны на такую сообразительность.
Но только это у меня промелькнуло, как Агаша опустилась на все лапы и побежала ко мне. Немного не добежав, она вытянула голову, озабоченно сказала мне: "У, у, у!" – и кинулась обратно.
Я тотчас пошла к столу, вскочила и пошла, а она спешила туда же, путаясь у меня в ногах. Мы действовали до странности согласованно и быстро. Я встала на одно колено, Агаша вскарабкалась на моё колено и на стол, запихала в рот варежку "Случайность, – ошеломлённо думала я, – только случайность".
Агаша помедлила, прыгнула прямо со стола, ударившись о пол зубами, и вихрем понеслась с варежкой в угол. Я положила вторую варежку и ждала, и опять Агаша бежала ко мне, звала, путалась в ногах, взбиралась на стол...
На другой день после завтрака я отправилась не на пляж, а к ней. "Неужели у себя в стае, – думала я по дороге, – она вот так обратилась бы к другому сурку, а он пошёл бы с ней и помог?" Я читала, как лисица бросилась однажды к человеку, спасаясь от погони. Но тут не смерть грозит, тут не паника, при которой совершают невероятное, а именно потрясшая меня обыденность, как если бы мне сказали: "Слушай, ты повыше ростом, достань вон ту вещь".
Я боялась, что Агаша забудет вчерашнее, но вчерашнее повторилось... И мне мало показалось этого, захотелось стать ещё ближе, чего-то посерьёзнее захотелось, поважнее, и я спустилась с высоты своего неудобного роста и села на пол.
Села в том углу, где она складывала своё добро. Когда отодвигала бумажки и тряпки, она протестующе взвизгнула, ударила меня по руке когтистой лапой. Но я всё-таки вторглась, подтянула Агашу к себе, недовольную, раздражённую, и вдохнула сурчиный запах, напомнивший о Тише.
Я придерживала её под мышки. Лапы оставались свободными, она могла оцарапать мне лицо, и я наклонилась, предпочитая подставить под её лапы темя. Агаша сердито таращилась в упор.
Не зная, как расположить её к себе, я по какому-то наитию зубами слегка сжала ей верхнюю губу. И вдруг под моими ладонями перестали нервно напрягаться её мышцы, и Агаша закрыла глаза. Я куснула ещё и остановилась. Она посмотрела. Своими чудовищными резцами, способными крошить доски, взялась за мою верхнюю губу. Я зажмурилась. Она осторожно покусала. Когда она переставала, начинала я, а она молчала, не шевелясь. Я чувствовала на зубах её жёстко торчащие усы, шёрстку между ними и уже определённо знала, что приоткрылось мне сокровенное, звериный знак симпатии, быть может доверия, родственности...
Я начала проводить с Агашей много времени, большую часть дня. Меня уже не оставляла мысль о её благополучии, о том, как она перенесёт зиму. Ей нужна земля. В земле содержатся всякие соли, минеральные вещества. Чего-то Агаше не хватает, не случайно она колупает печку, ест извёстку и сухую глину. Я принялась носить ей землю, песок, свежую глину, куски свежего дёрна с разнообразной травой – с клевером, мышиным горошком, одуванчиком, со стеблями и цветами иван-чая, рвала акацию. И подметала в сторожке каждый вечер перед уходом, чтобы не придрался хозяин. Всё чаще, возвращаясь в дом отдыха, беспокоилась, как бы он не обидел Агашу, этот самодур и пьяница, которого боялись жена и уехавшие в пионерлагерь дети.
Хмурым ветреным утром в саду встретилась хозяйка. Смущённо, но решительно она сказала, чтобы я забирала сурка. Сама бы она ничего, но муж ругается и что ни день, то у них скандалы.