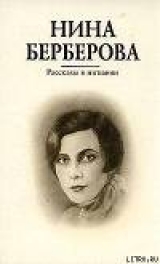
Текст книги "Аккомпаниаторша"
Автор книги: Нина Берберова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
IV
Прошло более двух месяцев, я каждый день бывала у Травиных, я работала с Марией Николаевной, обедала, иногда оставалась вечером играть с Павлом Федоровичем в шашки, но ни «Сени», ни «Андрея Григорьевича Бера» я не видела и о них ничего не слыхала. Дома у меня все шло по прежнему, но я постепенно уходила из старой своей жизни. Мама, ее заботы, ее недомогания оставляли меня безучастной. Митенька переживал свой первый роман с X., в которую по общему мнению, он был влюблен исключительно по инерции она была внучкой известного композитора. Впрочем, X-у Митенька и не думал подражать, а уходил в своих «хоралах» все дальше и собирался даже для их исполнения строить какой-то особенный рояль, с четырьмя клавиатурами. Но довольно о Митеньке. Устроив меня к Травиной, он постепенно исчез из моей жизни, и встретилась я с ним уже в Париже, сравнительно недавно. Но об этом расскажу в свое время.
Других знакомых, которые бы приходили ко мне, с которыми связывала бы меня какая-нибудь теплота, у меня не было. Да и все прежнее казалось мне теперь не стоящим памяти – оно и в самом деле забывалось. Утром я упражнялась, стояла в очередях, топила печку; после завтрака, состоявшего всегда из одного и того же – селедка и каша, я мыла посуду, чистилась, переодевалась в единственное приличное платье и уходила.
Там было тепло. Там меня кормили, говорили, что жизнь трудная, но занимательная штука, иногда что-нибудь дарили. Мария Николаевна, вначале чуть-чуть рассеянная и обязательно-тихая, к семи часам приходила в веселое, деловое настроение. Павел Федорович, иногда вернувшись немного раньше, сидел и слушал нас в углу гостиной. Но чаще мы, как только он приходил, сейчас же садились за стол. Через неделю я уже знала всю их жизнь, и мне было смешно, что в первый день я так волновалась от любопытства и Бог знает еще каких чувств. Павел Федорович служил в одном из тогдашних продовольственных «главков». Все, что ему было нужно, он получал, вплоть до битой птицы и музейных ценностей. Нельзя сказать, чтобы он «наживался» на своей службе, он просто не считал нужным быть слишком щепетильным, любил жить удобно, сладко, сытно, еще два года тому назад он был очень богат, даже как-то невероятно богат, богаче всех, кого я знала, богаче Митенькиных родителей. И теперь, ничего не желая знать, он хотел жить благополучно, если не роскошно, и, как ни странно, это ему удавалось. Главная перемена в их жизни заключалась в том, что они оба постепенно растеряли прежний свой круг и не старались обзавестись новым. Что говорить: кое-кто был расстрелян, кое-кто сидел в тюрьме, многие бежали, другие раззнакомились с ними, считая, что Травин – подлец. Приходили какие-то актеры, родственники, прежние служащие Павла Федоровича – но не это был тот «свет», в котором Мария Николаевна блистала еще недавно.
В начале апреля Мария Николаевна предложила мне переехать к ним. Они готовились к отъезду в Москву, квартира была продана какому-то восточному консулу. Эта последняя неделя в Петербурге прошла для меня как один день. Мне были подарены платья, мне были даны деньги на парикмахера. Мария Николаевна вдруг вторглась в мою жизнь с другого конца: не было вещи, о которой она бы меня не спросила: и в котором часу я встаю, и на каком боку я сплю, и какой цвет мне больше всех идет, и ухаживал ли за мной кто-нибудь, и верю ли я в Бога? Словом, я чувствовала, что внезапно оказалась совершенно незащищенной от нее, что вот-вот она узнает обо мне решительно все, и то, как я отношусь к ней, и что о ней думаю. У нее была такая решительная сила во всем, что она делала, что устоять перед ней было невозможно. Еще минута – в тот вечер (дня за два до отъезда) – я рассказала бы ей о своем происхождении, я бы, может быть, разрыдалась, в таком я была состоянии. И она поняла, что зашла в своих вопросах слишком далеко. (Она, между прочим, спросила меня, люблю ли я кого-нибудь? И я быстро на это сказала: нет, потому что Евгений Иванович был в это время совершенно забыт, от мамы я в эти недели отошла очень далеко, и таким образом, если я кого и любила в ту минуту, то только ее, Марию Николаевну Травину, конечно.) Она поняла, что зашла слишком далеко, и что пора прекратить беседу. Она встала и сказала:
– Пойдем, попоем немножко. Хорошо?
Она могла работать помногу, для нее не существовало ни «состояния», ни «настроения». Она готовилась к концертам в Москве. Накануне отъезда она в последний раз выступила в Петербурге, и это был день первого моего выступления вместе с ней.
Десятки раз после этого я выходила с ней на эстраду, но так никогда и не знала, как кланяться, куда смотреть, улыбаться ли на аплодисменты и в скольких шагах выходить за ней? Я проходила быстро, как тень, не глядя в публику, я садилась опустив глаза, клала руки. А она раздавала свои улыбки и взгляды так, словно и не думала ни о чем, а только: «Вот я. Вот вы. Хотите послушать? Сейчас вам спою. Какая радость доставить вам удовольствие!».
Так, мне кажется, я читала ее мысли тогда, в Петербурге, в то время, как она уже стояла передо мной в круглом выгибе рояля. «Сонечка!» – шепнула она, и я поняла, во-первых, что надо начинать, а во-вторых, что она – певица, а я – аккомпаниаторша, что концерт этот – ее концерт, а не «наш», как она говорила, что слава – для нее, что счастье – для нее, что меня кто-то обманул, обмерил, обвесил, что я оставлена в дурах Богом и судьбой.
Огромный зал был полон. Молодежь в антракте ломилась в артистическую, где нас окружил весь цвет консерватории и Мариинского театра. Я стояла молча, время от времени Мария Николаевна знакомила меня с подходившими, большинство из них я знала, но говорить мне с ними казалось неприличным, да и не о чем было мне говорить. Кто-то похвалил меня, переспросив мою фамилию, но тут подошел Павел Федорович, и все сразу засмеялись чему-то, заговорили.
– Сонечка, где-то мой платок, – шепнула мне Мария Николаевна, делая испуганные глаза, – что-то в носу как будто сыро.
И я понятливо заискала платок, и нашла его под стулом, и подала ей.
Мама была тут же. У нее было счастливое лицо, чуть покрасневший от умиления нос. Она успела шепнуть мне:
– Первый твой триумф, Сонечка!
Я удивленно взглянула на нее – нет, она не смеялась надо мной.
Оттого, что часы были переставлены вперед на три часа, оттого, что стоял апрель, ночь была совсем светлой; мы вернулись домой в первом часу. Я слушала, как Павел Федорович ужинал один в столовой, стоя у буфета, я слышала, как Мария Николаевна позвонила кому-то по телефону. Ночью можно было соединяться с трудом. Ей долго не давали номер. Потом она говорила – очень тихо, очень тихо. Я не двигалась у себя. Я могла приложить ухо к двери и услышать каждое слово, но я не двигалась, я сидела на постели. Какое мне дело, что у нее любовник или два? Пусть Павел Федорович убьет ее или их, или она сама над собой что-нибудь сделает. Я, я-то что буду в жизни делать? Я, я то зачем живу на свете?
И вдруг открывается дверь, входит она:
– Вы еще не спите? Дайте я поцелую вас. Спасибо за сегодняшний вечер.
Я беру ее за руку, бормочу: ну, что вы, Мария Николаевна, при чем здесь я?
Она кладет мне в рот чернослив и смеется.
На следующий день в восемь часов вечера мы выехали в Москву.
Мама была на вокзале, и Митенька, и внучка X., и еще человек тридцать полузнакомых или вовсе незнакомых мне людей. Мария Николаевна стояла в окне международного вагона, в белой лайковой шапочке, с белым песцом на плече. Я старалась поймать, на кого из мужчин она чаще всего смотрит, но мама, заплаканная, растерявшая все слова, то и дело становилась между мной и ею.
– Возвращайся, девочка моя, – говорила она, – что-то со всеми нами будет? Мой талантик светлый, будь счастлива! Дай Бог Травиным здоровья, какие они добрые, милые. Будь осторожна, смотри, старайся… Сонечка, моя крошечка…
Я слушала ее лепет и несмотря на то, что половину его не понимала, что-то доходило до меня в те минуты из этих последних слов. «Мамочка, – отвечала я, – все будет хорошо, мамочка, видишь, как уже все хорошо устраивается. И о чем беспокоишься? Не надо беспокоиться. Будь здорова, мамочка». Она плакала, обнимала меня. Прозвонил звонок. Я вскочила на площадку. В это время из толпы провожающих вышел человек в военном френче с нашивками, с лоснящейся у пояса кобурой, сделал два шага за вагоном, крепко пожал свесившуюся руку Павла Федоровича, поцеловал два раза руку Марии Николаевны и взмахнул фуражкой. Все замахали шляпами и платками, даже Митенька. Человек во френче крупным шагом пошел рядом с окном.
– В Москве увидимся, – сказал он.
– Довольно, под поезд попадешь, – ответила она.
– В Москве увидимся, – повторил, словно с угрозой, человек.
Поезд пошел быстрее, он отстал.
– Сеня до того растолстел, – сказал Павел Федорович, обращаясь ко мне, – что скоро бегать разучится.
Мария Николаевна не ответила. Она стояла у окна и смотрела назад. По направлению ее взгляда я видела, что она смотрит не в сторону провожающих, впереди которых размахивал фуражкой Сеня, а куда-то левее, смотрит грустно, долго…
У нас было два смежных купе. В вагоне, кроме нас, ехали какие-то советские сановники, с которыми Павел Федорович, имевший в Москву командировку, сейчас же познакомился. Они сперва выпили у нас, потом – мы у них. Мария Николаевна, кутаясь в большой пестрый платок, продержала одного из них на коленях перед собой около получаса, с полным бокалом вина в руке. У Павла Федоровича шел с другим длинный, увлекательный разговор об охоте, о знаменитой коллекции ружей Карахана, о царской охоте на зубров. Третий, молодой, худенький, с ангельским лицом и большими глазами, непременно требовал, чтобы я выпила с ним на «ты». Мне было страшно, но я сцепилась с ним руками и вытянула свой бокал, после чего он сказал, что поцелует меня. Мне стало еще страшнее. Я поняла, что опьянела и могу влюбиться в него, если он это сделает.
– Я научу тебя целоваться, – говорил он, – ничего, что ты не умеешь, я научу тебя.
Мария Николаевна из другого угла купе сказала:
– Это так быстро не делается.
Он обнял меня, и я почувствовала что-то нежное и влажное во рту.
Ночь летела в окно, кто-то шатался по коридору, кто-то целовал мне руки, без назойливости, очень осторожно; кто-то наконец нежно довел меня до моего купе. Ночь летела в окно. Поезд мчался. Я чувствовала, что это жизнь летит на меня, а я мчусь в нее, в бархатную неизвестность.
V
Сеня приехал в Москву через две недели после нас – я ждала его, как, вероятно, ждут любимого человека. А между тем время бежало круто и решительно вперед, и каждый день московской жизни приносил нечто новое.
Мы остановились у сестры Марии Николаевны, на Спиридоновке; в первом этаже особняка помещалось какое-то учреждение, во втором – жило пятнадцать человек, все своих, родных. Одна я была чужая.
С первого дня нашего приезда начались приходы каких-то развязных господ; они не спрашивали, когда и где будет петь Мария Николаевна, и что будет петь. Они как бы реквизировали ее и приказывали ей, правда, вежливо, но не слушая никаких возражений: то ехать на поданной к крыльцу подводе в Кремль на какой-то раут, то петь в филармонии – и именно тогда-то и то-то, то принять на будущую зиму ангажемент в Большой театр. Павел Федорович, который почти не выходил из дому (командировка его оказалась фиктивной), однажды сказал:
– Не осенью, а сейчас удирать отсюда. Разве можешь ты так жить?
Мария Николаевна посмотрела на него с доверием, и мы поняли, что он начнет завтра доставать фальшивые документы.
Но кроме этой реквизиции, я узнала в Москве и другое: я узнала в полной мере чужую славу, и я даже немного привыкла к ней. Мария Николаевна не отпускала меня от себя. Иногда высылала меня говорить с какими-то требовательными поклонниками, иногда просила съездить куда-нибудь по делу. Помню, на каком-то ужине, после, кажется, второго концерта, она должна была сидеть рядом с Луначарским и в последнюю минуту посадила меня на свое место. Луначарский покраснел, смолчал, но к концу ужина разошелся чрезвычайно:
– Вы девушка или женщина? – спрашивал он меня, дыша на меня вином. – Ответьте, вы девушка или женщина?
Запинаясь, я чистосердечно призналась, что я девушка. Он объявил об этом на весь стол, прослезился и хотел поклониться мне в ноги, но Павел Федорович вовремя вступился.
Чужая слава, чужая красота, чужое счастье окружали меня, и самое для меня трудное было то, что я знала, что они заслужены, что если бы я находилась не у рояля, на эстраде, где меня не замечали, не где-то за Марией Николаевной в артистической, а в той толпе, которая хлопала ей или выбегала за ней к подъезду, я бы сама так же восторженно смотрела на Травину, так же бы хотела говорить с ней, дотронуться до ее руки, увидеть ее улыбку. Но сейчас я мечтала только об одном – найти слабое место этой сильной женщины, получить возможность, когда мне станет невмоготу оставаться ее тенью, распорядиться ее жизнью.
Отношения ее с Павлом Федоровичем много раз удивляли меня – несмотря на то, что у нее несомненно была какая-то тайна, они были безоблачны. Он любил ее так, как только можно любить. Они были женаты шесть лет. Каждое слово, каждая мысль ее были для него выше суда, она была всей его жизнью. И она отвечала ему полной мерой. А я ждала Сеню, чтобы поймать ее в обмане. И Сеня приехал однажды утром, прямо к нам – с поезда.
– Сними фуражку, что за хамская привычка входить в комнату в фуражке, – сказала она, перетирая полотенцем только что вымытые волосы. – Ну что в Питере?
Я вышла из комнаты и остановилась за дверью. Но разговор сразу стал тихим. Два раза звякнули Сенины шпоры. Когда пришел Павел Федорович, я, едва скрывая свое волнение, сказала ему, что у Марии Николаевны кто-то сидит.
Он заглянул в щелку двери и опять ее закрыл.
– Там какое-то галифе, – сказал он мне. – Это, наверное, Сеня. Приехал-таки дурак! Ну, пусть объяснится.
Мы посидели в детской, где не было никого. Прошло полчаса. Павел Федорович показывал мне какие-то бумаги и просил запомнить новые имена, под которыми мы тронемся на юг на будущей неделе. Я волновалась ужасно, и мне было странно, что он совершенно спокоен. Внезапно в переднюю вышли. Слышно было, как вышли двое, но ни Мария Николаевна, ни ее гость не произнесли ни единого слова. Сеня рванул входную дверь.
– У него все-таки были какие-то сумасшедшие надежды, – сказала Мария Николаевна, входя к нам. – Как тяжело это. Пятнадцать лет верной дружбы: веселый, неглупый человек. Потеряла я его.
И она села. Павел Федорович спросил:
– Но ты не была груба?
– Немножко, – ответила она и, облокотившись на руку, задумалась.
Я стояла у окна, вытянув руки по швам. Я хотела кинуться к ним обоим, просить, чтобы они меня прогнали от себя.
– А у меня новости, капитальные новости, – заговорил Павел Федорович, – все готово, и я думаю, что мы скоро двинемся.
Мария Николаевна подняла голову.
– Постылая Москва, – сказала она. – На север, на юг – все равно куда, только бы вон.
И через пять дней мы тронулись в путь.
Наше путешествие было таинственно и опасно, оно стоило много денег и драгоценностей и длилось около месяца – но даже всеми своими исключительными минутами оно было слишком похоже на другие такие путешествия, и если нам во время нашего странствования казалось, что только нам на долю выпало ловить на себе паразитов, быть обкраденными до нитки, прятаться в теплушке, уцелевшей на развороченных динамитом путях, то по приезде в Ростов мы узнали, что десятки, сотни людей испытали то же, что и мы, и в общей веселой и обильной жизни никто уже не вспоминает об этом. У нас теперь был аппартамент в гостинице. Павел Федорович в несколько дней сделал какое-то почти миллионное дело, Мария Николаевна занималась, выступала, блистала. А я… я была в первый раз в жизни влюблена. Мы ходили к Филиппову есть пирожные. Ему было восемнадцать лет, он был на первом курсе, и его глупость умиляла меня до слез.
Тут было все, и «если я уйду на войну, вы будете плакать?», и «я слишком много в жизни пережил, чтобы не понимать…», и «если вы не можете мне подчиниться до конца, то скажите прямо» – бесконечно-сладкие и совершенно пустые слова, от которых я впадала в счастливое оцепенение.
Дома я скрывала свое знакомство. Я старалась быть такой же исполнительной и покорной. Каждый день Мария Николаевна занималась: были выступления – преимущественно благотворительные; здесь опять был тот успех, который окружал ее всюду, как воздух. А я думала о том, что мы с моим первокурсником поженимся, и я брошу Травиных – без предупреждения, без прощания – начну свою жизнь, рожу ребенка, брошу музыку, сыгравшую со мной такую жестокую шутку. И этими мыслями была счастлива.
– Сонечка, сядьте сюда, – сказала мне однажды Мария Николаевна, – ведь вы – мой дружок, а потому я могу с вами говорить откровенно?
– Да, Мария Николаевна, – и я села, куда она приказывала.
– Посмотрите на меня. У вас последнее время глаза стали другими: какие-то твердые… Бросьте вы своего мальчишку. Он очень смешной.
Я похолодела.
– Пусть бы молод был, или глуп, или некрасив, или еще что. А ведь ваш – просто смешной. Бог его знает, а без смеха на него смотреть невозможно.
– Откуда… вы знаете?
– Да и знать нечего. Ну неужели это любовь?
– Мы поженимся, – выжала я.
– Не может быть! Ну уж это совсем анекдот. Ведь он телеграфистом будет.
– Почему телеграфистом? Он на юридическом.
– Это ничего, а будет все-таки телеграфистом. И всю жизнь у него будут болеть зубы.
(У него, действительно, недавно был флюс.)
– …и когда вы будете с ним гулять под ручку…
– Мария Николаевна, не надо!
– Почему не надо? Это – жизнь. Божий мир устроен прекрасно, ведь правда?
Я сидела и молчала. Лучше бы она сказала: «Я запрещаю вам путаться с этим молокососом» или что-нибудь в этом роде. Да, по сравнению с ней, все люди были жалки и смешны.
– И потом, вы знаете, мы скоро уедем.
– Куда?
Она подошла ко мне, положила мне руку на плечо и посмотрела – не на меня, на свою руку.
– За-гра-ни-цу, – сказала она едва слышно, будто стены могли ее услышать.
И вот первокурсника своего я больше не видела. Я вдруг поняла, что история с ним – отступление от главной линии, взятой мною еще в Петербурге, я поняла, что, кроме Травиных, в моей жизни не должно быть никого. И опять я начала приглядываться, прислушиваться к ним, но ничего из того, что мне надо было, не доходило до меня.
Мы, действительно, осенью выехали из Ростова, и через Новороссийск прибыли в Константинополь. Павел Федорович делал нашу жизнь легкой и беспечной, – это второе путешествие было безопаснее и проще первого, но кочевая жизнь моя должна была кончиться только весной 1920 года, ровно год продолжалась она и того, чего я ожидала от нее, не принесла мне. Я сжилась с Травиными, я стала членом их семьи, я была первой слушательницей Марии Николаевны и в то же время ее слугой. И за ней, и за Павлом Федоровичем постепенно и окончательно рассеялся дым какого-то неблагополучия и тайны, который так долго меня беспокоил, но я знала, что настанет день, он сгустится снова, и я узнаю все, что так хочу знать.
Итак, весной 1920 года закончилось наше третье путешествие – мы были в Париже.
Помню, шел дождь, был вечер, я смотрела в окно автомобиля на улицы, на пешеходов – я сидела на переднем сиденье, против Травиных. У Марии Николаевны был усталый вид. Помню свои сны в номере отеля «Режина», первые дни, портрет Марии Николаевны в «Пти паризьен»… Помню все это отчетливо, как будто это было вчера. А жизнь опять, в который раз за этот год, начиналась сызнова, буйная, пестрая и щедрая, нашлись прежние знакомые Травиных, были выезды, вечера, рестораны. Пришло лето – Мария Николаевна уехала в горы, Павел Федорович вскоре уехал за ней. Я слонялась по городу, смотрела могилу Наполеона, церкви, денег у меня было вдосталь. Потом и меня выписали на юг. Вернулись мы в сентябре, и сейчас же закипела работа. Павел Федорович пустился в дела, Мария Николаевна стала готовиться к концертам. Появился антрепренер – акула и пройдоха, но очаровательный человек, с анекдотами, комплиментами, всевозможными услугами… Наступала осень…
В тот день, когда это случилось, я была одна дома. У нас уже была квартира. Травины куда-то уехали завтракать, прислуга была отпущена.
У двери позвонили.
Я разбирала что-то на рояле и, совершенно не думая, кто бы это мог быть, пошла и открыла.
Вошел высокий, очень высокий, еще молодой человек, в мягкой шляпе и пальто, хоть и хорошем, но уже сильно потертом. В руках у него была старая, немодная трость.
Дверь в гостиную была открыта. Я увидела, что он темнорус, что у него прямой, длинный нос и небольшие усы. Глаза его смотрели нерадостно.
– Мария Николаевна Травина здесь живет? – спросил он.
– Да.
– Она дома?
– Нет, ее нет.
Он облегченно вздохнул.
– Она, может быть, скоро вернется?
Я догадалась, что он принимает меня за прислугу.
– Не думаю.
– А Павел Федорович?
– Он вышел тоже.
– Они вернутся вместе?
– Кажется, да.
Он помолчал. Потом вынул из кармана бумажку, карандаш, что-то написал.
– Вот мой номер телефона, – сказал он, – возьмите. Передайте ей, – он подчеркнул «ей», – передайте, что приходил Бер, Андрей Григорьевич Бер. Не забудете?
И он сунул мне в руку два франка.
Я взяла деньги, поблагодарила и сказала со всей убедительностью, как только могла: «Нет, не забуду, будьте покойны».
А когда он ушел, я села тут же в передней на бархатный табурет и заплакала.








