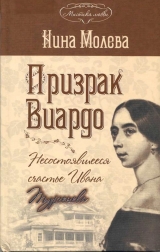
Текст книги "Призрак Виардо. Несостоявшееся счастье Ивана Тургенева"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Настоящий москвич – явление общественное
Слова, сказанные в среде друзей Михаила Александровича Бакунина, как нельзя точнее определяли душевное расположение молодого Тургенева. В отличие от Пушкина, Лермонтова, Вяземского, Дениса Давыдова или Бестужева-Марлинского он, несмотря на принадлежность к древнему и заслуженному роду, не хочет входить в быт аристократической среды. Он, как вечный студент, типичный «бурш» тех лет, сохраняет связи только с теми, кто ему близок по взглядам, увлечениям философией, философскому осмыслению истории. Никаких балов, раутов, светских приемов.
Его близкий приятель – Грановский, ушедший из жизни в 1855 году. Некролог для «Современника» Тургенев предваряет не переведенной на русский язык строкой из Шиллера: «И мертвые должны жить». Писатель познакомился с покойным в Петербургском университете, встречался в Берлине в кружке Н. В. Станкевича, «познакомился окончательно», по его собственным словам, в Москве: «Чуждый педантизма, исполненный пленительного добродушия, он уже тогда внушал то невольное уважение к себе, которое столь многие потом испытали. От него веяло чем-то возвышенно-чистым; ему было дано (редкое и благодатное свойство) не убежденьями, не доводами, а собственной душевной красотой возбуждать прекрасное в душе другого; он был идеалист в лучшем смысле этого слова, – идеалист не в одиночку. Он имел точно право сказать: «ничто человеческое мне не чуждо», и потому его не чуждалось ничто человеческое.
Но это юношеские впечатления. Теперь «потеря его принадлежит к числу общественных потерь, и отзовется горьким недоумением и скорбью во многих сердцах по всей России… Всякое общее чувство, даже скорбное, связуя людей, возвышает их. Для душ молодых, еще не искушенных, не истомленных «плоской незначительностью» житейских дрязг, такие ощущения особенно благотворны; под наитием их сердце крепнет, и семена будущих добрых дел и доблестных поступков зреют в нем… Дай бог, чтобы мы научились хотя эту пользу извлекать из наших утрат! Тургенев напоминает о недавней смерти Гоголя, отклик на которую стоил ему тюремного заключения, а затем ссылки в Спасское-Лутовиново.
Тургенев бывал у Грановского на всех его многочисленных квартирах, начиная с 1840-х годов, когда начавший преподавать в Московском университете всеобщую историю молодой профессор собирал у себя всю ученую Москву в доме № 32 по Трубной улице. То, что здесь постоянно собираются А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. П. Боткин, профессора Ф. И. Буслаев, Д. М. Перевощиков, С. М. Соловьев, писатели В. Г. Белинский, Н. В. Гоголь, наконец, Тургенев, не спасло дом от коренной перестройки. По словам Герцена, «влияние Грановского на университет и на все молодое поколение было огромное… Грановский думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду».
В середине 1840-х годов Грановский переезжает на той же Трубной улице в дом своего тестя, профессора Б. К. Мильгаузена (№ 37). Это время, о котором ученый замечает: «В прошлом году на меня делали три раза доносы, как на человека, опасного для государства и религии». В конце сороковых годов Грановский некоторое время живет в доме № 4 по Хлебному переулку, после чего перебирается к В. П. Боткину в Петроверигский переулок (№ 4). Последней квартирой профессора становится дом № 10 по Малому Харитоньевскому переулку. Тургеневу был знаком его владелец, приятель Грановского, издатель «Магазина землеведения и путешествий» Н. Г. Фролов.
Тургенев – постоянный посетитель литературного салона племянницы В. А. Жуковского Авдотьи Елагиной, матери братьев Петра и Ивана Киреевских. В пушкинские, совсем еще близкие, годы, современники отзывались о нем, что салон «был средоточием и сборным местом всей русской интеллигенции, всего, что было… самого просвещенного, литературно и научно образованного». В «Республике у Красных ворот» (Хоромный тупик, 4) дух Пушкина ощущался удивительно живо, «редкий магнетизм души поэта» Тургенев особенно переживал. Иван Киреевский, публицист и высоко ценимый Пушкиным критик, сотрудничал в «Московском вестнике» и был издателем журнала «Европеец», закрытого цензурой. Петр Киреевский, литератор, переводчик, известен как собиратель русских народных песен. По словам П. И. Бартенева, «Пушкин с великой радостью смотрел на труды Киреевского, перебирал с ним его собрание, много читал из собранных им песен и обнаруживал самое близкое знакомство с этим предметом». Дважды в салоне Елагиной Тургеневу удается увидеть Гоголя, но настоящее их личное знакомство произойдет позже. Впрочем, сам Иван Сергеевич считал, что в те ранние годы еще не заслужил подобной чести.
Знакомство состоялось усилиями М. С. Щепкина 20 октября 1851 года на квартире Толстых, снимавших дом покойного Талызина на Никитском бульваре. Радость встречи не помешала Тургеневу обратить внимание на произошедшие в Гоголе перемены. Его оживление, веселый приветливый разговор не могли скрыть внутренней подавленности. Более того. По выражению Тургенева, «он казался худым и испитым человеком».
Память об этом случае бережно сохранилась в семье «папаши Щепкина». Внучка великого актера Марфа Вячеславовна Щепкина, один из редких специалистов по древнерусской книге, рассказывала о нем особенно подробно. На рубеже 1850-х годов Михаила Семенович буквально не расставался с приехавшим на похороны матери Тургеневым. Для него Иван Сергеевич был не столько приобретавшим все большую известность писателем, сколько драматургом, с невероятным успехом представшим на московской сцене. «Папаша Щепкин» знакомит Тургенева со всем актерским миром, вводит в дома литераторов – а где только он не был своим человеком и желанным гостем! – но труднее всего ему достается знакомство Ивана Сергеевича с Гоголем. Щепкину оставалось только удивляться, насколько скромным и стеснительным Тургенев оказался в отношении обожаемого им Гоголя.
Но наконец напор актера победил, и Щепкин самолично приводит Тургенева в усадьбу Талызиных. Первое впечатление от толчеи плотно застроенного двора, где прямо напротив окон парадной анфилады барского дома размещались кухня, конюшня, людская, да что там – коровник! – а посередине, где в наши дни старательно укрывается памятник работы Николая Андреева, и вовсе колодец с настоящим «журавлем». От экипажей, разворачивающихся прямо у окон гоголевской половины. От низкой каменной аркады, поддерживающей широкий балкон второго этажа. От низких парадных дверей, раскрывавшихся в просторный вестибюль – сени, как было принято говорить, с широкой лестницей на парадный этаж.
Впрочем, парадная лестница Гоголя не касалась. Его комнатки были тут же, по правой руке от входа. Большой ларь для верхней одежды стоял по другую сторону от входа, так что идя к Гоголю, можно было раздеваться или сбрасывать одежду прямо в его приемной, где обычно прятался за спинкой дивана его единственный служитель – паренек с Украины. Щепкин давно заметил, как стеснялся Николай Васильевич хозяйской прислуги, как старался обходиться без ее услуг: ведь денег на обязательные чаевые у него никогда не было. Поэтому многочисленные гоголевские гости сразу же сворачивали к его дверям, и на их стук отзывался голос хозяина.
Только на этот раз все получилось иначе. Гоголь будто ждал Тургенева, пошел ему навстречу и притом со словами, которые окончательно смутили Ивана Сергеевича: «Нам с вами давно следовало быть знакомыми!» В завязавшемся очень непринужденном разговоре Тургенев спросил, как надолго Николай Васильевич намеревается задержаться в Москве. Гоголь улыбнулся: «Если Бог даст, навсегда. Так что можете отныне почитать меня таким же москвичом, как и вы». Москвич? Тургенев будто бы смутился, но на обратном пути с Никитского бульвара на Остоженку сказал Щепкину: «Вообразите, я впервые задумался, как себя определять: москвич или… Нет-нет, конечно же, это мой самый родной город». – «Да и так уж давным-давно себя выдали, – рассмеялся Щепкин, – вон сколько жемчужинок-бисеринок по всем страницам просыпали. Каждый раз прочтешь, и на сердце теплеет».
«…Помнится, однажды, поздней ночью, в Москве, я подошел к решетчатому окну старенькой церкви и прислонился к неровному стеклу. Было темно под низкими сводами – позабытая лампадка едва теплилась красным огоньком перед древним образом – и смутно виделись одни только губы святого лика – строгие, скорбные; угрюмый мрак надвигался кругом и, казалось, готовился подавить своею глухою тяжестью слабый луч ненужного света… И в сердце моем – теперь такой же свет и такой же мрак». Это уже в поздние годы, а раньше: «Николай Иванович Тургенев родился в Симбирске, где и провел первое свое детство, но воспитывался в Москве, на Маросейке, в доме, принадлежавшем его семейству (ныне этот дом собственность гг. Боткиных)». Или: «Сколько раз описывала мне Маланья Павловна свою свадьбу в церкви Вознесенья, что на Арбате – такая хорошая церковь! – и как вся Москва тут присутствовала… давка была какая! ужасти! Экипажи цугом, золотые кареты, скороходы… один скороход графа Завадовского даже под колесо попал! И венчал нас сам архиерей – и предику какую сказал! все плакали – куда я ни посмотрю – все слезы, слезы… а у генерал-губернатора лошади были тигровой масти… И сколько цветов, цветов нанесли!.. Завалили цветами! И как по этому случаю один иностранец, богатый-пребогатый, от любви застрелился – и как Орлов тут же присутствовал… И приблизившись к Алексею Сергеевичу, поздравил его и назвал его счастливчиком… Счастливчик, мол, ты, брат губошлеп! И как, в ответ на эти слова, Алексей Сергеевич так чудесно поклонился и махнул плюмажем шляпы прямо по полу слева направо… Дескать, ваше сиятельство, теперь между вами и моей супругой есть черта, которую вы не преступите! – И Орлов, Алексей Григорьевич, тотчас понял и похвалил. – О, это был такой человек! такой человек!»
А сколько «симпатичных уголков» старой столицы мелькало в разговорах Тургенева, не говоря о его повестях. «Клара Милич» начинается с того, что «весной 1878 года, проживал в Москве, в небольшом деревянном домике на Шаболовке – молодой человек, лет двадцати пяти, по имени Яков Аратов… Несколько лет тому назад, отец его, небогатый дворянчик Т…ской губернии, переехал в Москву. Покинул деревню, в которой они все до тех пор постоянно жили, старик Аратов поселился в столице с целью поместить сына в университет, к которому сам его подготовил; купил за бесценок домик в одной из отдаленных улиц и устроился в нем со всеми своими книгами и «препаратами». А книг и «препаратов» у него было много – ибо человек он был не лишенный учености…»
В «Дворянском гнезде» тесть Лаврецкого, Павел Петрович Коробьев, «скрепя сердце решился переехать в Москву из Петербурга на дешевые хлеба, нанял в Старой Конюшенной крошечный, низенький дом с саженным гербом на крыше, и зажил московским отставным генералом, тратя 2750 рублей в год.
Москва – город хлебосольный, рада принимать встречных и поперечных, а генералов и подавно; грузная, но не без военной выправки, фигура Павла Петровича скоро стала появляться в лучших московских гостиных».
Тургенев открывает двери литературно-музыкальных утренников, которыми одно время так увлекалась Москва: «Большая зала в частном доме на Остоженке уже наполовину была полна посетителями, когда Аратов с Купфером прибыли туда. В этой зале давались иногда театральные представления, но на этот раз не было видно ни декораций, ни занавеса. Учредители «утра» ограничились тем, что воздвигли на одном конце эстраду, поставили на ней фортепьяно, пару пюпитров, несколько стульев, стол с графином воды и стакан – да завесили красным сукном дверь, которая вела в комнату, предоставленную артистам… Публика была, что называется, разношерстная: все больше молодые люди из учебных заведений. Купфер, как один из распорядителей, с белым бантом на обшлаге фрака, суетился и хлопотал изо всех сил…»
И давняя мечта Ивана Сергеевича – жить на Арбате, которую он смог осуществить для героев своей «Первой любви». После раскрывшегося романа отца с княжной Зинаидой мать решает немедленно вернуться с дачи в Москву, где их ждет «дом на Арбате».
Только в жизни связи Тургенева с Москвой складывались иначе. Просто она всю жизнь оставалась миром его героев, очень своим, во всех мелочах знакомым, вымечтанным для собственного гнезда, которое так и не появилось в его жизни.
По выражению Тургенева, это была одна из самых живых московских связей – «папаша Щепкин», всеобщий любимец и предмет всеобщего восхищения. Тургенев и не заметил, как оказался втянутым в орбиту его знакомств и театральных интересов, да еще – Щепкин не преминул при случае упомянуть – их свела судьба в соседних домах. В то время, когда тургеневская семья занимала валуевскую усадьбу, Щепкин приобрел первый и самый любимый свой дом в том же Большом Спасском (или Большом Каретном) переулке, № 16. С 1830 года в уютном, но и вместительном деревянном особнячке с мезонином и пристройками располагается все его «актерское хозяйство».
Дом утопал в кустах какой-то необыкновенной лиловой «до черноты» сирени. У крыльца цвел раскидистый жасмин. Клумбу посередине двора венчали в середине огромные подсолнухи. Экипажи подъезжали по ярко-зеленой не боявшейся тяжести колес куриной слепоте. Огромный добродушный пес больше крутился в комнатах, чем изображал сторожа около исправной собачьей будки. Из кухни за домом нет-нет да долетали обеденным временем запахи «превкуснейшего борща». Двери на крыльцо не запирались. Отвором стояли они в ближайший к прихожей зал, служивший обычно столовой, где за столом собиралось не меньше двадцати, а то и тридцати человек. Много детей было у самого Щепкина, не меньше знакомцев искало у него защиты и крова. Больше всего заботился Михаила Семенович о добиравшихся до столицы провинциальных актерах, искавших работы и антрепренеров. Помогал, чем мог, и никогда не отказывал в еде. Это далеко не всегда было по нраву его супруге, но податливый во всем, здесь «папаша Щепкин» был непоколебим. Повторял часто и убежденно: самый великий грех отказать товарищу в куске хлеба.
Таким увидел дом в Спасском переулке Пушкин, таким он открылся в 1832 году Гоголю. Мучительно застенчивый, не знавший в столице никого, кроме Михаила Петровича Погодина. Здесь Гоголь единственный раз решился приехать один, без предупреждения, да еще войти к обеденному столу с веселой украинской песней:
Ходит гарбуз по городу,
Пытается своего роду:
«Ой, чи живы, чи здоровы
Уси родичи гарбузовы…»
Узнав имя нежданного гостя, Щепкин и все присутствующие были в полном восторге. И это восторженное отношение к писателю великий актер сохранил до конца своих дней. Впрочем, заочное знакомство с Тургеневым у Щепкина к моменту их встречи уже состоялось. Достаточно сказать, что один из его сыновей был женат на сестре Станкевича Александре Владимировне. Но теперь к тому же перед Щепкиным был автор вымечтанных, а может быть, совсем неожиданных, но отвечавших его творческой сущности ролей. Когда-то Герцен говорил, что Щепкин первым стал «нетеатральным на русской сцене». Именно этой психологической направленности театра отвечали тургеневские пьесы.
В свой бенефис 25 января 1850 года, в Большом театре, Щепкин ставит тургеневскую комедию «Холостяк». Это первый сценический опыт Ивана Сергеевича. В следующий сезон, 18 января 1851 года, в том же Большом театре Щепкин выбирает для своего бенефиса «Провинциалку». По поводу этого спектакля Тургенев писал Полине Виардо: «Вот уж точно я ожидал всего чего угодно, но только не такого успеха! Вообразите себе, меня вызывали с такими неистовыми криками, что я наконец убежал совершенно растерянный… шум продолжался добрую четверть часа и прекратился только тогда, когда Щепкин вышел и объявил, что меня нет в театре». А ведь в тот же вечер и также с участием Щепкина игрался и «Жорж Данден» Мольера. Бенефисные программы отличались обычно большой полнотой.
Здесь нельзя не внести поправку в ранее издававшиеся материалы по жизни Тургенева в Москве, где повторяется одна и та же ошибка, что бенефисы Щепкина проходили в Малом театре. Дело в том, что Большой и Малый театры вместе составляли так называемую «казенную сцену», руководимую Московской Конторой императорских театров. Бенефисы звезд драматической сцены обычно проводились именно в Большом театре, что позволяло бенефициантам получить значительно больший гонорар – единственная форма приработка к их штатному жалованью. Так, в течение одного сезона 1850/51 года именно в Большом театре проходят бенефисные спектакли Прова Михайловича Садовского, В. И. Живокини, И. В. Самарина, Д. Т. Ленского, Л. П. Никулиной-Косицкой, А. Т. Сабурова, С. В. Васильева и других. Существовал также обычай в бенефисы танцовщиков включать драматические эпизоды. Например, в бенефисе танцовщицы Фани Эльсер играются французские водевили «Нет действия без причины» Ж. Баяра и «Бешенство» в переводе авторском Н. А. Ермолова. В бенефис танцовщицы Е. А. Санковской включается пословица в одном действии И. Анца «Куда черт не поспеет, туда старую бабу пошлет».
Но один из самых гостеприимных московских домов, «в котором находило свой приют искусство», по выражению сестры Станкевича, в 1847 году перестал существовать. В полном смысле слова задушенный долгами, без малого шестидесятилетний актер вынужден был с ним расстаться. Двадцать второго мая он писал Гоголю: «Я продал дом, расплатился с долгами, и у меня остается за уплатою за годовую квартиру 1500 р.: вот все мое состояние». Здоровье Щепкина начало заметно сдавать. Над ним нависла угроза, несмотря на огромную популярность, угроза отчисления из труппы, а семья, по настоянию жены, требовала постоянной материальной поддержки теперь уже вполне взрослых и самостоятельных детей.
На съемной квартире, в Воротниковском переулке, Щепкин не может разместить даже необходимой ему мебели. В проданном доме остается огромный красного дерева буфет и особенно необходимый актеру такой же «бездонный» шкаф для хранения театрального платья, не говоря о нескольких других простых гардеробах. К слову сказать, они оставались в доме с сиренью до 1970-х годов, так и не найдя себе другого приюта.
Тургенев навестит его и здесь, но характер дома слишком заметно изменится. Только в конце 1850-х годов Щепкин находит себе маленькую «усадебку с землицею и даже малинником» на 3-й Мещанской улице (№ 47). Был при доме и двор, и сад – о них вспоминает, между прочим, в своем письме Г. Н. Федотова, 16-летняя ученица Театральной школы, которую всячески поддерживал Михаил Семенович. Вот только рассказ о том, как любил разучивать свои роли в малиннике Щепкин, надо отнести к литературным выдумкам. Просто, несмотря на плохое самочувствие, сразу по окончании сезона на казенной сцене, Михаил Семенович вынужден был отправляться на гастроли «по русским по городам и весям». Пройти лишний шаг представляло для него немалый труд, и обычно все время, что он не играл на сцене, по его выражению, «отлеживался в номере гостиницы», чтобы поднакопить к вечеру сил.
Он и умер на гастролях в августе 1863 года в Ялте, этот «дивно-милый человек, который и на закате дней своих светит и согревает, как солнце утром». В семье великого актера сохранилось убеждение, что Тургенев перестал писать для сцены после того, как расстался с Михаилом Семеновичем.
Сегодня первого и главного московского дома «папаши Щепкин», как, впрочем, и находившегося рядом дома, где провела детство великая М. Н. Ермолова, нет. Зато после долгих перипетий образован мемориальный музей в доме на Третьей Мещанской, выстроенном, по существу, заново. Подлинными пока остаются лишь стены талызинского дома, куда приводил Щепкин Тургенева к Гоголю.
«Меня свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Помню день нашего посещения: 20 октября 1851 года. Гоголь жил тогда в Москве, на Никитской, в доме Талызина, у графа Толстого. – Мы приехали в час пополудни; он немедленно нас принял. Комната его находилась возле сеней, направо. Мы вошли в нее – и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны. За неделю до того дня я его видел в театре, на представлении «Ревизора»; он сидел в ложе бельэтажа, около самой двери – и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену, через плечи двух дюжих дам, служивших ему защитой от любопытства публики. Мне указал на него сидевший рядом со мною Ф. Я быстро обернулся, чтобы посмотреть на него; он, вероятно, заметил это движение и немного отодвинулся назад, в угол. Меня поразила перемена, происшедшая в нем с 1841 года. Я раза два встретил его тогда у Авдотьи Петровны Е – ной. В то время он смотрел приземистым и плотным малороссом; теперь он казался худым и испитым человеком, которого уже успела на порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно-проницательному выражению его лица.
Увидев нас со Щепкиным, он с веселым видом пошел к нам навстречу и, пожав мне руку, промолвил: «Нам давно следовало быть знакомыми». Мы сели. Я – рядом с ним, на широком диване; Михаил Семенович – на креслах, возле него. Я попристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость – именно веселость, а не насмешливость; но вообще, взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами: в их неопределенных очертаниях выражались – так, по крайней мере, мне показалось – темные стороны его характера: когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный черный галстук. В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское, а учительское – что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. «Какое ты умное, и странное, и больное существо!» – невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем и ехали к нему, как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове… вся Москва была о нем такого мнения. Михаил Семенович предупредил меня, что с ним не следует говорить о продолжении «Мертвых душ», об этой второй части, над которою он так долго и так упорно трудился и которую он, как известно, сжег перед смертию, что он этого разговора не любит. О «Переписке с друзьями» я сам не упомянул бы, так как ничего не мог сказать о ней хорошего. Впрочем, я и не готовился ни к какой беседе – а просто жаждал видеться с человеком, творения которого я чуть не знал наизусть. Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя; теперь же и нет никого, на ком могло бы сосредоточиться общее внимание.
Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не словоохотлив; на деле вышло иначе. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово – что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность. Он говорил на о; других, для русского слуха менее любезных, особенностей мало-российского говора, я не заметил. Все выходило ладно, складно, вкусно и метко. Впечатление усталости, болезненного, нервического беспокойства, которое он сперва произвел на меня – исчезло. Он говорил о значении литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям; высказал несколько тонких и верных замечаний о самом процессе работы, самой, если можно так выразиться, физиологии сочинительства; и все это – языком образным, оригинальным – и, сколько я мог заметить, нимало не подготовленным заранее, как это сплошь да рядом бывает у «знаменитостей».
Дня через два происходило чтение «Ревизора» в одной из зал того дома, где проживал Гоголь. Я выпросил позволение присутствовать на этом чтении. Покойный профессор Шевырев также был в числе слушателей и – если не ошибаюсь – Погодин. К великому моему удивлению, далеко не все актеры, участвовавшие в «Ревизоре», явились на приглашение Гоголя: им показалось обидным, что их словно хотят учить! Ни одной актрисы также не приехало. Сколько я мог заметить, Гоголя огорчил этот неохотный и слабый отзыв на его предложение… Известно, до какой степени он скупился на подобные милости. Лицо его приняло выражение угрюмое и холодное; глаза подозрительно насторожились. В тот день он смотрел точно больным человеком. Он принялся читать – и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской; глаза расширились и посветлели. Читал Гоголь превосходно… Я слушал его тогда в первый – ив последний раз. Диккенс также превосходный чтец, можно сказать, разыгрывает свои романы, чтение его – драматическое, почти театральное: в одном его лице является несколько первоклассных актеров, которые заставляют вас то смеяться, то плакать; Гоголь, напротив, поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет – есть ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный – особенно в комических, юмористических местах; не было возможности не смеяться – хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренне дивясь ей, все более и более погружаться в самое дело – и лишь изредка, на губах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу Городничего о двух крысах (в самом начале пьесы). «Пришли, понюхали и пошли прочь!» – Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить – обыкновенно разыгрывается на сцене «Ревизор». Я сидел, погруженный в радостное умиление: это был для меня настоящий пир и праздник. К сожалению, он продолжался недолго. Гоголь еще не успел прочесть половину первого акта, как вдруг дверь шумно растворилась и, торопливо улыбаясь и кивая головою, промчался через всю комнату один еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литератор – и, не сказав никому ни слова, поспешил занять место в углу Гоголь остановился, с размаху ударил рукой по звонку – и с сердцем заметил вошедшему камердинеру: «Ведь я велел тебе никого не впускать?» Молодой литератор слегка пошевелился на стуле – а впрочем, не смутился нисколько. Гоголь отпил немного воды – и снова принялся читать: но уж это было совсем не то. Он стал спешить, бормотать себе под нос, не доканчивать слов; иногда он пропускал целые фразы – и только махал рукою. Неожиданное появление литератора его расстроило: нервы его, очевидно, не выдерживали малейшего толчка. Только в известной сцене, где Хлестаков завирается, Гоголь снова ободрился и возвысил голос: ему хотелось показать исполнявшему роль Ивана Александровича, как должно передавать это действительно затруднительное место. В чтении Гоголя оно показалось мне естественным и правдоподобным. Хлестаков увлечен и странностью своего положения, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, что врет, – и верит своему вранью: это нечто вроде упоения, наития, сочинительского восторга – это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого «подхватило». «Просители в передней жужжат, 35 тысяч эстафетов скачет – а дурачье, мол, слушает, развесив уши, и какой я, мол, бойкий, игривый, светский молодой человек!» Вот какое впечатление производил в устах Гоголя Хлестаковский монолог. Но, вообще говоря, чтение «Ревизора» в тот день было – как Гоголь сам выразился – не более, как намек, эскиз; и все по милости непрошеного литератора, который простер свою нецеремонность до того, что остался после всех у побледневшего, усталого Гоголя и втерся за ним в его кабинет.
В сенях я расстался с ним и уже никогда не увидал его больше; но его личности было еще суждено возыметь значительное влияние на мою жизни».
В заключение вечера Тургенев стал свидетелем еще одной поразившей его сцены. Гоголь, явно смущаясь, передавал Петру Александровичу Плетневу, одному из ближайших друзей Пушкина и в то время уже ректору Петербургского университета, деньги для «безымянной, непременно безымянной» раздачи нуждающимся студентам. Тургенев не знал, что это последние деньги Гоголя, у которого впереди не было никакой надежды на заработки.
Чтение «Ревизора» состоялось 3 ноября 1851 года. Третьего февраля 1852-го Тургенев уехал в Петербург, ничего не зная о наступившем ухудшении здоровья Николая Васильевича. Гоголя не стало 21-го того же месяца. 13 марта в газете «Московские ведомости» появился под названием «Письмо из Петербурга» некролог писателя с подписью «Т…в». 16-го апреля последовал арест Тургенева. Иван Сергеевич понимал, что власти «хотели подвергнуть запрету все, что говорилось по поводу смерти Гоголя, – и кстати обрадовались случаю наложить вместе с тем запрещение на мою литературную деятельность». «Записки охотника», начатые публикацией, признавались «бунтовщическими и оскорбительными для властей».
Конфликт был тем более острым, что в Петербурге на некролог был наложен цензурный запрет. Москва в данном случае не подчинилась новой столице.
Обстоятельства ареста обычно не описываются биографами писателя. Между тем они были далеко не такими благополучными, как хотел их представить Тургенев в письмах Виардо: посещения знакомых, постоянные посылки. Только в 1879 году он разоткровенничается с Флобером: «Вы не любите гулять, но надо понуждать себя. Однажды я целый месяц пробыл в заключении (только храните это в секрете). Комната была маленькая и ужасно душная. Два раза в день я носил 104 карты из одного конца комнаты в другой, туда-сюда, получалось 208 оборотов, четыреста в день; комната имела восемь шагов в длину, значит, в общей сложности получалось три тысячи триста, т. е. около двух километров. Ну что, вдохновил вас этот инженерный расчет? В дни, когда я не ходил, у меня кровь приливала к голове». В письме к Виардо он писал:








