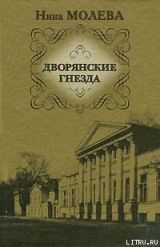
Текст книги "Дворянские гнезда"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В 1920 году «Парадиз» перешел к вновь образованной В. Э. Мейерхольдом труппе Театра революционной сатиры, летние выступления которого, словно по традиции, непременно проходили и в Покровском-Стрешневе.
После 1917 года начинается расцвет и самого старого дома. Именно здесь размещается Российское театральное общество, переименованное затем в ВТО, бессменной председательницей которого была народная артистка Александра Александровна Яблочкина. В воспоминаниях одного из первых актеров МХАТа, а в дальнейшем одного из помощников К. С. Станиславского в создании музыкального театра, Владимира Васильевича Тезавровского «наш дворец на Никитской» рисуется особенно празднично, радостно и торжественно. «Представьте себе, как по этой великолепной, почти дворцовой, в один широкий марш лестнице поднимались Ермолова, Яблочкина, Остужев, Пров Садовский, Владимир Иванович Немирович-Данченко, сам Константин Сергеевич (Станиславский), Качалов, Артем, Москвин – всех не перечтешь. Все они выступали в Колонном зале, как мы его называли, и зачастую с теми работами, которые не решались или в силу различных внешних обстоятельств не могли исполнить на открытых площадках и сценах. Это был дом для постоянного общения – где еще мы могли встречаться? – узнавания друг друга, а тут еще несколько трупп иностранных, как немецкая „Колонне линке“, венгерская, татарская, польская. Несколько раз проходили вечера чтения и постоянно лекции о психологии творчества Сигизмунда Кржижановского. Печатать его не печатали (и так до конца жизни), но именно здесь узнавали. Чтения обычно проходили не в Колонном зале, но в гостиной, расположенной окнами на улицу. Каждый уголок имел свое предназначение, и мы, старшие, не смогли привыкнуть к замене „нашего дома на Никитской“ новым помещением ВТО на верхних этажах углового дома на Пушкинской площади. Там возникла публичность, нарочитость, здесь жила актерская семья».
В. В. Тезавровский пишет, как забавлял всех «потаенный» характер «их дома»: вход в арке подворотни, низкий первый этаж, запутанные повороты и неожиданно в боковой стене коридора открывающаяся лестница с перспективой нарядной парадной анфилады.
Всероссийское театральное общество было вытеснено основанным в 1930 году Клубом театральных работников при ЦК профсоюзов работников искусств (будущий ЦДРИ, переведенный затем в Старопименовский переулок, позднее на Пушечную улицу). Здесь же помещался клуб «Киноработник» и до 1936 года Клуб иностранных рабочих.
1936 год ознаменовался массовым наступлением партии на культуру, вытеснением профессионалов художественной самодеятельностью. Одновременно с пертурбациями в доме на Никитской закрывается Общество старых большевиков и 18 театров в одной только Москве. В доме Шаховской-Глебовой-Стрешневой вместе с началом «ежовщины» открывается Центральный дом культуры медработников, иначе, как привыкли говорить москвичи, Дом медика. И это новая интересная страница. Четыре секции художественной самодеятельности из существовавших шестнадцати получают звание народных коллективов – в том числе симфонический оркестр и вокальный коллектив. В 1980-х годах здесь работает 12 народных университетов, семинар по проблемам искусственного интеллекта, общественный институт ювенологии, литературное объединение, в начале 90-х складывается коллектив оперного театра «Геликон».
Сегодня «нашему дому на Никитской» предстоит ремонт. Но вот только ли ремонт? Не сыграют ли с ним, как и с большинством памятников архитектуры и культуры Москвы, злую шутку сиюминутные интересы претендующих на мемориальное здание «хозяйствующих субъектов»? Трудно забыть, как в преддверии перестройки старого здания МХАТа покойные Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Владлен Давыдов, Ангелина Степанова яростно доказывали в кабинете председателя ВООПИК В. Н. Иванова необходимость полного выпатрашивания театра К. С. Станиславского, гримуборных и подсобных помещений ради пресловутой «новой технологии» работы актеров, не говоря о постановке спектаклей. В результате вся старая «начинка» – мемориальная, единственно ценная для последующих поколений, исчезла (оригинальные осветительные приборы по этому случаю распродавались прямо на улице за гроши всем желающим), вот только удалось ли по «новой технологии» создать спектакли и роли, хотя бы издали приближающие к «Чайке», «Анне Карениной», «Дням Турбиных»? Ответ за зрителями и теми подлинными театралами, которые проводили ночи в очередях у билетных касс в Камергерском один раз в месяц. Дальше оставалось читать и перечитывать до самоварного блеска начищенную и навсегда привинченную к стене у касс медную доску: «Все билеты проданы». В тот МХАТ приходили не развлекаться, не искать поводов для смеха – переживать и учиться ценностям жизни.
Судьба дома Шаховской представляет действительно непростую задачу именно для архитекторов. По возможности проявить уникальный архитектурный ансамбль второй половины XVIII – хотя бы в наиболее выразительных фрагментах, сохраняющихся со стороны двора. Но сохранить и переделки второй половины XIX столетия – слишком велико в данном случае значение культурного памятника. И, само собой разумеется, отдать должное московским врачам, тем более в их нынешнем шатком и необеспеченном положении.
Какой выход? Общественный совет? Но практика показала, как умело они составляются и как могут лоббироваться в них любые решения под флагом «общественности». Скорее – гласность. Москвичи должны знать, какими сокровищами располагает их город, и иметь возможность высказывать свое мнение. Передача на «Эхо Москвы» еще раз в этом убедила. Голоса слушателей боролись не за собственные выгоды, наживу и амбиции – для них главным и единственно возможным был оборот «МЫ», «НАМ» – Москве и всем людям.
Находка на Большой Полянке
Спор о Гортензии Богарне
По-настоящему рассказ должен был называться «Большая Полянка. Альбом королевы». Именно так. Большой многоквартирный дом напротив фирменного магазина «Молодая гвардия». Замызганный, кругом исписанный подъезд. Какой-то этаж. Множество комнат былой квартиры знаменитого реставратора и теоретика реставрационного дела, профессора Алексея Александровича Рыбникова.
Впрочем, «былой» – не совсем точное выражение. Профессора и его супруги действительно не было в живых. Зато дочери и внуки невольно сохраняли былую атмосферу. На стенах картины хозяина – профессор никогда не обращал на себя внимания как на художника. Тяжелая, настоящая мебель. Люстры. Рояль в комнате профессора Кандинского, мужа одной из сестер. Книги по искусству в шкафах у другой – талантливой актрисы Театра имени Ермоловой и ее супруга, актера Драматического театра имени Пушкина. И на полу у Рыбниковых-Бубновых взлохмаченный беззащитный томик в сафьяновом переплете с медными потемневшими застежками. Младшее поколение только что перестало им заниматься и с веселым гомоном умчалось на кухню.
Хозяйка отмахнулась: «А это альбом королевы. Так называл его, во всяком случае, папа. Во время войны он выменял его на ведро картошки, которое сам только что купил. В Расторгуеве. Есть было совсем нечего, а он… Мама очень сердилась».
На просьбу разрешить поработать с альбомом (одни акварели! и какие подписи!) Прасковья Алексеевна ответила согласием. Она не скрывала: альбом показывали в нескольких музеях на предмет продажи. ГМИИ имени А. С. Пушкина вообще не заинтересовался. Литературный не устроили незнакомые имена (семья Наполеона! наполеоновские маршалы!). Музей-лицей в Пушкинском селе согласился вырезать и приобрести единственный портрет – Зинаиды Волконской. Так с тех пор и красуется след вырезанного листа. Против возможных публикаций она, конечно, не возражала.
И вот статьи в журнале «Вопросы истории», «Знание – сила», в газете «Московские новости» на французском языке. Объем читательских откликов трудно было предположить. Оказалось, королева Гортензия была интересна всем, кроме… музеев.
Нет, не так. Музей нашелся. Кишиневский республиканский. В столице Молдавии. Его представители появились как по мановению волшебной палочки. Не торговались. Не сбивали цену. Просто приобрели «Альбом королевы». И тут же увезли из Москвы.
Автор узнала об этом из благодарственного письма музея – за проделанную исследовательскую работу. Свой адрес на Большой Полянке альбом потерял навсегда.
…Кардинал Гектор Консальви мог быть доволен. Падение Наполеона означало прямой выигрыш католической церкви в Европе. Но, талантливейший дипломат Ватикана, кардинал в свое время положил слишком много усилий, ума и изворотливости, чтобы добиться возможно более выгодных для Папы Римского условий конкордата с французским императором, и теперь откровенно сожалел об оказавшемся бесполезным труде: «Удивительная вещь! Из всего многочисленного семейства выдвинулся лишь один человек; но как скоро он заперт в клетку, не остается ничего». – «Остается королева Гортензия», – возражает Пий VII.
Прежде всего – не королева. Полученный по мужу титул перестал существовать задолго до падения Первой империи. Придуманное Наполеоном Голландское королевство родилось в 1806 году и исчезло в 1810-м в связи с отказом назначенного короля от престола. У временного обладателя короны были свои представления о стране, за судьбы которой он так неожиданно оказался в ответе, а для Наполеона изменившаяся политическая ситуация делала более выгодным прямое включение голландских территорий в состав Французской империи.
Итак, бывшая королева, но к тому же не член семьи Бонапартов. Дочь первой жены Наполеона, Жозефины Богарне, Гортензия после развода с мужем, братом императора, формально перестала принадлежать к правящему дому. И опять-таки фактический разрыв наступил уже давно – в 1808 году, а Бонапарты всегда предельно враждебно относились ко всем представителям «клана Жозефины».
Роль человека в истории – она взвешивается на весах исторической науки, уточняется и выверяется по мере выявления новых фактов и обстоятельств. Она всегда находит свое отражение и в традиции – не только науки, но и, казалось бы, ничем не аргументированной оценки современников и потомков. Слова Пия VII полностью входят в эту теперь уже полуторавековую традицию. Литература о Наполеоне, находящая авторов среди историков всех стран и всех школ, имеет специальный и немалый раздел исследований, посвященных Гортензии. И не про сто Гортензии Богарне, но всегда королеве. Дерон – «Анализ воспоминаний о королеве Гортензии», Фурманстро – «Королева Гортензия», «Путешествия королевы Гортензии», Анри Бордо – «Сердце королевы Гортензии» или вышедший в 1968 году капитальный труд Франсуа де Бернарди «Королева Гортензия» – всех не перечесть.

Автопортрет. Начало XIX в. Королева Гортензия
Эта далеко не часто встречающаяся, почти бессознательная уважительность исследователей сама по себе говорит о многом. Гортензия сохраняет не титул – некое внутреннее значение королевы, и она неотделима от Наполеона отчасти в его славе, но прежде всего в поражении, в годах, наступивших после. Роман, связь, общие дети – не высказанные прямым текстом намеки, предположения не могут не занимать воображения обывателя. Для историков факт их возникновения далеко не принципиален и сам по себе ничего не может решить.
Историки чаще обвиняют, много реже защищают. В перспективе лет ошибка, просчет обладают свойством проявляться в своем истинном значении, как рисунки переводных картинок под губкой времени и анализа исследователя. Зато правильность некогда принятых решений, побуждений, поступков всегда относительна, всегда спорна. Но здесь большинство ученых на редкость единодушны в своем желании защитить (оправдать?) хрупкую, романтичную, так склонную к увлечениям Гортензию Богарне ото всяких подозрений в политической деятельности, в самой причастности к слишком сложным для ее разумения идеям бонапартизма.
Да, это верно, что ее библиотеке мог позавидовать не один ученый: сочинения драматургов, труды по истории, Сен-Симон, Руссо, Вольтер, Севиньи, Мольер. Но разве не занималась Гортензия столько времени пением, и притом почти профессионально? Разве не посвящала все утренние часы живописи? Даже из двух отданных ей для жилья тесных комнат в Тюильрийском дворце, куда перебрался с семьей ее отчим в качестве Первого консула, Гортензия одну сумела превратить в настоящую живописную мастерскую. Ученица знаменитого в те годы И. Изабе, она по праву может быть отнесена к числу лучших европейских миниатюристов первой четверти XIX века, работавших в портрете и пейзаже.
А романсы, которые пишет Гортензия и которые исполняются во всей Франции, – разве они не свидетельство ее подлинных увлечений, душевного призвания, наконец? Могла же Гортензия в 1813 году, когда империя дала такие глубокие и начавшие стремительно разрастаться трещины, заниматься не чем-нибудь – изданием своих романсов, во всех мелочах обсуждая с ею же разысканным художником, в будущем одним из лучших литографов Франции, Тьеноном необходимые иллюстрации?
Или литературные опыты королевы? Пусть сравнительно несложно писать мемуары – в них имя автора всегда поможет оправдать любые профессиональные огрехи, – и все же труд Гортензии отличает от литературы подобного рода и редкая наблюдательность, и умение воссоздать настроение момента, и непринужденный, точный в оборотах язык.
Совсем иное дело – жанр путевых впечатлений, приобретший к тридцатым годам XIX века большую традицию. И тем не менее написанная Гортензией книга «Королева Гортензия в Италии, Франции и Англии в 1831 году» будет переиздаваться и при ее жизни, и во второй половине столетия. А ведь это путешествие совсем особого рода, не дававшее автору никаких возможностей созерцания, философствования, умиротворенного наблюдения за медлительным течением жизни, так характерное, положим, для Стерна и многих других. Гортензия пускается в свой путь в глубокой тайне, чтобы вопреки всем полицейским запретам проникнуть ко дворам европейских монархов и просить о помиловании единственного оставшегося в живых сына, который принял участие в революционном движении итальянских инсургентов.
Оправдание историков переходит в обвинение и, во всяком случае, явственное, расчетливое ограничение исторических масштабов Гортензии. Так свидетельствуют общеизвестные и неизменно повторяемые в литературе факты. Только исчерпывают ли они жизнь, прожитую Гортензией? И не потому ли на таком неослабевающем с годами накале держится спор историков – кем была она? Почти некрасивая и на редкость женственная, невозмутимая и страстная, не знающая страха и бесконечно беспомощная в личных неудачах голубоглазая креолка с путаницей шелковистых белокурых волос – кем была королева Гортензия?
Тени семейного счастья
«И все-таки вначале они любили друг друга», – скажет Наполеон на острове Святой Елены и станет повторять свою мысль упрямо, настаивая, готовый приводить даже доказательства. И это Наполеон, никогда не обращавший внимания ни на какие психологические тонкости, тем более в личных отношениях. В безысходности дней на острове Святой Елены развенчанный император возвращается мыслями к прошлому, пересматривает ситуации, оценки людей.
«Все-таки любили…» Они – это младший из Бонапартов Луи и Гортензия. И их брак, не удавшийся от начала и до конца.
Луи, тот самый Луи, которого Наполеон так рано забрал с собой во Францию, поместил в военное училище, об успехах которого с такой гордостью писал: «Никаких недостатков братьев и достоинства, которых они не имеют». К тому же – еще один предмет для гордости – «все женщины от него без ума». Но не этот ли успех оказался роковым для Гортензии? У Луи в 24 года расстроенное здоровье, невыносимый характер и явный интерес к кузине Гортензии, Эмилии Богарне, – сомнительные залоги будущего семейного счастья.
Впрочем, и Гортензия не склонна скрывать своего спокойного безразличия к намеченному для нее жениху. Ей нужна отсрочка в восемь дней, чтобы решиться дать согласие на брак. Отказаться? Но ведь так не было принято в те годы, и Гортензия слишком дочь своего времени, чтобы не знать, сколько браков начинается и кончается полнейшим безразличием друг к другу супругов. И разве не понадобилось той же Жозефине несколько лет, чтобы привязаться к своему второму мужу, почувствовать к нему хотя бы тень симпатии? Это сдержанное безразличие в начале брака и толкает Наполеона впервые на мысль о разводе. Со временем все переменится. Но со временем Наполеон уже не будет «маленьким генералом», даже не Первым консулом – овеянным славой сказочных побед полководцем, императором разраставшейся как по мановению волшебного жезла империи. И не эта ли метаморфоза сыграла свою, пусть и не осознанную Жозефиной, роль в ее отношении к супругу!
На браке Гортензии настаивают Наполеон и – таково мнение современников – Жозефина. С ним не хотят примириться Бонапарты. Ведь речь идет о возможном наследнике начавшего маячить где-то совсем близко, совсем явственно престола. У братьев Наполеона нет сыновей. Значит, будущие сыновья Луи и Гортензии окажутся первыми в ряду претендентов – новый выигрыш ненавистных Бонапартам Богарне с их многочисленными и не склонными к предательству сторонниками.
Но что отстаивает в этом варианте своенравный и неуравновешенный Луи? Собственные честолюбивые планы или не только их? Докучавшему ему брату Люсьену, который доказывает необходимость отказаться от союза с Гортензией, он бросает с досадой: «Все так, но я влюблен». Гортензия нигде не обратится к этому слову, и только в завещании, зная скорый и неизбежный исход своей болезни, она произнесет обращенную к мужу скорее формулу, чем живые слова запоздало шевельнувшегося в груди чувства: «Моим самым большим сожалением было то, что я не смогла сделать его счастливым». Сочувствие к остающимся, снисхождение к чувствам сына или поза безгрешности, о которой человек не забывает и на пороге смерти?
Нет, ничего откровенно поспешного в браке Луи и Гортензии не было. Венчание отделяют от помолвки три месяца. Зато после свадьбы, как только не остается сомнений, что Гортензия ждет ребенка, Луи неожиданно оставляет жену и отправляется на курорт в Бареж. Какие сверхважные дела могли задержать там на долгие месяцы молодого супруга? Если же за этим стояла размолвка, то почему Луи все же счел нужным вернуться к самому рождению ребенка?
Историки упиваются догадками, не слишком в конечном счете лестными для Гортензии. Разве недостаточная почва для этого опередившие на несколько недель все расчеты роды? Да и если присмотреться внимательней, сколько кругом окажется куда каких занимательных примет. Отказалась же Гортензия от приготовленного ей Жозефиной затканного цветами подвенечного платья, предпочтя ему простой белый креп. Ведь не надела подаренных Наполеоном сказочных бриллиантов, заменив их простыми жемчугами. А скольких усилий стоило Луи – каждый из присутствовавших обратил на это внимание! – снять со своей уже тронутой параличом руки кольцо и надеть его Гортензии.
Но, как бы то ни было, сын родился, и Луи заявляет о своем немедленном выезде из Франции с женой и ребенком. Не Наполеон – Гортензия отвечает категорическим отказом. Едва ли не единственный раз она так резка в выражении своих желаний.
Луи не слишком настаивает, не ставит ультиматумов. Единственное условие, которое Гортензия должна по его требованию соблюдать, – никогда не оставаться на ночь в Сен-Клу, постоянной резиденции императорской четы. Условие тем более оскорбительное, что Луи старается придать ему возможно более широкую огласку. Гортензии остается повиноваться. Луи уезжает, и свобода, пусть самая недолгая, все же стоит любой цены.
Октябрь 1802 – сентябрь 1803 годов – срок нового отсутствия в Париже Луи. Его формальное оправдание – необходимость лечения на итальянских курортах. Явления паралича действительно прогрессируют, и врачи бессильны их остановить.
Луи не делал попыток сократить срок разлуки. Гортензия, со своей стороны, не искала к этому случая. Взбешенный супруг впервые бросает слово «развод», пока еще только как угрозу. «Несмотря на все грубости, на всю невыносимость своих поступков, Луи любил ее», – скажет об этом времени Наполеон.
Апрель 1804 года. Считанные недели до провозглашения Наполеона императором. Вдвоем с Жозефиной они приезжают к супругам с предложением усыновить их первенца: вопрос о престолонаследии по-настоящему встал на повестку дня. На пути к власти сына Гортензии нет никаких препятствий. Никаких? Такое препятствие есть, и оно непреодолимо – Луи. Сразу и окончательно он отказывается от каких бы то ни было переговоров. Интересы империи, вопросы прочности трона для него не существуют. Конечно, не совсем понятно, почему эти дела государственной важности пытается обсуждать с Луи не Наполеон, а ненавистная младшему Бонапарту Жозефина. Если Наполеон предполагал возможность возражений со стороны брата, разве не привык он каждодневно справляться с сопротивлением всего своего семейного клана? И тем не менее здесь завтрашний император предпочитает оставаться в стороне. Маленький Наполеон-Луи-Шарль не попадет во дворец, но, как только Наполеон становится императором, Гортензия получает титул императорского величества – честь, оказанная, кроме нее, только жене старшего брата императора, Иосифа Бонапарта.
Луи мечется, раздираемый противоречивыми и не всегда объяснимыми в своих истоках чувствами. Гортензия должна перестать видеться с матерью, должна закрыться наглухо в своем доме, в котором никто и никогда не станет желанным гостем. Но, приобретя невдалеке от Парижа великолепное имение с замком Сен Лё, 26-летний Луи первым же распоряжением приказывает разделить комнаты своей половины и половины Гортензии: «Заделать двери между апартаментами в первую очередь. Заделать двери по возможности прочнее».
Гортензия ждет второго ребенка – и Луи снова в отъезде. Но на прощание перед многомесячной разлукой он бросает: «Если бы этот сын был похож на меня, я бы вас боготворил».
Доказательства увлечения Луи Гортензией – даже в мемуарах Гортензия не приводит (не находит?) их. Разве что единственный «слишком горячий» поцелуй, которым дарит ее Луи в качестве жениха перед отъездом на маневры в Потсдам. Гортензия по своей натуре не склонна к преувеличениям, тем более романтическим, скорее – к спокойному и точному анализу. Наполеон будет писать Жозефине в эти месяцы: «Я имел большое удовольствие видеть эту дорогую девочку, которая всегда добра, разумна, рассудительна». Зато отправка Луи в Потсдам вызвана особыми соображениями, которых Наполеон и не собирается скрывать: «…чтобы он вышел из своего психического и морального маразма».
После рождения второго сына Луи получает престол голландского короля. Гортензия – королева! Но это ничего не меняет в ее семейных делах. Напротив. Она оказывается права в своем упорном нежелании поселиться в Гааге. От тяжелой лихорадки там погибает ее первенец, так много значивший для Жозефины, так любимый Наполеоном. «Дочь моя, вы не написали мне ни слова о вашем настоящем и большом горе, – письмо Наполеона от 2 июня 1807 года из Гданьска. – Вы все забыли, как будто у вас не остается больше никаких обязательств. Мне говорят, что вы больше ничего не любите, что вы безразличны ко всему; я убеждаюсь в этом по вашему молчанию. Это нехорошо, Гортензия, и это не то, что вы мне обещали. Ваши сыновья для вас все. Ваша мать и я – ничто! Если бы вы были в Мальмезоне, я мог бы разделить ваше горе, но я бы хотел также, чтобы вы вернулись к вашим многочисленным друзьям… надо примириться».
Отчаяние Гортензии, кажется, восстанавливает мир в семье. Супруги проводят вместе несколько недель. Гортензия снова ждет ребенка. Тем большей неожиданностью оказывается теперь уже со всей определенностью поставленный вопрос о разводе.
Попытки Жозефины внести мир в семью дочери заранее обречены на неудачу. Но Наполеон до конца не теряет надежды, верит в возможность ослабить истерические вспышки брата. В его письмах к Луи – смесь терпения учителя по отношению к взбалмошному и бестолковому ученику, суровости и почти просьбы: «Вы имеете одну из лучших жен и самую добродетельную, и вы делаете ее несчастной. Дайте ей танцевать столько, сколько ей хочется, это от ее возраста. Я имею сорокалетнюю жену, и с поля сражения я пишу ей, чтобы она шла на бал, а вы хотите, чтобы женщина в двадцать лет, которая видит, как проходит мимо жизнь, которая полна всех ее иллюзий, жила в монастырской келье и была подобна кормилице, занятой только купанием собственного ребенка. Сделайте же счастливой мать своих детей». Буквально накануне окончательного разрыва Наполеон снова обратится к Луи: «Я надеюсь тем не менее, что с разумом, которым вы обладаете, вы станете вновь справедливым, добрым и разумным в отношении вашей жены».

Ф. Жерар. Портрет Жозефины. 1801 г.
Впрочем, Луи и не нужно согласия старшего брата. Не дожидаясь рождения третьего сына, того, которому предстояло в будущем восстановить Вторую империю под именем Наполеона III, Луи 26 августа 1808 года пишет Гортензии: «Прощайте же, мадам, позвольте, чтобы это было последнее письмо, написанное мною вам… Прощайте же, и навсегда. Будьте благополучны и счастливы».
«И все-таки вначале они любили друг друга…» – что в этих словах: оправдание своего первого решения, чувство вины за неудачно сложившиеся судьбы близких людей или назойливая мысль об ином возможном варианте своей и их жизни, который бы мог так или иначе, но благоприятней сказаться на истории рухнувшей империи?








