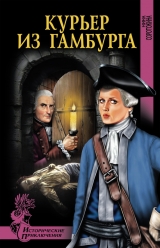
Текст книги "Курьер из Гамбурга"
Автор книги: Нина Соротокина
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Словом, отношения императрицы с Паниным были, мягко говоря, натянутыми. А тут еще Никита Иванович выкинул фортель, какого от него никто не ожидал. Петербург от его выходки несколько месяцев не мог угомониться, судачили по всем гостиным. Иные говорили, что не избежать ему отставки, потому что в его поступке проглядывал откровенный вызов императрице.
Объясним суть дела. Отставку от должности воспитателя Панин получил не после венчания Павла, как было принято обычаем, а до. Чтобы смягчить удар, Екатерина буквально осыпала его милостями. В награду за воспитание цесаревича он получил чин фельдмаршала. Ему предложили уехать из дворца, но зато выдали 100 тысяч рублей на обзаведение домом в любой точке столицы. Пожалован был тоже ежегодный пенсион на 30 тысяч рублей, ежегодное жалование в 14 тысяч, сервиз на 50 тысяч рублей, экипаж и ливрея придворная, провизия и погреб на целый год, а сверх всего этого еще девять тыщ душ.
Петербург ерничал, а не подавится ли новоиспеченный фельдмаршал всем этим богатством? А Панин, мало того, что не подавился, так еще и обиделся, мол, ему ограничивают общение с цесаревичем, и в пику государыне раздал только что подаренных крестьян. Вскоре выяснилось, что Панин не просто раздал крепостных, а подарил их своим секретарям, и не весь подарок государыни, а только четыре тысячи из девяти. Но и это поступок беспримерный, неслыханный!
Екатерина словно не заметила дерзкой выходки своего министра. Дело Их Величества подарить, а подданному вольно по своему усмотрению распорядиться подарком. Но поди узнай, что у Их Величества на уме.
У Панина было три секретаря: немец Убри, аккуратист, чиновничья душа, человек на возрасте, Денис Фонвизин, вошедший в русскую историю отнюдь не как дипломат, а как великий драматург («Недоросля» все в школе проходили) и Федор Бакунин, двадцатилетний щеголь и любимец гостиных, но при этом человек дельный. Фонвизин был старше – двадцать восемь лет. К этому времени уже прославился своей пиесой «Бригадир», самой государыней был обласкан. Естественно, в свете к его драматургическим талантам никто серьезно не относился, мало ли чем человек тешит себя на досуге. Но Фонвизин был остроумен и меток в слове, в свете постоянно цитировали его каламбуры (как в наше время поэта Светлова), еще он был наделен даром подражания (как в наше время Ираклий Андронников). Фонвизин был очень заметный в двух столицах человек.
И вот на голову секретарей свалилось нешуточное богатство. Говорили, что Панин поделил крепостных промеж трех поровну. Но четыре тысячи поровну на три не делится. Цитировали Фонвизина: мол, всем по 1333 души, а «одна в остатке». А куда остаток? Может быть, Панин выделил одного из секретарей и дал ему полновесно 1334 души? Может, для ровного счету прибил одну лишнюю душу или, что совсем невероятно, на волю выпустил? Зубоскалил Петербург, анекдотцы сочинял и гоготал довольный.
Панин не обращал на пересуды ни малейшего внимания, обзавелся новым домом и, в только что обставленном кабинете, принялся вместе в Фонвизиным, любимцем своим, обсуждать конституцию для нового порядоустройства в государстве. При разговорах делались кой-какие наметки на бумаге. Затем эти наметки помещались в шкатулку, та закрывалась на ключ и пряталась в потайной ящик секретера.
Что это были за наметки? Позднее Панин озаглавил их как «Рассуждения о непременных законах». Главная мысль этих рассуждений – император (или императрица) хоть и есть преемник божественной власти на земле, в действиях своих должен опираться не на собственные желания и хотения, а на законы, кои для всех в государстве должны быть непреложны и преступать которые нельзя. От этих законов зависит внутреннее спокойствие каждого человека, а следовательно, и спокойствие государства в целом. Закон есть узда для обуздания страстей, законы – всему фундамент. И теперь Панину было совершенно ясно, что если кто и согласен соблюдать законы, так это Павел. Осталось только обдумать в деталях, как заставить императрицу отдать трон сыну. Но это потом, потом…
А пока Панин хотел расширить круг единомышленников. Он решил прибегнуть к помощи Елагина Ивана Перфильевича, человека влиятельного при дворе и, не будем забывать, Провинциального мастера всех русских масонов. Сам Панин занимал должность Наместного великого мастера, то есть формально считался у вольных каменщиков вторым лицом после Елагина. Исполнять эту формальность неформально ему мешала занятость, а чаще обычная лень.
Между двумя масонами состоялся разговор, который не дал никаких результатов. Слово «конституция», произнесенное Паниным вскользь, для Ивана Перфильевича имело только одно значение. Это была учредительная грамота, выдаваемая ложам от Востока, то есть Высшего управления. Восток территориально может находить и на западе, потому что Восток, как известно, – край избранных. Именно оттуда с глубокой, седой древности изливалась на человеков высшая мудрость.
Елагин был удивлен визиту Никиты Ивановича, но обрадовался ему. Надо сказать, что отношения у этих двух господ были натянутые. Елагин не мог простить, что Панин увел у него секретаря, ранее эту же должность Фонвизин исполнял у него. Кроме того, и по складу характера они были очень разные, а потому отношений, которые принято называть личными, у них не было. Теперь Иван Перфильевич решил, что Панин явился к ужину, чтобы загладить неловкость, которая возникла при последнем посещении ложи «Аполлона». Напоминаем, ложа эта была основана год назад Рейхелем, работала по циннедорфской системе, к которой Елагин очень склонялся. За столом зашел разговор об объединении «Аполлона» с «Уранией», но сидевший рядом Панин как-то круто и умело увел разговор в другую сторону. А теперь вишь, к ужину пожаловал! Елагин внимательно выслушал речи гостя о повреждении нравов, согласился, что в Швеции лучше живут, поскольку законы соблюдают, но ответил как бы совсем невпопад.
– Что и говорить, опыты нашего столетия научают нас, что человек развращен. Вы согласны?
Что ж тут не согласиться? Принялись за ужин. Панин обожал французскую кухню, и Елагин, желая ему угодить, потчевал гостя «гомарами», «устерсами» и прочими дарами моря. И вино, надо сказать, было очень приличным.
– А причину этого развращения надобно искать в состоянии общества, – продолжил разговор хозяин. – Все это оплакивания достойно.
– Именно так, – опять согласился гость. – Именно об этом я и хотел бы говорить с вами. Но оплакивать мало, надо действовать.
– Кто ж спорит? Иные богатством отягощены и имеют все блага счастия, но страсти, бушующие в душе человека, портят натуру, лишают ее гармонии. Главная цель каменщичества – возродить человека к его первой, натуральной добродетели. Эту же цель преследует религия и гражданские законы, но масонам известен свой свет истины.
– Гражданские законы нам необходимы, – поторопился Панин вставить слово, видя, что хозяин не собирается прерывать свою высокопарную речь.
– Гражданские законы – это частности. Главное, как трактовать истину. Именно в трактовке истины я вижу и первый, и второй градус познания, и даже, с вашего позволения, третий. Поэтому объединение сделает нас сильнее.
– Какое объединение? – осторожно спросил Панин.
– Объединение под флагом циннедорфской системы. Объединение с ложей Рейхеля.
– Здесь я вас поддержу. Безусловно, – он помедлил мгновенье. – А какая роль во всем этом уготовлена моему воспитаннику?
– Вы имеете в виду великого князя Павла Петровича?
– Именно.
Елагин воспринял этот вопрос спокойно. Не смутился, и даже как-то вальяжно развалился в кресле.
– Я думаю, что их высочеству в поиске истины дарована самим Всевышним особая роль. И пока царственная корона украшает чело его великой матушки, великий князь освоит все градусы любой системы. Время еще есть, еще есть.
Панин начал злиться, что было ему совсем не свойственно.
– При всем моем благорасположении к вам, я вынужден заметить, что в этом пункте с вами не согласен. Времени у нас очень мало. Государство не может ждать законов и конституции вечно!
– Ах, при чем здесь государство. Мир существовал и при древних халдеях, жрецах египетских, при строительстве Соломонова храма и при славном тамплиерском воинстве. Люди живут и умирают, а истина живет вечно.
Никита Иванович понял, что хозяин его попросту дурит, а может, подбирается к чему-то для него важному, но подбирается столь окольными путями, что и понять ничего нельзя. А ему, Панину, должно говорить прямо, за этим и пришел. Но вряд ли представится другой случай поговорить откровенно. Правда, кто в наше время говорит откровенно? Но следует хотя бы прощупать почву, на которой стоит Иван Перфильевич.
Целый вечер толкли воду в ступе. Панин переел. За столом сидели долго. К десяти часам как-то незаметно с представителей морской фауны сползли на пернатых. Рябчики с клюквенным соусом были отменно хороши. А про десерт и говорить нечего.
Домой Панин явился с больным животом и твердой уверенностью, что Елагина в революционные замыслы посвящать нельзя ни в коем случае. Ну и пусть его. В масонской среде достаточно здравомыслящих людей. А хранить тайну они умеют и без Елагина.
Работа над конституцией продолжалась всю зиму. Здесь очень некстати (а может, и кстати?) возникло дело злодея Пугачева, то есть все неприятности, связанные с бунтом. Но тем не менее Панин решился на важный разговор с великим князем.
Уже по настроению Павла было видно, что разговор этот состоялся вовремя. Павел выслушал своего воспитателя с полным вниманием, поклялся хранить тайну. О, он все понимает! Люди готовы пойти на смерть, только бы восторжествовала справедливость, и он по праву занял бы трон. И на условия он согласен. Он прочитает «Рассуждения о непременных законах» с полным вниманием и даст клятву.
– Верьте мне, Никита Иванович, как только я стану императором, государство Российское будет жить именно по тем законам, о которых вы пишите.
6
Вернемся к нашей героине. Встреча с сестрой произвела на Глафиру поистине благотворное действие. Ранее, пережевывая изо дня в день свои страхи, она запрещала себе радоваться: поймают, вернут назад, или еще того хуже, масонские или полицейские чины дознаются, что она обманом носит мужское платье. Днем страхи эти жили как предчувствие, воображение отказывалось рисовать страшные картины, но снам не прикажешь показывать только хорошее. Ночью она видела погоню, чьи-то цепкие руки хватали и волокли на расправу, а дальше страшный суд в подвале у вольных каменщиков.
Обещание Вареньки помочь в деле с наследством разом упразднило прежние страхи. Она увидела во сне ромашковый луг и еще какой-то город диковинный, в котором словно уже была когда-то, потому что узнавала и дворцы, и улицы.
Замечательное настроение не оставило ее и утром. Перед Глафирой вдруг словно ожил материальный мир – вместилище всяких прекрасных вещей. Начнем с того, что это очень приятно – иметь собственное жилье. Пусть она только квартирантка, но в этом флигеле ощущает себя полной хозяйкой. Глафира и не замечала прежде, как свеж куст жасмина под ее окном, какая красивая резная спинка у немецкого стула, как хорошо пахнет свежее белье, которое чистоплотная Феврония перекладывала лавандой. Над столом в простенке висело распятие – дань лютеранской вере хозяина, а в красном углу икона св. Николая-угодника – помощника всем путешествующим. Деревенское распятие было ярко раскрашено и имело, прямо скажем, веселый вид, а лик Николая Можайского выглядел отнюдь не суровым, а почти ласковым, явно одобряя Глафиру.
Теперь она не только оправдывала свой, на первый взгляд, безумный побег из Вешенок, но и гордилась собой. Будущее виделось вполне понятным. Главное, прожить в Петербурге потаенно еще два месяца, а потом она выйдет из подполья и заявит о своих правах.
И нечего прятаться во флигеле! Этот город принадлежит ей так же, как всем прочим жителям. Раньше только на Добром выезжала, а тут вдруг пристрастилась к пешим прогулкам. Она гуляла по набережным. Вид кораблей у пристани, след от бегущего по реке катера, изумрудная плесень на старых подгнивших сваях – все вызывало отклик в душе ее. И еще звуки… Звонили колокола, кричали грузчики, гомонили торговцы, цокали подковы о булыжник – во всем ей слышалась музыка большого города. Даже вечерний туман и чуть различимый в нем шорох листьев рождали свою мелодию. Глафире улыбались не только нимфы в парке, но и прохожие, и матросы на палубе, и барышни в кисейных платьях. Она не отказывала себе в удовольствии подмигнуть этим нарядным птичкам.
Душа ее жаждала любви, и это так понятно для девы неполных двадцати лет, но какая может быть любовь, если на тебе камзол и мужской парик? И сознаемся себе, ей жалко будет расставаться с мужским костюмом. И не потому, что он ей особенно нравился. Во-первых, женское платье теплее. Кажется, что об этом в летнюю пору говорить, но если вечер туманный или ветреный, то в портах ноги зябнут, а под юбкой всегда тепло. Удобно также, что когда юбкой ноги закрыты, не видно, штопанные у тебя чулки или нет. Можно и вообще на босу ногу туфли надеть, а у мужчин белые чулки должны быть всегда безукоризненно чисты, башмаки начищены, пряжки на них должны солнечных зайчиков пускать, а то срам, скажут, сей господин неряха.
И с мужским париком гораздо больше возни. Женские волосы позволяют некоторый беспорядок, это даже поэтично. Воткни над ухом розу, и вот ты уже шаарман! А на мужском парике букли должны быть безукоризненны, коса аккуратно оплетена шелковой лентой, лоб открыт и высок. Здесь цветком дело не поправишь. Каждый день надевай парик на болванку, подвивай кудри, а раз в неделю волоки волосы к справщику, чтобы он все изъяны выправил, пудру вычесал и все заново присыпал. Словом, возни немерено.
И не только в костюме дело. Пообвыкнув в новом обличье, Глафира просто поражена была, насколько мужчине, против женщины, лучше и вольготнее живется на этом свете! Она могла выйти из дома в любое время и никому не давать в этом отчета. А барышне как? Ей одной вообще неприлично на улице показаться. Рядом обязательно должна идти или маменька, или гувернантка, а на худой конец пара слуг, из которых один непременно мужчина. Простонародью живется не в пример легче. Пошла повариха на рынок, хоть бы и молоденькая, ну и иди себе, никого это не волнует. Но простонародью работать надо, а это тяжело. И потом они почти все рабы.
Глафира не хотела быть рабыней. В Петербурге столько соблазнительных интересных мест, и хочется везде побывать. И хорошо это делать одной, чтоб никто не дышал в затылок. Ты можешь зайти в любой кабак и заказать себе еду мясную и полпива. А девица, даже в сопровождении, может заглянуть разве что в кондитерскую, скушать рогалик или булочку с кофием. И то про такую говорят – смела не по годам.
А лавки модные или, скажем, книжные. Если ты мужчина, заходи и покупай, что душе угодно, хоть атлас морской, хоть «Санк-Петербургские новости». И никто не усмехнется, не скажет, что ты умничаешь и притворяешься. Быть «синим чулком» смешно и стыдно. А ведь столько интересных книг на свете! Глафира любила читать книжные оглавления в лавках, у нее даже глаза разбегались. Много немецкой литературы и французской, но были книги и на русском. Правда, покупки она делала скупо, помня, что надо экономить.
И все-таки она все время выходила за рамки назначенного дневного бюджета. Виной тому был театр. Вот ведь прожорливое чудовище! Но Глафира не могла и не хотела отказывать себе в удовольствии лицезреть это чудо. Видно, наследственность со стороны матушка давала о себе знать. На первом же спектакле Глафира разом вспомнила и запах кулис, и вразнобой пиликающие скрипки настраивающегося оркестра, и наивно-роскошные костюмы актеров. Она-то знала цену этой царственной пышности, там подштопано, тут подшито. Все это она видела еще девочкой, глядя из бокового выхода, как красавица мать выводит свои рулады. И как в детстве, так и теперь, возникало чувство, что именно здесь, на ристалище, разыгрывается подлинная жизнь, а за стенами театра протекает только ее копия. Потом батюшка запретил ребенку без нужды шляться в театр, объяснив, что пиесы часто имеют фривольное содержание, а ребенок должен жить с гувернанткой и вовремя ложиться спать.
Любовь к театру в ту пору была сродни поветрию – заразительной болезни. Это было модно. В театр ходили и простолюдины. Глафира экономила деньги и часто глядела на сцену с галерки рядом со студентами, художниками, горничными и ремесленниками. Однажды рядом с ней очутился даже поп – вот как любили в столице театр. Если представление нравилось, то богатая публика аплодировала метанием кошельков – таков обычай.
Наиболее популярна была в Петербурге французская комедия. Все русские литераторы кинулись в переводчики. В комедии вся интрига завязывалась на плутовстве. А кто главные плуты? Конечно, слуги. Драма входила в другую категорию и называлась «представления для мещан», хоть их любила вся публика без сословного разбору. Русские пиесы тоже были в почете. Гремел великий Сумароков. На его представлении «Синав и Трувор» Глафира обрыдалась. Был некто фон Визин, видно, из немцев. Он написал известную всему Петербургу драму, нет, комедию из русской жизни со странным названием не то «Генерал», не то «Бригадир». Говорят, сама государыня очень одобрила этот труд. Глафира мечтала эту пиесу увидеть, но она нигде не шла.
Однажды на афишке она увидела знакомую фамилию – Елагин Иван Перфирьевич. Оказывается, глава русских масонов тоже подался в драматурги. Наверное, переводит с французского, а вернее сказать – пересказывает, снабжая героев русскими именами и постными диалогами о всемирном счастии и справедливости. А потом и вовсе неожиданность. Она узнала, что Елагин не только Провинциальный мастер у вольных каменщиков, но еще и глава всех театров в столице. Это ее несколько примирило с масонами.
Глафира уже знала всех актеров по именам и могла рассказать о каждом. Актерка Трещина, например, любимица Петербурга, по сути своей совершенный оборотень. Сегодня рыдает в драме, заламывает лилейные ручки и говорит: «скорее умру, чем расстанусь со своим возлюбленным», а завтра она же кокетливая субретка в комедии – ловкая, живая, веселая: «Ах, зачем мне ваша любовь, если вы бедны?» Каждый актер являлся в своем характере, и в этом было истинное правдоподобие жизни.
Но больше всего Глафира любила трагедию. Выбор объяснялся просто – она обожала актера Веретенникова. В газете о нем писали: «атлет трагического котурна». Истинно так, красив, широкоплеч, фигура полна достоинства – прямо-таки слепок с греческой статуи. Играл он вычурно, одушевленно, местами неистово. Иногда вместо слова только взгляд или язвительная улыбка, но какая улыбка! Публика трепетала. Правда, посмотрев трагедию про Медею по третьему разу, Глафира поняла, что Веретенников не живет на сцене, как актеры в комедии, а именно играет. Каждый жест, шаг, пауза заранее заучены. Трагедия не похожа на реальный приземленный быт, в ней жизнь должна быть высокой.
Словом, Глафира жила в полном упоении. Дайте только время, она получит свои деньги, а там уж найдет, куда их употребить. Иногда по ночам, когда сон не шел, она садилась у открытого окна, смотрела на кружившихся вокруг свечи мотыльков и мошек и мечтала, что когда-нибудь возьмет псевдоним и станет актеркой. Она выйдет на сцену и будет порхать! Беда только, что эти глупые мотыльки так беспечны, вот уже и опалили свои серебристые покровы. Слезы умиления застилали глаза. Так часто мечты заменяют нам реальную жизнь, и лучшие свои переживания мы испытываем именно во время грез, иногда совсем пустых.
Но ведь все это реально, почему нет? Голос у нее чистый, но слабый, в опере ей делать нечего, но ужо в трагедии она себя покажет! На театре среди публики слышала, что в столице есть уже клубы или курсы, где учат сольфеджи, а также декламации и мимике.
А в иные ночи она плотно зашторивала окна, надевала женское платье и становилась перед зеркалом. Вот она камеристка Лизетта – фигура ее становилась живой, увертливой, ножку эдак в бок! Получается же, право слово! Пытаясь изобразить Медею, она произносила неистовые фразы, сотрясала воздух адским смехом, и тут же в испуге зажимала ладонью рот. Вдруг Озеров за стеной еще не спит. Что он подумает, услышав ее вопли. Зеркало было не только собеседником, оно было окном в дивный мир театра.
Письма от Вареньки прекратились на время. В последней записке она сообщила, письмо своему опекуну давно написала, а теперь ждет ответа, и что увидеться в ближайшее время нет никакой возможности. Государыня решила, что не плохо бы старшим классам пообщаться с природой, поэтому их вывезли за город в специально снятый для летних занятий дом. В Петербург они должны были вернуться где-то в конце лета.
Долгожданная весточка от Вари пришла, как и было обещано, в середине августа, и совершенно потрясла Глафиру, более того, уничтожила ее в буквальном смысле слова. Оглушительная весть была упакована в куверт из розовой бумаги и включала в себя ответ опекуна и записку от Вари, полную междометий и знаков восклицания, между которыми прятался невысказанный вопрос – что все это значит, а?
Письмо от старика Бакунина было полно сочувствия. Главное известие предваряло вступление, в котором опекун деликатно писал о тщете наших надежд и желаний. «Жизнь есть сосуд скорби, а потому смертный всегда должен быть готов, что Господь призовет его к своему порогу. Крепись, моя милая девочка. Господь дает нам крест, дает и силу. Ты должна мужественно перенести скорбное известие».
Какое извести-то? Хорошо тебе, старый петух, размышлять на эту тему, но зачем девице в шестнадцать лет напоминать о смертном часе? – негодовала Глафира, разбирая незнакомый почерк. Потом глаза ее округлились. Она наконец добралась до главного.
Скорбное известие было таковым: старшая сестра ее Глафира Турлина почила в бозе в начале июня сего года. И умерла она смертью насильственной, наложив на себя руки. «Глафира ушла из жизни добровольно…» Т-а-а-к… От возмущения Глафира начала икать. «На похоронах усопшей присутствовал опекун умершей, он и подтвердил ее личность. Сейчас господин Веселовский Ипполит Иванович пребывает в Италии. По возвращении в отечество, если вы захотите, он встретиться с вами, милое мое дитя, и расскажет подробности этой скорбной истории. Похоронена Глафира Турлина в приходе Воскресенской церкви за церковной оградой. Уведомила меня о сим печальном событии воспитательница сестры вашей и владелица усадьбы Вешенки Марья Викторовна Рюмкина».
Значит, у меня уже есть собственная могила. А кто же тогда я? Может, и душа моя переселилась в тело Альберта Шлоса? И теперь мне всегда придется жить в мужском обличье? А как же наследство?
Глафира выпила воды, отерла вдруг вспотевшую шею и лицо и расплакалась.
7
Надо ли объяснять, что счастливая и беззаботная жизнь кончилась в один миг. Вначале она хотела тут же бежать к Февронии, чтобы поплакать на ее пышной груди и попросить совета, но в дверях она сообразила, что полуодета. Не гоже бежать через двор в домашних ботах. Времени на переодевание хватило как раз на то, чтобы в голове, как фонарь, возвещающий об опасности, вспыхнула здравая мысль. А вдруг Феврония не поверит! То есть как раз поверит, что Глафира Турлина умерла, а девица, поселившаяся в ее доме под именем немца Шлоса, просто самозванка, которая ведет свою игру. Правда, в качестве доказательства можно предъявить Вареньку, она-то признала в ней сестру. Но тут Феврония как раз может и усомниться, скажет, де, вы не виделись десять лет, Варя может принять желаемое за действительность и признать сестрой любую, кого не подсунь.
Из состояния срыва, мучительных раздумий, словом, отчаяния, Глафиру вывел явившийся вдруг утром Озеров. Это было не в его обычае, если он и захаживал, то вечером, осматривал комнату голодными глазами – угостят ли на этот раз кулебякой или сразу выпроводят за порог, сославшись на занятость? Закусит, почмокает мокрыми губами и начнет звать в какие-то компании, как понимала Глафира, на масонские обеды, «где хорошо кормят и собеседники приятные». Каждый раз он отчитывался перед Глафирой, сообщая, сколько именно денег опустил в суму собирателя милостыни:
– Деньги небольшие, но ведь каждый раз надо подавать. Но зато потом удивительная легкость в душе, поскольку сребролюбие угнетает, а щедрость и сострадание к ближнему, наоборот, расширяют вены, увеличивает ток крови в голове, и жизнь видится в благоприятном свете.
Глафире давно надоели его прожорливость, назидательность и излишнее любопытство, но сейчас она даже обрадовалась, квас подала и кренделек с маком, который гость с удовольствием сжевал. Далее разговор пошел как обычно о масонской трапезе, только на этот раз Озеров вцепился в Глафиру намертво, как клещ по весне.
– Уж этот обед, господин Шлос, вы должны посетить непременно. Сам мастер стула приглашает вас, а на это должны быть веские причины.
– Какие же?
На толстом лице Озерова появилось строгое выражение, но руки он продолжал держать в молитвенном жесте, ладонь к ладони, как перед иконой.
– Это мне не дано знать. Я всего лишь рядовой член. Но ваше непоявление на оной трапезе может быть воспринято с непониманием. И неблагоприятием. Ну что вы хмуритесь, милый Альберт? В прошлый раз вы сослались на нездоровье, на прошлой неделе говорили, что очень заняты. А меж тем весь день провели дома.
– Вы что, следите за мной?
– Боже избавь! Но фурия определенно говорила, что вы в тот день не выезжали за ворота.
– Не могла Феврония вам этого говорить. Подслушивали?
– Господин Шлос, вы все время подозреваете меня в каких-то гадостях. А я ведь и обидеться могу.
– Ну и глупо. Что обижаться-то? И хватит об этом, – проворчала Глафира. – Но вы умный человек и должны понимать, что иногда неотложные дела могут удерживать человека дома. У меня был почтовый день, а написание писем отнимает много времени.
Уже по тону мнимого Шлоса Озеров понял, что одержал верх в перебранке. Он деловито потер руки и бодро бросил:
– Я зайду за вами в пять. Обед назначен на шесть, но пока выйдем, пока дойдем. А пока вот вам билет. Я заплатил за вас, так что деньги можете отдать мне, – он протянул квадратик плотной бумаги, на которой типографским способом были напечатаны две латинских литеры, над ними голубь в лучах и ветка акации.
– И сколько же стоит это удовольствие? – Глафира с опаской, словно ядовитого жука, бросила приглашение на стол.
– Полторы рубли.
– Ого!
– На торжественных обедах, когда шампанским потчуют, входной билет может и два руля стоить. Я понимаю, дорого. Дома-то и за десять копеек можно с роскошеством пообедать, но… – Озеров развел руками, мол, что делать! – И обязательно возьмите с собой кошелек. Не знаю, как у вас в Германии, а у нас обряд подавания милостыни обязателен.
Получив деньги за билет, Озеров сразу направился к выходу. Вид у него был до крайности самодовольный. В дверях он обернулся и уже тоном приказа сказал:
– И не забудьте! Шляпа круглая, перчатки белые, без оружия.
Озеров мог бы и не стараться. Глафира согласна была поехать куда угодно, только бы не оставаться наедине с собственными мыслями. Но, честно говоря, все ее раздумья и мыслями-то нельзя было назвать. Она словно озиралась, вглядываясь в темные углы подсознанья, ожидая, что где-то рядом уже клубится новая опасность, чтобы ударить ее наотмашь по щеке, по жилам, по печени и сердцу.
Надо искать выход! Но какой? На худой конец можно будет вернуться в Вешенки, предъявить себя, смотрите, люди добрые. Я не покойница, я живая! Даже если дура Марья примет ее за приведение и начнет орать, мол, ничего не знаю, Глафира Турлина у нас на кладбище лежит, уж нянька Татьяна ее наверняка признает. Да и слуги подтвердят. Правда, в суде, положим, их слушать не станут, но можно будет еще призвать Баранова. Этот поношенный господин, возомнивший себя женихом, так хотел присоединить Глафирины деньги к собственным, что, пожалуй, поведет себя как порядочный человек и признает в ней невесту. Ах, кабы всем на земле было выгодно быть порядочными, какая славная была бы жизнь! Стоп! Если он признает в ней невесту, то, стало быть, надо будет с ним под венец идти. Значит, ее побег, мужской костюм, встреча с Варенькой, надежды на лучшую жизнь пойдут прахом? Значит, все зря?
Озеров явился вовремя. Масонская трапеза происходила не на Елагином острове, а где-то недалеко от Мещанских улиц. Они довольно быстро дошли до Невской перспективы, далее проследовали к Знаменской церкви. Дом, в который они направлялись, Озеров называл его «запасной дворец», находился за Преображенскими казармами.
По дороге Озеров трещал без остановки, посвящая немца в обычаи русских масонский трапез. Глафира не поняла, рассказывал ли он все это по собственному почину или по приказу свыше.
– Мы так понимаем: «Обед отправляется не к прельщению тела, но к умеренному его насыщению».
– Это, стало быть, не обжираться?
– Именно, – с готовностью согласился Озеров. – У нас как заведено? При торжественной столовой ложе, днем отправляемой, употреблять не более семи блюд. А если вечером – не более пяти.
– Ничего себе! Пять блюд. Это же из-за стола не встанешь. А сегодня как будет?
– Не знаю. Меня не уведомили, какая сегодня будет ложа. Может быть, и обыкновенная. Но я думаю, что торжественная, а значит, с вином. В зависимости от торжественности той или иной ситуации произносится определенное количество здравниц. По ритуалу их бывает не более девяти, но иногда великий мастер увеличивает число здравиц, говоря при этом все, что ему заблагорассудится.
– Отсебятину лепит?
Озеров вдруг обиделся на слишком приниженный, насмешливый тон Глафиры.
– У вас критический ум, господин Шлос, – сказал он строго и далее молчал до самого порога.
Гости собрались в красивой голубой гостиной. В открытую дверь была видна большая, уже готовая к ужину зала. Три стола, поставленные буквой «П», были накрыты белоснежной скатертью. Приборы были расставлены, слуги носили вино в бутылках и большие тарели с закуской. Видимо, трапеза была титулована как торжественная.
В гостиной собралось не более десяти человек, гости стояли группками и разговаривали оживленно, то там, то здесь вспыхивал смех. Глафира не видела ни одного знакомого лица. А может быть, ей это только показалось с перепугу. Но тех двоих, которые везли ее на Елагинский остров, Наумова и рыжего Гриньку, точно не было в числе собравшихся.
– Вы сядете со мной рядом? – спросила она Озерова шепотом.








