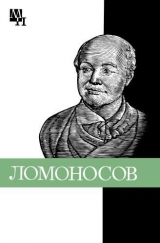
Текст книги "Ломоносов: к 275-летию со дня рождения"
Автор книги: Нина Уткина
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Н. Ф. Уткина
Ломоносов: к 275-летию со дня рождения
Природа держится своих законов самым крепким образом даже в малейшем, чем мы пренебрегаем.
М. В. Ломоносов
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
...
Уста премудрых нам гласят:
«Там разных множество светов,
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков;
Для общей славы божества
Там равна сила естества».
М. В. Ломоносов
Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник...
А. С. Пушкин
РЕДАКЦИИ ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Уткина Нина Федоровна – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник сектора истории философии и атеизма в СССР Института философии АН СССР. Автор книг «Естественнонаучный материализм в России XVIII века» (М., 1971), «Позитивизм, антропологический материализм и наука в России» (М., 1975), статей по истории русской философии XVIII– XIX вв.
Рецензент докт. филос. наук В. М. Ничик
Глава I. Путь в науку. Академии и университеты
 России многое изменилось в период бурных петровских преобразований. Активизация человеческой деятельности породила новые тенденции в восприятии мира. Вызревала новая культура, идущая на смену церковно-феодальной, господствовавшей в течение столетий. Время нуждалось в мыслителе, который мог бы выразить суть происходящих перемен. Таким мыслителем стал Ломоносов.
России многое изменилось в период бурных петровских преобразований. Активизация человеческой деятельности породила новые тенденции в восприятии мира. Вызревала новая культура, идущая на смену церковно-феодальной, господствовавшей в течение столетий. Время нуждалось в мыслителе, который мог бы выразить суть происходящих перемен. Таким мыслителем стал Ломоносов.
Расшатывание прежних устоев жизни осуществлялось уже в XVII в., отличавшемся невиданным ранее движением народных масс. Повышенная миграция населения привела к освоению потоками предприимчивых крестьян, казаков, огромных просторов Российского государства, вплоть до берегов Тихого океана. Россию потрясали бунты, на протяжении столетия они переросли в две крестьянские войны – под руководством Ивана Болотникова и Степана Разина.
В результате развития товарно-денежных отношений возник единый всероссийский рынок. Появились зачатки буржуазного общественно-экономического уклада. Началось формирование абсолютистского государства, возникающего, как правило, на поздних стадиях феодализма, когда из рук феодальных верхов начинает ускользать вся полнота власти под давлением носителей зарождающегося общественно-экономического уклада, утверждающих свое право на существование и борющихся за свое участие в правлении. Абсолютная монархия, возникая обычно в «переходные периоды», является «компромиссом» между интересами формирующейся буржуазии и дворянства (см. 1, 4, 306; 21,172) [1]1
Здесь и далее в скобках сначала указывается номер источника в списке литературы, помещенном в конце книги, затем курсивом – номер тома, если издание многотомное, и далее – страницы источника (Ред.).
[Закрыть]. Предпринимаются попытки ограничить могущество церкви. Меняется настрой духовной культуры, происходит заметный и необратимый процесс ее обмирщения. В художественной литературе появляется интерес к человеку деятельному, предприимчивому.
Начавшиеся социальные преобразования резко ускорились в Петровскую эпоху. В 1711 г. вместо боярской думы, оплота феодальной аристократии, был учрежден сенат. В 1721 г. ликвидировано патриаршество, во главе церкви поставлен синод, своего рода правительственная коллегия, подчиняющая церковь государству. В 1722 г. введена Табель о рангах, допускающая смешение на государственной службе потомственного дворянства и выходцев из других слоев, получивших право, достигнув по службе восьмого ранга, получения дворянского звания. Ряды российского дворянства интенсивно пополнялись людьми из непривилегированных сословий.
При Петре I в основном завершилось формирование абсолютистского государства; тяготы, связанные с социальными преобразованиями, перекладывались на народные массы. Усилился гнет крепостного права, но дальнейшее закрепление крестьянства свидетельствовало не о силе и прочности феодализма, а о начавшемся подрыве его могущества. Крепостничество как в Восточной, так и в Центральной Европе распространяется преимущественно в период кризиса феодализма, когда товарно-денежные отношения расшатывают прежнее положение дворянства и оно начинает ощущать слабость своих позиций. Абсолютистское государство приходит на помощь дворянству, законодательным путем привязывая крестьян к помещикам. Одновременно абсолютизм был заинтересован в развитии буржуазных элементов, связанных с прогрессом промышленности и торговли, и делал им уступки, но, как правило, во имя укрепления могущества дворянского государства.
Разработкой социальных реформ во времена Петра I занимались и прогрессивно настроенные дворяне, и представители зарождающейся буржуазии, «третьего сословия». Среди авторов обширной литературы реформ был Ф. Салтыков, родственник царя, сын тобольского воеводы, руководивший по заданию Петра постройкой кораблей. В его «Пропозициях» речь шла о необходимости ускоренного развития страны, чтобы «наш народ уравнялся с европейскими». К. Зотов, деятель адмиралтейства, разрабатывал проекты усовершенствования государственного правления.
А. Курбатов, из крепостных Шереметева, предложил удачный финансовый проект и занял пост обер-инспектора ратуши, ведающей городскими финансами. Д. Воронин, разбогатевший мастеровой, излагал в своем «Доношении» меры по развитию казенных мануфактур.
Социальные преобразования открывали возможности для развития в стране идей Нового времени. Петра I интересовала прежде всего наука, так как он твердо верил в то, что экономическое и военное могущество государства находится в неразрывной связи с развитием научного знания. Для создания регулярной армии и флота, строительства заводов, мануфактур требовалось «пособие математических орудий и физических експериментов» (98,66). Наука входила в мировоззренческую систему, ориентированную на природу и постигающий ее человеческий разум. С наступлением XVIII в. проблемы «натуры», естества и его исследования заняли прочные позиции в русской культуре. Приобретало привлекательность познание не бога или духовного мира человека, а природы; знания основывались не на Священном писании, свидетельстве соборов, преданий, а добывались с помощью средств науки; ценились представления, полученные не путем прозрений, ускользающе-зыбких видений, а очевидным и ясным образом.
Привилегированное положение приобрел человеческий разум. В исторических сочинениях, художественных произведениях придавалось особенное значение благотворному воздействию разума, все беды рода человеческого объяснялись его помрачением или невежеством. Апология разума была естественна, так как человек, освобождаясь от руководства со стороны божественного провидения, предоставленный самому себе, обязан был отличать истинное, должное, ценное. Не постулируя у всех людей способности к разумным решениям, не подчеркивая значения разума, нельзя было добиваться полной самостоятельности человека, свободно развивающего свою деловую активность без патронажа сверхъестественных сил и церкви, играющей роль посредника между ними и человеком.
Возникло умонастроение, являющееся «духом XVIII века», направленное на «борьбу с феодальной и поповской силой средневековья» (2, 25, 49). Крупные изменения, происходившие в России, в полной мере ощущались и на родине Ломоносова, близ Архангельска, который со второй половины XVI в. до основания Петербурга служил основными морскими воротами России. Город был центром крупной торговли, судоходства, судостроительства. Север России вообще находился в благоприятном положении, потому что населяли его преимущественно черносошные, т. е. не принадлежащие помещикам, крестьяне, свободные от крепостной зависимости. Г. В. Плеханов писал, что «архангельский мужик стал разумен и велик не только по своей и божьей воле. Ему чрезвычайно помогло то обстоятельство, что он был, именно, архангельскиммужиком, мужиком -поморцем,не носившим крепостного ошейника» (78, 21,141).
На Беломорском севере долго сохранялось влияние новгородской культуры. Черносошные крестьяне жили самоуправляющимися «мирами», которые охватывали и церковный приход, и волость, и весь уезд. Государство опиралось на них в управлении краем, но нередко «миры» вступали в конфликты с воеводами и приказными чиновниками. Здесь, пожалуй, раньше, чем где-либо в России, началось разложение натурального хозяйства и рост товарно-денежных отношений. В условиях Севера трудно прожить одним земледелием, поэтому широкое распространение получили морской промысел, различные ремесла, торговля. Искусных мастеров-поморов Петр I охотно привлекал к созданию флота России. Разнообразие занятий, подвижность, мастеровитость сближали здесь образ жизни посадского и сельского населения, жители посадов и деревень мало чем отличались друг от друга.
Михаил Васильевич Ломоносов родился 8(19) ноября 1711 г. в деревне Мишанинской Архангельской губернии, расположенной на Курострове в дельте Северной Двины, вблизи Холмогор, которые до возвышения Архангельска были центром Поморского края. Его отец, Василий Дорофеевич Ломоносов, успешно занимался рыбным промыслом; ему принадлежало одно из первых на Севере «новоманерных» судов – гукор немалой величины с корабельной оснасткой,– которые начали строить архангелогородцы, по распоряжению Петра I, вместо привычных лодей и кочей. Мать, Елена Ивановна, урожденная Сивкова, была из семьи дьякона соседнего Николаевского Матигорского прихода. По некоторым свидетельствам, она обучала сына начаткам грамоты (см. 92, 11, 546; 23, 19—20). По другим данным, Ломоносов учился грамоте у односельчан – одним из них был Шубин, отец Федота Ивановича Шубина, будущего известного скульптора, резцу которого принадлежит превосходный скульптурный портрет великого ученого,– у местного дьячка Семена Никитича Сабельнокова, который закончил школу Холмогорского архиерейского дома лучшим учеником (55, 302).
Из окон ломоносовского дома был хорошо виден Архиерейский дом, возглавлявший церковноадминистративное управление обширного края. Первый холмогорский архиепископ Афанасий был известным книжником, собравшим большую библиотеку. Он сам был автором нескольких книг. Написанное им пособие для учителей «Алфавитарь» включало перевод педагогического трактата Эразма Роттердамского «Гражданство нравов благих». Его лечебник «Реестр из доктурских книг» разошелся в списках далеко за пределами Холмогорской епархии. В составленном им «Гекзамероне» история творения соседствовала с современными ему астрономическими сведениями, за исключением коперникианства, которое было опущено. Афанасий вел астрономические наблюдения, интересовался географией, опираясь на свидетельства сведущих людей, поморов-промышленников, занимался составлением карт; он неоднократно выполнял поручения Петра I (см. 16, 549—551).
В годы детства и юности Ломоносова холмогорским архиепископом был Варнава, считавшийся одним из наиболее ученых иерархов петровского времени. Он получил образование в Киево-Могилянской академии, был проповедником Московской славяно-греко-латинской академии, в 20-х годах бывал в Петербурге, где вместе с главой синода Стефаном Яворским рассмотрел и утвердил составленный Феофаном Прокоповичем ответ на послание Сорбонны о мире и воссоединении церквей (см. 69, 94). Для преподавания в «словесной школе», устроенной при Холмогорском архиерейском доме, Варнава пригласил воспитанников Московской славяно-греко-латинской академии, в том числе Ивана Каргопольского, который провел пять лет во Франции, слушал лекции в Сорбонне.
Правда, задержался в Холмогорах Иван Каргопольский недолго, его довольно скоро лишили должности (см. 58, 67). Ломоносов, по некоторым данным, учился в этой школе, но документальных свидетельств об этом не сохранилось.
По-своему стремились овладеть книжной премудростью раскольники, в изобилии населявшие Север, Беломорье. В Холмогорах бывал протопоп Аввакум, в первые десятилетия XVIII в. выделялась своим влиянием Выговская пустынь, созданная братьями Андреем и Семеном Денисовыми. В Выговской старообрядческой школе изучали логику и риторику, составляли грамматики и различные руководства, в которых прославлялась «предрожайшая премудрость» (30, 20). В русском расколе, несомненно, присутствовали следы реформационных идей. Отказ от официального церковного посредничества, выдвижение на первый план религиозного переживания самого верующего в какой-то мере отражали устремленность к формированию самодеятельной личности, оппозиционной существующим порядкам; недаром среди купечества, нарождающейся буржуазии был так высок процент старообрядцев. Но в целом в старообрядчестве преобладали мистико-хиллиастические идеи и настроения. Ломоносов был наслышан о Выговской пустыни.
Как бы ни отражались некоторые черты Нового времени в деятельности Холмогорского архиерейского дома и Выговского братства, в том и другом случае влиянию подвергались старые системы воззрений, изменения не выходили за пределы строго религиозного сознания. Магистральное развитие человеческой мысли шло иным путем, к которому тяготела энергичная, жаждущая знаний, ориентированная на реальную действительность натура Ломоносова.
Кругозор Ломоносова значительно расширился благодаря плаваниям с отцом в низовьях Северной Двины, Белом море, Ледовитом океане. Поморы были опытными мореходами, в плавании они пользовались компасами, зрительными трубами, угломерными инструментами. Путешествия приобщали к пользованию приборами, знакомили с могучей и грозной северной природой, воспитывали волю, развивали наблюдательность, обостренный интерес к окружающему миру.
Василий Дорофеевич занимался не только рыбным промыслом, вместительный гукор использовался также для перевоза товаров. Торговые рейсы гукора позволили юному Ломоносову увидеть работу судостроительных верфей, посмотреть на добычу соли, слюды, металлических руд. Собственно, познакомиться с трудом множества мастеровых, работающих на верфях, можно было и не плавая далеко, потому что в семи верстах от его дома находилась крупная верфь Бажениных, предприимчивых посадских людей, поддержанных и обласканных Петром I.
По всему Северу были разбросаны соляные промыслы. Поиски насыщенных солью источников, прокладка скважин, процесс солеварения требовали знатоков своего дела, владеющих различного рода снарядами и приспособлениями. Ломоносов писал, что «на поморских солеварнях у Белого моря бывал многократно для покупки соли к отцовским рыбным промыслам и имел уже довольное понятие о выварке» (3, 10,12).
Для верфей, различных промыслов нужен был металл. На Севере велись поиски рудных месторождений, возникали заводы. Двинские литейщики, кузнецы славились своим искусством. Разнообразная и активная человеческая деятельность с детства окружала Ломоносова.
По торговым надобностям он посещал вместе с отцом холмогорский Архиерейский дом, Соловецкий монастырь, где также мог увидеть немало любопытного. Монастыри оказались рано затронутыми воздействием развивающихся товарно-денежных отношений. В эпоху позднего феодализма церковь пересмотрела свое былое отношение к труду как неизбежному наказанию за грехопадение человека. Труд поднялся в цене: признается не только смиряющее и обуздывающее его значение, но и результативность труда, его полезный эффект, разумеется, если он направлен на благо церкви. Соловецкий монастырь владел огромным хозяйством, в котором применялись механические приспособления, «разные машины для облегчения трудов работающих» (55, 66).
Богатство полученных впечатлений лишь усиливало у Ломоносова жажду знаний. В круг его чтения на первых порах входила духовная литература, распространенные на Севере летописи, прежде всего, вероятно, «Двинский летописец», известный в большом числе списков, печатные издания петровского времени: указы, военные донесения, летучие листки, лубки. Государственные чиновники присматривали, чтобы они доходили до всех слоев населения. Ломоносов пользовался книгами соседа, наследовавшего библиотеку, собранную холмогорским священником П. В. Дудиным. Здесь он читал «Арифметику» Л. Ф. Магницкого и «Грамматику» М. Смотрицкого.
Из той литературы, которую Ломоносов успел узнать на родине, он выделил эти две книги, считая их «вратами своей учености». «Арифметика» Магницкого, преподавателя Московской школы математических и навигацких наук, изданная в 1703 г., пользовалась большой популярностью. Это было не узкое руководство по арифметике, а своего рода энциклопедия математических знаний, в которой подчеркивалось их прикладное значение. В ней излагались основы астрономии, геодезии, навигации, давались сведения, полезные в торговле, строительном искусстве, механике. Включались исторические обзоры о древних и новых мерах, весах, монетных системах.
Содержание книги пронизано верой в могущество и полезность науки. Магницкий был убежденным ее защитником: наука «требна каждому государству», она способна «грады укрепить и построить и всю землю си успокоить» (61, кн. 1, д). Особенных похвал удостаивалось математическое знание: «Арифметика, или числительница, есть художество честное, независтное и всем удобопонятное, многополезнейшее и многохвальнейшее... кто совершен геометрике (геометрия бо зело есть потребна во всем обществе народа) ниже инженер может быти, без него же невозможно быти ратоборству. Паче же ни навигатор будет без сеа науки, неможет бо добре кораблеходствовати» (61, кн. 2, cqi).
Другая книга – «Грамматика» Мелетия Смотрицкого – была первой, удовлетворившей призвание Ломоносова к слову. Она состояла из четырех частей: орфографии, этимологии, синтаксиса и просодии; в ней исследовался строй церковнославянского языка, но не раннего периода его развития, а обновленного, свободного от древних форм и особенностей, заимствовавшего различные элементы народных наречий. Книге Смотрицкого, изданной впервые в 1621 г., была уготована долгая жизнь, она выдержала несколько переизданий, на ее основе готовились грамматические руководства в XVIII в. Ломоносов мог почерпнуть в ней немало полезных сведений; разумеется, его внимание не могла не привлечь заключительная часть «Грамматики» – просодия, предназначенная для обучения стихосложению.
Ломоносов был в семье единственным сыном, ему положено было наследовать отцовское дело, но он избрал иную участь, отправившись на учебу в Москву. Не надеясь на согласие отца, он совершил путешествие втайне от него, пристав к попутному обозу, вместе с которым появился в Москве в канун 1731 г.
По приезде в Москву Ломоносов наведался в Сухареву башню, где размещалась навигацкая школа, по-видимому собираясь в ней обосноваться (см. 55, 300), но застал ее уже преобразованной. Старшие классы в 1716 г. были превращены в Морскую академию, которую перевели в Петербург. Учеба в начальных классах школы, конечно, не могла удовлетворить Ломоносова.
Московский период его жизни связан со Славяно-греко-латинской академией. Созданная в 1687 г., она являлась, подобно Киево-Могилянской академии, духовной и вместе с тем всесословной образовательной школой. Там учили детей не только духовенства, но и других слоев общества, готовили образованных людей для церкви, государственной службы. Светская направленность в деятельности академии резко усилилась в Петровскую эпоху. Стало правилом, что из академии берут учеников и преподавателей для вновь создаваемых школ. Для школы при Московском госпитале требовалось так много учеников, что академическое начальство жаловалось: «...аки бы она, академия, устроена была ради единой оной госпитали и оной же в определении учеников подчинена» (50, 23). Из академии посылали в экспедиции, посольства, на работу в коллегии, монетный двор, типографии и т. п. В стенах академии богословские темы должны были серьезно потесниться, предоставляя место для рассуждений о политических событиях и государственных интересах. Академия была обязана принимать участие в народных торжествах по случаю военных побед Петра I. В аллегорических эмблемах, символах, составленных для украшения триумфальных арок, использовавшихся в театрализованных представлениях, организуемых в Славяно-греко-латинской академии, изображался не один, а два «высших мира», «первый из которых традиционно восходит преимущественно к богословским понятиям, а второй составляется из понятий и символов политического характера» (28, 235—236). Победоносная Россия занимала равное место с благочестием и правоверием, более того, благочестие порой укрывалось под крылом российского Орла: политический символ главенствовал над церковным.
На судьбе Славяно-греко-латинской академии непосредственно сказывалась борьба различных идейно-политических направлений. Сторонники церковной автономии старались превратить ее в сугубо духовное училище, освобожденное от обязанностей, налагаемых светскими властями. После смерти Петра I были предприняты попытки ее реорганизации. В 1827 г. ужесточились правила приема в академию, преследовалась цель изменить социальный состав учащихся, к учебе допускались главным образом дети духовенства, привилегированных сословий. Поступление Ломоносова совпало именно с этим периодом, и ему пришлось, по некоторым источникам, назваться сыном холмогорского дворянина (см. 6, 72). Но реорганизация не удалась, академия продолжала оставаться практически всесословным учебным заведением. Превращение Славяно-греко-латинской академии в высшую богословскую школу, полностью подчиненную интересам церкви, произошло лишь в конце XVIII в., когда в стране была уже сформирована система светского образования, включая высшие, университетские его ступени.
За годы учебы Ломоносов получил хорошую подготовку в словесности, многое он мог почерпнуть, пользуясь книгами академической библиотеки. Судить об идейной атмосфере, царившей в стенах академии, пожалуй, лучше всего по содержанию философских курсов, которые читались в первые десятилетия XVIII в. В них сочетались элементы поздней схоластики, возрожденческого гуманизма и идей Нового времени. Широко было представлено характерное для Возрождения смешение античного наследия и христианства. Имена античных мыслителей, историков, ученых непременно включались в лекции по философии; курсы риторики и поэтики давали довольно полное представление о всех жанрах античной поэзии.
Идеи Нового времени преподносились более сдержанно. В лекциях Ф. Лопатинского, например, сообщалось, что ныне «первое место занимает картезианская философия», но, похвально отзываясь о Декарте как о «звезде Европы, сокровище Швеции» (см. 73, 108), он поддерживал далеко не все его идеи. Профессора, читавшие философию после Лопатинского, полнее опирались на Декарта; в 30-е годы Георгий Щербацкий, излагая раздел физики, объявлял себя сторонником картезианства.
В философии усиленно подчеркивалась роль вторичных причин, не связанных с трансцендентным миром, идеи божественного творения тускнели, постоянное обращение к ним уже не было столь обязательным.
В натурфилософских работах Феофана Прокоповича, который принимал непосредственное участие в судьбе Ломоносова в годы его академической учебы, основным понятием стало природное (физическое) тело. У него появилась своеобразная трактовка материи и формы. В отличие от распространенных представлений средневековой теологии – материя по своей сущности не имеет существования, но получает его от формы, причастной к божественным идеям, чистому бытию,– он утверждал, что материя обладает собственным существованием, проистекающим из ее природной сущности. Прокопович подчеркивал значение естественного закона, распространяемого даже на творца: бог, правда, «сам себя», но все же «связал законами» (см. 73, 21; 37).
В лекциях назывались имена естествоиспытателей XVI—XVII вв., обсуждалось учение Н. Коперника, чаще всего с негативными комментариями, упоминались работы идеологов раннего Просвещения – Ю. Липсиуса, Г. Гроция, С. Пуфендорфа, т. е. закладывались первоначальные представления о теориях естественного права и общественного договора. Последнее не удивительно, так как переводчик этих книг, автор предисловий к ним Г. Бужинский несколько лет был префектом, т. е. профессором философии в академии. По своим взглядам он приближался к идеологии раннего Просвещения.
Ломоносов усердно пользовался академическим книжным собранием, «в свободное от учения время сидел он в... библиотеке и не мог начитаться» (58, 52). В год его поступления в академию библиотека получила заметное пополнение за счет переданных ей книг Г. Бужинского, среди которых были ценные издания той поры. В библиотеке хранились летописи, богословские труды, издания античных авторов в очень хорошем подборе, книги по политическим и юридическим вопросам, истории и географии, множество лексиконов, грамматик и других пособий для изучения древних и новых языков. Были сочинения Э. Роттердамского, Р. Декарта, Г. Гроция, С. Пуфендорфа.
В первой четверти XVIII в. в стране интенсивно развертывалась издательская деятельность, при этом значительную часть публикаций (если не принимать во внимание всевозможные царские манифесты и указы) составляла естественнонаучная и техническая литература. Печатались книги по прикладной математике, механике, астрономии, географии, нужные в военном и гражданском строительстве, в мореходном деле.
Литература такого рода тоже была представлена в академической библиотеке, хотя и в небольшом количестве. Вероятно, Ломоносов не оставил без внимания «Сокращение математическое» (СПб., 1728), учебное пособие, составленное Я. Германом и Ж. Н. Делилем, членами недавно созданной Санкт-Петербургской Академии наук. Помимо арифметики, геометрии, тригонометрии в пособие включались сведения по астрономии и географии, основам фортификации, инженерного искусства. Издания последних лет Ломоносов мог видеть не только в академической библиотеке; неподалеку от академии, на Спасском мосту, располагался самый крупный в Москве книжный торг, здесь же обосновалась «Библиотека» Киприяновых, книжная лавка, в которой желающим предоставлялась возможность прочесть интересующую их книгу. У Киприянова можно было найти серьезные издания: ученые записи Петербургской Академии наук – «Комментарии», выходившие на латинском языке, «Краткое описание Комментариев» на русском языке, экземпляры журнала «Исторические, генеалогические и географические примечания к „Ведомостям“», являющегося приложением к первой русской печатной газете «Санкт-Петербургские ведомости». Журнал издавался с 1728 г. Петербургской Академией наук; по своему характеру он был преимущественно научно-популярным изданием. На его страницах обсуждались проблемы гелеоцентризма, множественности миров, велась бескомпромиссная борьба с астрологией, мистической верой в чудо, подчеркивалась необходимость поиска естественных причин.
Славяно-греко-латинская академия отставала от новой литературы, идеи которой открывали горизонты принципиально иного типа культуры. Находясь в Москве, Ломоносов не мог не чувствовать разрыв между академическим преподаванием и теми передовыми стремлениями, которые уже давали о себе знать в обществе. Он предпринимает попытку включиться непосредственно в ту деятельность, которая соответствовала бы духу времени, намереваясь отправиться в экспедицию для исследования и освоения закаспийских степей.
Экспедиционные исследования страны, картографические съемки сделали большие успехи в первые десятилетия XVIII в. С 1703 по 1720 г. интенсивно исследовался район Каспийского моря. Материалы, собранные Е. Мейером, А. Бековичем-Черкасским, А. Кожиным, К. фон Верденом и Ф. Соймоновым, позволили составить подробную карту берегов Каспийского моря. В 1720 г. по распоряжению Петра I ученики Петербургской морской академии, обучавшиеся геодезии и географии, были отправлены в различные губернии России «для сочинения ландкарт». Эти карты были изданы в 1734 г. Иваном Кирилловым в первом русском атласе, вышедшем под латинским заглавием «Atlas Imperii Russici etc.».
Географические исследования этого периода отличались не только большим объемом работ, но и смелостью идей, масштабностью задач – создание первого русского атласа, разработка проекта соединения Волги с Доном, исследование Сибири, поиски по трассе Северного морского пути и выяснение загадки, интересовавшей не только Россию, но и всю просвещенную Европу: соединяется ли Евроазиатский материк с Америкой сушею, или же их разделяет пролив?
В 1734 г. И. К. Кириллов, известный как «великий рачитель и любитель наук, а особливо Математики, Механики, Истории, Економии и Металлургии» (85, 233), получил разрешение на организацию экспедиции в закаспийские степи. Кириллов многое сделал для создания научной картографии в России. Ему принадлежит один из первых в России статистических трудов – «Цветущее состояние Всероссийского государства, в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий». В этом сочинении – полный перечень заводов и фабрик, существовавших к концу царствования Петра, дана роспись государственных доходов и расходов, помещены сведения о городах, епархиях, церквах, монастырях, школах.
Для экспедиции нужен был священник, Кириллов запросил его в Славяно-греко-латинской академии. Выбор пал на Ломоносова, и он, стремясь изменить свое положение, дал согласие. Кажется, он понравился Кириллову, сообщившему начальству, что «тем школьником по произведении его во священство будет он доволен» (6, 70). Чтобы принять сан священника, Ломоносову пришлось сказать, что он происходит из духовенства, но обман раскрылся, и экспедиционные планы остались неосуществленными.
Примерно в то же время поиски своего пути привели Ломоносова в Киево-Могилянскую академию, но и там он не нашел «лекций по физике и философии, которых добивался». Он вынужден был возвратиться в Славяно-греко-латинскую академию и, как оказалось, шел навстречу «давно желанному случаю» (58, 24; 44).
Петербургская Академия наук время от времени обращалась в Московскую академию для набора учеников в свой университет. Первый набор был в 1732 г., когда в Петербург уехали 12 человек, в их числе С. П. Крашенинников, будущий известный натуралист, этнограф, исследователь Камчатки. В 1735 г. запрос повторился, начался отбор лучших учеников, и, естественно, Ломоносов оказался в числе двенадцати, посланных в университет Петербургской Академии. С января 1736 г. начался петербургский период в жизни Ломоносова.
Академии наук были новыми в Европе учреждениями, целью которых было развитие науки, основанной на экспериментальных исследованиях. Опыт получил признание исходного принципа и был положен в основу наук о природе. Фактически речь шла не только о развитии отдельных опытных наук. Создавалась новая картина мира, разрабатывалась натуральная философия, которая, согласно программе, созданной X. Гюйгенсом для Парижской академии наук, позволила бы перейти от познания действия к познанию причин. В новой системе воззрений разум, познающий мир, выдвигался в качестве гаранта благополучного человеческого существования, на него возлагалась, пожалуй, больше надежд, чем на божественное провидение.








