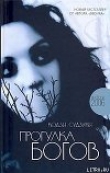Текст книги "Океан в конце дороги"
Автор книги: Нил Гейман
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
7
Следующий день не задался.
Родители уехали еще до того, как я проснулся.
За ночь похолодало, и небо было унылое, некрасивое, серое. Я прошел через комнату родителей на балкон, который тянулся во всю длину родительской спальни и детской, постоял там, глядя в небо и умоляя, чтобы Урсуле Монктон надоела эта игра и чтобы мне ее больше никогда не видеть.
Когда я спустился вниз, Урсула Монктон ждала меня у лестницы.
«Те же правила, что и вчера, маленький слухач, – предупредила она. – Выходить за пределы поместья запрещается. Если попробуешь, запру тебя в комнате на весь день, а родителям вечером скажу, что ты совершил отвратительный поступок».
«Они вам не поверят».
Она приторно улыбнулась. «С чего ты взял? А если я им скажу, что ты вытащил своего дружка из штанов, изгадил весь пол на кухне, и мне пришлось мыть его с хлоркой? Думаю, поверят. Я ли не сумею их убедить?»
Я пошел из дома в лабораторию. Съел там оставшиеся фрукты. И принялся за «Сэнди не проведешь», еще одну мамину книжку. Сэнди была храбрая, но бедная школьница, которую случайно отправили в элитную школу, где ее все ненавидели. В результате она разоблачила учителя географии, оказавшегося агентом Коминтерна и державшего в заточении настоящего географа. Кульминация пришлась на школьное собрание – Сэнди отважно поднялась со словами: «Я знаю, меня не должны были послать сюда. Это из-за ошибки в документах я попала к вам, а Сенди, которая пишется через „е“, – в обычную муниципальную школу. Но я благодарю провидение, что оно привело меня сюда. Потому что мисс Стриблинг – не та, за кого себя выдает».
И в конце Сэнди бросились обнимать люди, которые до этого ее ненавидели.
Отец вернулся с работы рано – на моей памяти он давно так рано не возвращался.
Я хотел поговорить с ним, но он все время был не один.
Я наблюдал за ними сверху, сидя на ветке моего бука.
Сначала он провел Урсулу Монктон по всему саду, с гордостью показывая розы, кусты черной смородины, вишневые деревья, азалии, как будто сам имел к ним какое-то отношение, как будто не мистер Уоллери рассаживал их и ухаживал за ними на протяжении пятидесяти лет, пока мы этот дом не купили.
Она смеялась всем его шуткам. Я не мог расслышать, что он говорит, зато мне была видна его косая ухмылка, которая возникала на отцовском лице от сознания, что он шутит.
Она стояла слишком близко к нему. Иногда он опускал ей на плечо руку, словно они были друзья. Я беспокоился, слишком близко он стоял к ней. Он не знал, кто она. Она – чудовище, а он думал – она обычный человек, и потому относился к ней дружелюбно. Сегодня она была одета иначе: серая юбка, их называют «миди», и розовая кофточка.
В любой другой день, увидев отца в саду, я бы побежал к нему. Но не сегодня. Я опасался, что он рассердится, или Урсула Монктон скажет ему что-то такое, от чего он рассердится на меня.
Я ужасно боялся, когда он злился. Его лицо (заостренное и обычно приветливое) наливалось кровью, и он кричал, орал во весь голос, яростно, что меня буквально вводило в ступор. И я не мог думать.
Он никогда не бил меня. Он не верил в битьё. Он частенько говорил нам, что его отец колотил его, что мать гонялась за ним с метлой, и что сам он выше этого. Когда он сильно злился и срывался на крик, то потом, бывало, напоминал, что не ударил меня, словно я должен быть ему благодарен. В моих книжках про школу плохое поведение часто каралось палкой или тапочкой, потом прощалось и забывалось, и моментами я завидовал этим воображаемым детям, безыскусной чистоте их жизней.
Мне не хотелось приближаться к Урсуле Монктон – не хотелось рисковать и злить отца.
Я прикидывал, стоит ли сейчас попытаться и проскользнуть за ограду, помчаться вниз по проселку, но был уверен, что если попробую, то придется смотреть на разъяренное лицо отца рядом с безмятежно-пригожим лицом Урсулы Монктон.
И я просто наблюдал за ними, сидя на огромной ветке бука. Когда они скрылись из виду за кустами азалии, я спустился вниз по веревочной лестнице и пошел в дом, на балкон, чтобы следить оттуда. На улице хмурилось, но повсюду были россыпи нарциссов, масляно-желтых и белых – с бледными лепестками и темно-оранжевой сердцевиной. Отец нарвал нарциссов и подарил Урсуле Монктон, она рассмеялась, что-то сказала и сделала реверанс. Он в ответ поклонился, тоже что-то сказал, и опять она засмеялась. Наверное, он объявил себя ее рыцарем в сияющих доспехах или вроде того.
Я хотел окрикнуть его, предупредить, что он дарит цветы монстру, но не крикнул. Просто стоял на балконе и смотрел, а они не глядели наверх и меня не видели.
В моем сборнике мифов Древней Греции было написано: нарцисс назван по имени одного красивого юноши, настолько прекрасного, что он влюбился в самого себя. Увидев свое отражение в воде, он так и не смог оторваться от него и в конце концов умер, а богам пришлось превратить его в цветок. Я читал, и мне представлялся самый прекрасный цветок в мире. Как же я был разочарован, узнав, что это просто белый нарцисс.
Из дома показалась сестра и побежала к ним. Отец подхватил ее на руки. Они пошли по саду вместе – отец с сестрой, обнявшей его за шею, и Урсула Монктон с желто-белым букетом в руках. Я наблюдал за ними. И видел, как свободная рука отца, та, что не держала сестру, опустилась и, невзначай встретившись с юбкой Урсулы Монктон, властно легла туда, где у края ткань принимала очертания тела.
Сейчас бы я воспринял это иначе. А тогда я вряд ли думал об этом. Мне было семь.
Я залез в окно нашей комнаты, до него было легко достать с балкона, спрыгнул на кровать и открыл книгу про девочку, которая осталась на Нормандских островах, не побоявшись нацистов, потому что не хотела бросать своего пони.
Пока я читал, мне пришла в голову мысль, что Урсула Монктон не может меня держать здесь вечно. Скоро – самое большее через несколько дней – меня возьмут в город или куда-нибудь увезут, и я пойду на ферму на тот конец проселка рассказать Лэтти, что я наделал.
А потом я подумал, что, может, Урсуле Монктон всего-то и нужнопарочку дней. И испугался.
На ужин Урсула Монктон приготовила мясной рулет, и я к нему не притронулся. Я решил не есть ничего, что она приготовит или к чему прикоснется. Отцу это не казалось забавным.
«Но я не хочу, – объяснял я ему. – Я не голодный».
Была среда, и мама уехала на встречу собирать деньги, чтобы жители Африки, которым не хватало воды, смогли нарыть себе колодцев. Встреча проходила в клубе в соседней деревне. Мама приготовила плакаты, чертежи колодцев и фотографии радостных людей. За ужином были сестра, отец, Урсула Монктон и я.
«Это полезно, это же пойдет тебе на пользу, а как вкусно, – убеждал меня отец. – И мы в этом доме еду зазря не выбрасываем».
«Я же сказал, я не голодный».
Я соврал. Есть хотелось до рези в желудке.
«Ну, хоть кусочек попробуй, – продолжал он. – Это же твое любимое блюдо. Мясной паштет, картофельное пюре с подливкой. Ты же все это любишь».
В кухне стоял стол для детей, за ним мы ели, когда к родителям приходили друзья или когда они ужинали поздно. Но сегодня мы ели за взрослым столом. Мне больше нравился детский. Там я чувствовал себя невидимкой. Никто не смотрел, как я ем.
Урсула Монктон сидела рядом с отцом и не сводила с меня взгляд, чуть приметно улыбаясь – самыми уголками губ.
Я знал, что нужно держать язык за зубами, молчать, затаиться. Но я не смог удержаться. Я должен был сказать отцу, почему я не хотел есть.
«Я не буду есть то, что она готовит, – заявил я. – Мне она не нравится».
«Ты будешь есть, – ответил отец. – По крайней мере попробуешь. И попросишь прощения у мисс Монктон».
«Не буду».
«Ну, он же не обязан», – добродушно сказала Урсула Монктон, все так же глядя на меня и улыбаясь. Не думаю, будто сестра или отец заметили, что она улыбалась, или то, что ни в голосе, ни в улыбке, ни в ее глазах-дырках на истлевшей дерюге не было ни капли доброты.
«Боюсь, ему придется, – проговорил отец, – слегка повышая голос и немного краснея. – Я не позволю ему так грубить вам! – И он насел на меня: – Назови одну, хоть одну причину, почему ты не извинишься и не будешь есть замечательную еду, которую Урсула нам сготовила».
Я не очень хорошо врал. И сказал правду.
«Потому что она не человек, – стал объяснять я. – Она – монстр. Она… – Как же Хэмпстоки их называли? – Она – блоха».
Теперь щеки отца пылали, губы сжались в тонкую линию. «Вон из-за стола. В коридор. Сию же минуту», – процедил он.
У меня упало сердце. Я сполз со стула и побрел за ним в коридор. Там было темно: лишь узкая полоска света пробивалась с кухни через окошко над дверью. Отец смерил меня взглядом. «Ты пойдешь на кухню. Попросишь прощения у мисс Монктон. Съешь все, что тебе положили, а затем тихо, без выкрутасов, отправишься прямиком наверх спать».
«Нет, – возразил я. – Не пойду и есть не буду».
И припустил по коридору, завернул за угол и помчался вверх, барабаня ногами по ступенькам. Я не сомневался, что отец побежит за мной. Он был вдвое больше и быстрее, но бежать было недалеко. В доме имелась только одна комната, где я мог закрыться, туда я и стремился – наверх, влево, в конец коридора. Я добрался до ванной, опередив отца. Громко захлопнул дверь и щелкнул маленькой блестящей задвижкой.
Он не побежал за мной. Наверное, подумал, что гоняться за ребенком – выше его достоинства. Но через несколько секунд я услышал стук, а затем и голос: «Открой дверь».
Я ничего не ответил. Опустил стульчак и сел на плюшевую крышку, в это мгновение я ненавидел его почти как Урсулу Монктон.
В дверь стукнули посильнее. «Не откроешь дверь, – сказал он громко, чтобы мне было слышно сквозь дерево, – я ее выломаю».
Был ли он способен на это? Я не знал. Дверь была закрыта. Двери закрывались, чтобы люди не входили. Закрытая дверь означала, что ты внутри, и если кто-то хочет в ванную, то дергает дверь, она не открывается, он кричит: «Извини!» или «Ты там еще надолго?» и…
Дверь проломилась внутрь. Маленький блестящий шпингалет повис, весь изломанный и погнутый; в дверном проеме, заполнив его целиком, стоял отец с расширенными, побелевшими глазами, щеки у него пылали от гнева.
«Ну хорошо», – сказал он.
Больше он ничего не сказал, но его рука вцепилась в мое левое предплечье с такой силой, что мне никогда бы не удалось вырваться. Я ждал, что он сделает дальше. Ударит меня, отошлет в комнату или будет орать так, что мне отчаянно захочется умереть?
Он ничего такого не сделал.
Он толкнул меня к ванне. Наклонился, сунул белую пробку в сливное отверстие. И открыл холодную воду. Вода потоком хлынула из крана, брызгами разлетаясь по белоснежной эмали, и стала медленно, но верно заполнять ванну.
Вода лилась с шумом.
Отец обернулся к открытой двери. «Я сам справлюсь», – сказал он Урсуле Монктон.
Она стояла в проеме и держала за руку сестру с участливым, озабоченным видом, но в глазах светилось торжество.
«Закройте дверь», – велел отец. Сестра начала хныкать, и Урсула Монктон, как могла, прикрыла дверь, но не плотно – мешала сорванная петля и сломанный шпингалет.
Мы остались с отцом один на один. Его щеки из красных сделались белыми, губы были сжаты, и я не понимал, что он собирается делать, зачем набирает ванну, но я был напуган, очень напуган.
«Я извинюсь, – лепетал я. – Попрошу у нее прощения. Я не это имел в виду. Она не монстр. Она… она красивая».
Он ничего не ответил. Ванна наполнилась, и он выключил воду.
Потом сгреб меня. Своими огромными ручищами подхватил за подмышки и поднял с такой легкостью, словно я вовсе ничего не весил.
Я смотрел на него, на его решительное лицо. Прежде чем подняться наверх, он снял пиджак. На нем была светло-голубая рубашка и темно-бардовый галстук с огуречным узором. Он расстегнул ремешок от часов и стряхнул их с руки на подоконник.
Тут до меня дошло, что он собирается сделать, я рванулся и стал молотить его кулаками, но без толку, он опустил меня в холодную воду.
Меня охватил ужас, но вначале это был ужас от того, что происходящее не укладывается в установленный порядок вещей. Я был полностью одет. Это неправильно. На мне были сандалии. Это неправильно. Вода в ванне была холодная, такая холодная и такая неправильная. Вот что я подумал сначала, когда он сунул меня в воду, но он толкал дальше, пока моя голова и плечи не скрылись под этой холодной водой и на смену тому ужасу пришел другой. Я подумал, что умру.
И, подумав так, я твердо решил жить.
Я начал сучить руками, пытаясь найти что-нибудь и ухватиться, но ничего не попадалось, только скользкие края ванны, в которой я купался последние два года. (Я прочел много книг в этой ванне. Это было одно из тех мест, где я чувствовал себя в безопасности. А теперь меня ждала здесь верная смерть.)
Я открыл глаза под водой и увидел – прямо надо мной мотался мой шанс на спасение, отцовский галстук, и я ухватился за него обеими руками.
Отец толкал меня вниз, а я карабкался вверх, крепко сжимая галстук, цепляясь за него, как за жизнь, пытаясь выбраться из этой ледяной воды, я держался за него так сильно, что отец не мог обратно запихнуть меня в ванну, сам не угодив туда.
Мое лицо теперь вышло из-под воды, и я вцепился зубами в галстук у самого узла.
Мы боролись. Я был весь мокрый и не без удовольствия отметил про себя, что он тоже вымок, что голубая рубашка прилипла к его огромному телу.
Он снова навалился на меня, но страх смерти дает нам силы: мои руки и зубы тисками сжимали галстук, и он не мог ослабить эту хватку, не ударив меня.
Отец меня не ударил.
Он выпрямился, со всплеском вытаскивая из ванны меня, промокшего, злого, плачущего и напуганного. Я разжал зубы, но галстук из рук не выпустил.
Он сказал: «Ты испортил мне галстук. Отпусти». Узел на галстуке стал величиной с горошину, подкладка намокла и вывалилась. Он добавил: «Радуйся, что матери нет дома».
Я отпустил, плюхнувшись на мокрый ковер. И немного попятился к унитазу. Он, посмотрев на меня, произнес: «Иди в комнату. Чтобы сегодня вечером я больше тебя не видел».
Я пошел в комнату.
8
Меня била дрожь, я промок насквозь, и мне было холодно, очень холодно. Словно все мое тепло украли. С прилипшей к телу одежды капало. С каждым шагом сандалии смешно хлюпали и через дырку-ромбик на носке плевались водой.
Я скинул с себя все вещи, свалив их мокрой грудой на изразцовом полу у камина, и под ними тут же образовалась лужа. Взяв с каминной полки коробку спичек, я открыл газ и зажег огонь.
(Я смотрел на пруд, и в памяти всплывали невероятные вещи. Почему самым невероятным мне казалось то, что у пятилетней девочки и семилетнего мальчика в комнате был газовый камин?)
Полотенец в комнате не было, и я стоял мокрый, раздумывая, чем бы вытереться. Пришлось взять с кровати тонкое стеганое покрывало и вытереться им, а затем надеть пижаму. Она была из красного нейлона, блестящая и в полоску, с запекшейся отметиной на левом рукаве – однажды я слишком близко наклонился к камину, и рукав загорелся, хотя каким-то чудом рука осталась нетронутой.
На двери висела моя ночная рубашка, почти ненадеванная, и ее тень расползалась по стене во всю ширь, принимая чудовищные очертания при свете из коридора в ночь незакрытой двери. Я надел ее.
Дверь отворилась, сестра пришла забрать из-под подушки свою сорочку. Она стала дразниться: «Ты вел себя очень плохо, мне даже в одной комнате с тобой быть не разрешают. Я пойду спать к маме и папе в кровать. И папа говорит, мне можно включить телевизор».
У родителей в комнате, в углу, стоял старый телевизор в коричневом деревянном корпусе, его почти не включали. На нем дергалось изображение, смазанные черно-белые кадры прыгали, и, подгоняя друг друга, складывались в медленную вереницу: головы людей исчезали внизу экрана, когда сверху на них неторопливо опускались ноги.
«Ну и ладно», – ответил я.
«Папа сказал, ты испортил ему галстук. И еще папа из-за тебя весь мокрый», – с удовлетворением в голосе продолжала сестра.
Урсула Монктон стояла у двери. «Мы с ним не разговариваем, – напомнила она сестре. – И не будем разговаривать, пока ему не разрешат снова выйти к семье».
Сестра выскользнула из нашей комнаты, направляясь в соседнюю – к родителям. «Ты – не моя семья, – сказал я Урсуле Монктон. – Когда мама вернется, я расскажу ей, что сделал папа».
«Ее дома не будет еще два часа, – заметила Урсула Монктон. – И потом, какая разница, что ты ей скажешь? Она же ему в рот смотрит, так ведь?»
Так оно и было. Они всегда выступали сплоченным единым фронтом.
«Не стой у меня на дороге, – пригрозила Урсула Монктон. – У меня тут свои дела, а ты постоянно мешаешь. В следующий раз будет гораздо хуже. В следующий раз запру тебя на чердаке».
«Я тебя не боюсь», – ответил я ей. Но я боялся, боялся ее больше всего на свете.
«Жарко здесь», – проговорила она с улыбкой. Потом подошла к камину, наклонилась и, выключив его, забрала с полки спички.
«Все равно ты – просто блоха», – сказал я.
Она перестала улыбаться. Дотянулась до перемычки над дверью – ребенок так высоко не дотянется – и стащила оттуда ключ. Вышла из комнаты и закрыла дверь. Я услышал, как повернулся ключ, как, щелкнув, сработал замок.
Через стенку говорил телевизор. Хлопнула коридорная дверь, отрезав две комнаты от всего остального дома, и я понял, что Урсула Монктон спускается вниз. Я подбежал к двери и, сощурившись, заглянул в замочную скважину. Из книжек я знал, что можно карандашом вытолкнуть ключ вниз на лист бумаги и выбраться на свободу… но ключа в скважине не было.
И я заплакал, окоченевший и все еще мокрый, в этой комнате, заплакал от боли, злости и ужаса, заплакал без стеснения, зная, что никто не войдет и не увидит меня, и не станет обзывать плаксой, как обзывали в школе мальчишек, которые имели глупость расплакаться.
В окно мягко забарабанил дождь, и даже это меня не обрадовало.
Я плакал, пока слезы не кончились. Потом несколько раз жадно глотнул воздуха и подумал – Урсула Монктон, косматое чудовище из дерюги, червь и блоха, поймает меня, попытайся я покинуть поместье. Наверняка.
Но Урсула Монктон заперла меня. Она не ожидала, что я сбегу.
И, может быть, если повезет, ее отвлекут.
Я открыл окно и прислушался к ночным шорохам. Легонько шумел, почти шелестел дождь. Ночь выдалась холодная, а я и так порядком озяб. Сестра в соседней комнате смотрела телевизор. Она ничего не услышит.
Я вернулся к двери и выключил свет.
Прошел по темной комнате и снова забрался на кровать.
Я в постели,мысленно твердил я. Лежу в постели и расстраиваюсь. Скоро усну. Я в постели, я отчаялся, она победила, и если она захочет проверить, я в постели и сплю.
Я в постели, я засыпаю… Даже глаза разлепить не могу. Сон накатывает. Я быстро засыпаю, в постели…
Я встал на кровать и вылез в окно. Секунду повисел и спрыгнул на балкон тише тихого. Это было несложно.
Пока я рос, я вычитал в книгах столько примеров для подражания. По большей части они научили меня, что и когда нужно делать, как себя вести. Они были мне советчиками и наставниками. В книгах мальчишки лазили по деревьям, и я тоже лазил, иногда очень высоко, всегда опасаясь свалиться. В книгах забирались в дом и вылезали оттуда по водосточной трубе, и я тоже карабкался и спускался по водостоку. То были старые добрые трубы, тяжелые, из железа, привернутые к кирпичной стене, не сегодняшние пластиковые пустышки.
Я никогда еще не лазил по водосточной трубе в темноте и под дождем, но я знал, где зацепиться ногой. Еще я знал, что упасть с высоты в двадцать футов на мокрую клумбу – не самое страшное, страшнее было то, что моя труба шла вдоль окна гостиной, где точно сидели у телевизора Урсула Монктон с отцом.
Я старался не думать.
Я полез на стену у балкона, потянулся и нащупал железную трубу, холодную и скользкую от дождя. Ухватился и, сделав большой шаг к ней, пристроил босую ногу на металлическую скобу, которая опоясывала водосток и крепко держала его на кирпичах.
Я двигался вниз, поочередно переставляя ноги и воображая себя Бэтменом, воображая себя сотней героев и героинь из историй про школу, а потом, опомнившись, я принялся воображать себя каплей дождя на стене, на кирпичной кладке, на дереве. Я лежу на кровати,мысленно повторял я. Меня здесь нет, нет подо мной этого света, рвущегося из незашторенной гостиной и превращающего дождь на стекле в сетку из блестящих линий и черточек.
Не смотри на меня,думал я. Не выглядывай в окно.
Я медленно пополз дальше. Так бы я перешел на карниз, но только не в этот раз. Осторожно я преодолел еще несколько дюймов, и, поглубже спрятавшись в тень, подальше от света, с ужасом заглянул в комнату, ожидая встретить взгляд отца и Урсулы Монктон.
В комнате было пусто.
Горел свет, работал телевизор, но на диване никого не было, и дверь в коридор была открыта.
Я легко перешагнул на карниз, отчаянно надеясь, что они не вернутся и не увидят меня, потом спрыгнул на клумбу. Мокрая земля была мягкой.
Я собрался бежать, бежать без оглядки, но заметил свет в большой гостиной – отделанной дубом комнате, которую открывали по особым случаям, и куда детям ходить запрещалось.
Гардины были задернуты. Они были зеленые, бархатные, в белую полоску, сквозь щели в ткани просачивался свет, рассеянный и золотистый.
Я приблизился к окну. Шторы были неплотно опущены. Я мог заглянуть в комнату и посмотреть, что там делается.
Я не очень понимал, что происходит у меня на глазах. Отец прижимал Урсулу Монктон к большому камину у дальней стены. Он стоял спиной ко мне. Она тоже, руками упираясь в огромную каминную полку. Он обхватил ее сзади. Юбка была задрана и моталась у нее вокруг талии.
Я толком не понял, что они делали, да и мне было все равно в тот момент. Главное, что Урсула Монктон отвлеклась от меня; я повернул прочь от щели в занавесках, от этого света, от дома и босиком бросился наутек в дождливую темень.
Хотя было не так уж темно. Стояла облачная ночь – из тех, когда кажется, что облака собирают свет дальних уличных фонарей и домов, возвращая его обратно на землю. Я смог различать предметы, как только глаза освоились. Я помчался в конец сада, мимо компостной кучи, по косогору к проселку. Ежевичные шипы кололись и впивались в ноги, но я продолжал бежать.
Я перелез через низкую металлическую ограду на проселок. Оказавшись за пределами поместья, я почувствовал, будто бы головная боль, которой я, сам того не подозревая, мучился, вдруг рассеялась. Я тут же торопливо зашептал «Лэтти? Лэтти Хэмпсток?», мысленно повторяя, Я в кровати. Мне все это снится. Такие живые сны. Я в кровати,правда, я думал, что в тот момент Урсуле Монктон было не до меня.
Я бежал, а перед глазами стоял отец, его руки, обвившие эту-якобы-экономку, вот он целует ей шею, вот держит меня в ванне, его лицо сквозь ледяную толщу воды – я больше не боялся того, что случилось в ванной; я боялся того, что означал этот поцелуй в шею и отцовские руки, задравшие юбку Урсуле Монктон.
Мои родители были единым целым, неприкосновенным и нераздельным. Будущее вдруг стало зыбким: могло произойти все, что угодно; поезд моей жизни сошел с рельсов и теперь несся вместе со мной через поля по проселку.
Я бежал, и проселочная галька корябала ноги, но мне было все равно. Я был уверен, что скоро это существо, Урсула Монктон, закончит свои дела с отцом. Может, они вместе пойдут наверх проверить меня. Она обнаружит, что я сбежал и погонится за мной.
Я прикинул, если они и станут ловить меня, то на машине.Я покрутил головой в поисках какой-нибудь прорехи в живой изгороди у проселка. Заметил деревянный перелаз, вскарабкался по нему и помчался через луг, босой, в липнущей к ногам, мокрой до колена пижаме и ночной рубашке, и сердце грохотало в груди, как самый большой, самый мощный в мире барабан. Я бежал, не думая про коровьи лепешки. На лугу ногам было вольготнее, чем на галечном проселке. По траве бежать было радостнее, я острее чувствовал жизнь.
Позади пророкотал гром, хотя молнии не было видно. Я перелез через ограду, и нога ушла в податливую, свежевспаханную землю. Я заковылял через поле, иногда падая, но продолжая идти. Снова перелаз, и снова поле, на сей раз невспаханное – я шел по нему вдоль живой изгороди, боясь выходить на открытое место.
Вдруг темноту прорезал слепящий свет, на проселке показалась машина. Я застыл на месте, зажмурил глаза и вообразил себя спящим в постели. Машина, не затормозив, скрылась, лишь вдалеке виднелись красные отблески фар: это был белый фургон, который вроде бы принадлежал Андерсам.
Теперь проселок казался еще опаснее, и я припустил через луг. Добежал до следующего поля, увидел изгородь из натянутой проволоки – сквозь такую легко пролезть, и она не колючая, но только я ухватился за проволочную нить, потянул вверх, готовый нырнуть в щель, как…
Меня словно ударили, и ударили со всего маха, в грудь. Рука, сжимавшая проволоку, конвульсивно дергалась, ладонь горела, будто я только что локтем врезался в стену.
Я отпустил электрический провод и, спотыкаясь, побрел дальше. Бежать я уже не мог, но все равно шел в темноте сквозь ветер и дождь, торопливо пробираясь вдоль изгороди и стараясь не касаться ее, пока не добрался до жердяных ворот. Прошел ворота и устремился через поле в дальний конец, где было потемнее – деревья, подумал я, перелесок – от края поля я держался на расстоянии, на случай если там меня поджидает электрическая изгородь.
Я задумался, куда идти дальше. Как будто в ответ сверкнула молния, и на секунду, а мне больше и не нужно было, все осветилось. Я увидел деревянный перелаз и бросился к нему.
Вскарабкался. Прыгнул и понял, что угодил в крапивные заросли – голые ноги обожгло, пошли колючие мурашки, но я вновь бросился бежать – бежать, что есть силы. Я надеялся, что не сбился с пути. Не должен был сбиться. Еще одно поле осталось позади, и тут я понял, что больше не знаю, где проселок, то есть не знаю, где и я сам. Я знал одно: ферма Хэмпстоков – в самом конце проселка, но сейчас я блуждал посреди темного поля, тучи сгустились, ночь хоть глаз выколи, шел дождь, пусть уже и не сильный, а в темноте мне мерещились волки и призраки. Я старался остановить свою фантазию, запретить себе думать, но не мог.
И позади волков, призраков и ходячих деревьев мне виделась Урсула Монктон, она грозила, что если еще раз ослушаюсь, будет намного хуже, и она запрет меня на чердаке.
Я не был отважным. Я бежал от всего, мне было холодно, я вымок и заблудился.
Я закричал во весь голос: «Лэтти? Лэтти Хэмпсток! Ну отзовись же!», но ответа не последовало, да я его и не ждал.
Гром заворчал, зарычал, зашелся в низком протяжном рыке – лев, которого разозлили, и молния засверкала-замигала, как перегоревшая неоновая лампа. В свете зарниц я видел, что поле кончилось, живая изгородь встала сплошной стеной, прохода не было. Не было ни ворот, ни перелаза, кроме того – на другом конце поля, через который я сюда и попал.
Раздался треск.
Я посмотрел в небо. Я видел молнию в фильмах по телевизору – длинные, ломаные, ветвистые полосы света поперек тучи. Молния, которую я видел собственными глазами, была простой белой вспышкой сверху, как у фотоаппарата, выжигавшей на окоеме проплешины. Но тогда я в небе увидел не вспышку.
И не ветвистую молнию.
В небе змеился слепящий иссиня-белый свет. Он то гас, то снова вспыхивал, и его дробные всполохи освещали луг, так что я мог оглядеться. Дождь забарабанил сильнее, и, хлестнув меня по лицу, вмиг перешел в ливень, за считанные секунды ночная рубашка промокла до нитки. Но я успел увидеть – или мне только привиделось – дырку в изгороди справа и, не в силах уже бежать, засеменил к ней в надежде, что она и вправду там есть. Мокрая ночная рубашка хлопала на ветру, наводя на меня ужас.
В небо я больше не смотрел. И не оглядывался.
Но мне был виден край поля, и в изгороди на самом деле была прогалина. Я почти добрался до нее, когда раздался голос:
«Кажется, я сказала тебе оставаться в комнате. И что же я вижу, ты рыщешь по округе, как моряк-утопленник».
Я обернулся, посмотрел – пусто. Никого.
Я поднял голову.
Существо, называвшее себя Урсулой Монктон, висело надо мной в воздухе на высоте примерно двадцати футов, и молнии, сверкая, ползли по небу за ней. Она не летела. Она плыла, бесплотная, как воздушный шар, а порывистый ветер ее не трогал.
Он выл и хлестал меня по лицу. На отдалении ревел гром, и громы поменьше потрескивали и недовольно бурчали, а она говорила тихо, но я мог отчетливо слышать каждое слово, будто она шептала мне в ухо.
«Ах ты, душа-дорогуша, испугался, а ведь дело твое дрянь, доигрался».
Она улыбалась, и такого широченного и зубастого оскала у человека я еще не видел, только веселья на лице не было.
Я бежал от нее сквозь тьму уже, наверное, полчаса? Час? Зря я не остался на проселке и побежал в поля. Теперь был бы на ферме у Хэмпстоков. А вместо этого заблудился, да еще и попался.
Урсула Монктон спустилась ниже. Розовая блузка была расстегнута. Под ней виднелся белый бюстгальтер. Юбка развевалась на ветру, открывая икры ног. Непохоже было, чтобы Урсула Монктон промокла, несмотря на грозу. Ее одежда, лицо, волосы были совершенно сухими.
Она плыла надо мной и тянулась ко мне руками.
Каждое ее движение сопровождалось резкой вспышкой угодливых молний, которые сверкали и сплетались вокруг нее. Ее пальцы раскрывались, как цветы в замедленном фильме, и я знал, что она играет со мной, знал, чего она хочет, и ненавидел себя за то, что подчиняюсь ее желанию и бегу.
Я был для нее потешной зверушкой. Она играла, так же, как Монстр, толстый рыжий котяра, играл с мышью – отпуская ее, и когда та побежит, подцепляя ее когтем и подминая под лапу. Но мышь все бежала и бежала, и у меня не было выбора, и я бежал.
Бежал к проему в изгороди, как можно быстрее, бежал мокрый, спотыкаясь и калеча себя.
Я бежал, а в ушах звенел ее голос.
«Я же говорила, что запру тебя на чердаке? И я запру. Твой папочка теперь меня любит. Он сделает все, что я скажу. Я думаю, каждую ночь он будет залезать по приставной лестнице на чердак и выпускать тебя. Он будет волочить тебя вниз по лестнице. С чердака. И каждую ночь топить в ванне – в холодной-холодной воде. Я скажу топить тебя каждую ночь, а когда мне наскучит, прикажу не вытаскивать тебя, просто держать под водой, пока не прекратишь дергаться, пока в легких не останется ничего, кроме воды и темноты. Я заставлю его бросить тебя в холодной ванне, и ты больше никогда не шелохнешься. А я каждую ночь буду снова и снова его целовать…»
Я юркнул в проем и помчался по мягкой траве.
Треск молний и странный, резкий, металлический запах были так близко, что мороз пошел по коже. Иссиня-белые всполохи становились ярче и ярче, освещая все вокруг.