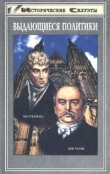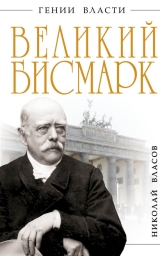
Текст книги "Великий Бисмарк. Железом и кровью "
Автор книги: Николай Власов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Однако Вильгельм не решался на данном этапе поставить во главе правительства человека, который явно будет стремиться обострить ситуацию. По его мнению, назначение Бисмарка министром-президентом окончательно перекрыло бы дорогу к компромиссу с парламентом. «Бешеного юнкера» стоило пока придержать в резерве. 26 мая Бисмарк, награжденный в ознаменование своих прежних заслуг орденом Красного орла первой степени, был направлен в качестве посла в Париж. На прощальной аудиенции король попросил его не обустраиваться слишком капитально, одновременно заметив в разговоре с Гогенлоэ: «Думаю, его надо отправить еще в Париж и Лондон, чтобы он повсюду познакомился с влиятельными людьми, прежде чем стать министром-президентом» [190]. Роон также сообщал своему протеже, что тот вряд ли надолго задержится во французской столице.
Уже 1 июня Бисмарк вручил свои верительные грамоты в Тюильрийском дворце. На самом деле его назначение в Париж было весьма удачным решением. Французская правящая элита, в первую очередь император, была в курсе того, что новый посол являлся сторонником франко-прусского сближения, поэтому отношение к Бисмарку было весьма благоприятным. В то же время, находясь во Франции, Бисмарк мог в случае необходимости быстро прибыть в прусскую столицу – по крайней мере, быстрее, чем из Петербурга. В Париже он, следуя указанию короля, не стал обустраиваться капитально и перевозить сюда семью. «Посреди большого Парижа я более одинок, чем ты в Рейнфельде, и сижу здесь как крыса в пустом доме. (…) Я ложусь в большую кровать с балдахином, длина которой равна ее ширине, и остаюсь единственным живым существом на всем верхнем этаже», – писал он Иоганне вскоре после прибытия [191].
В июне Бисмарк активно действовал сразу по двум линиям. С одной стороны, он вел активную переписку со своими берлинскими покровителями, в первую очередь с Рооном. В своих посланиях он демонстрировал жесткую позицию по вопросу о вхождении в прусский кабинет. Стать главой правительства, причем в короткие сроки, – такую задачу ставил перед собой Бисмарк. «Я спокойно ожидаю, будет ли решено и как что-нибудь относительно меня. Если в течение ближайших недель ничего не выяснится, то я буду просить об отпуске, чтобы привезти сюда жену; но в таком случае мне необходимо знать определенно, как долго я тут пробуду», – писал он Роону уже на следующий день после прибытия в Париж. «Надеюсь, в высших сферах не возникнет мысль назначить меня министром без портфеля (…) Это невыгодное положение: ничего не скажи и за все отвечай, всюду будь непрошеным гостем, а когда захочешь действительно заявить свое мнение, тебя оборвут» [192]. «Слишком долго неизвестность не может продолжаться, подожду до 11-го, – писал он несколько дней спустя, продолжая оказывать давление на Рона, а через него на короля. – Если до тех пор ничего не произойдет, то я напишу его величеству, что позволяю себе считать свое теперешнее назначение окончательным и устроить свои домашние дела в расчете на пребывание здесь до зимы и долее. Мои вещи и экипажи находятся еще в Петербурге, мне нужно куда-нибудь девать их; кроме того, мне свойственны привычки заботливого отца семейства и, между прочим, потребность иметь определенное место жительства» [193].
Одновременно Бисмарк воздействовал на Вильгельма, однако в несколько другом направлении. Прекрасно зная, что король не вполне доверяет ему, он стремился в своих донесениях рассеять существующие подозрения. Бисмарк подробно разъяснял свои взгляды, причем иногда делал это опосредованно. В донесении 7 июня он рассказывал о своей беседе с Наполеоном, в которой французский император высказался в том смысле, что «общественное мнение оценивает любое правительство по общему итогу его деятельности, и если оно симпатично нации, то необходимость и справедливость отдельных шагов не подвергаются строгой оценке», и в Пруссии «правительство, которое даст пищу и надежду национальному направлению общественного мнения, обеспечит себе положение, в котором оно будет стоять над борьбой партий и будет иметь по отношению к палатам такую меру власти и свободы действий, которая необходима монархии» [194]. Эрнст Энгельберг, цитируя эти строчки, предполагает, что Бисмарк вложил в уста французского императора свою собственную политическую концепцию. Во всяком случае, сказанное императором полностью соответствовало реальным взглядам обоих собеседников.
Вторым направлением стала активная дипломатическая деятельность. Пользуясь представившейся возможностью, Бисмарк стремился узнать точку зрения государственных деятелей различных европейских стран на германский вопрос и завязать полезные контакты. Основным его собеседником стал, конечно же, Наполеон III. В начале 1860-х годов именно Франция претендовала на то, чтобы выступать в роли ведущей державы Европы, и для проведения активной политики в германском вопросе необходимо было заручиться согласием Парижа. Бисмарк проводил аккуратный зондаж позиции Наполеона III, а французский император, в свою очередь, видел в нем дружественного своей стране дипломата и охотно шел навстречу. В начале июня Бисмарк писал Вильгельму, что Франция будет согласна с любым решением германского вопроса, кроме объединения страны под скипетром Габсбургов. «Я был в положении Иосифа у жены Потифара, – вторил он в письме к министру иностранных дел Берсторфу в конце июня. – У него на языке были самые неприличные предложения союза, и если бы я пошел им навстречу хоть немного, он выразился бы гораздо яснее. Он пылкий сторонник планов объединения Германии, имеются в виду планы малогерманские, без Австрии; как и пять лет назад, он высказал пожелание, чтобы Пруссия стала морской державой хотя бы второго ранга» [195]. Тем самым Бисмарк стремился подтолкнуть прусское руководство к активной политике в германском вопросе, одновременно умалчивая о том совершенно очевидном факте, что любовь французского императора к Пруссии была отнюдь не платонической – взамен он рассчитывал получить немецкие территории на левобережье Рейна, которые являлись объектом притязаний Парижа на протяжении многих десятилетий, если не веков. В своих воспоминаниях Бисмарк так описывал беседы с французским императором: «Во время беседы на политические темы дня и последних лет он неожиданно спросил меня, думаю ли я, что король склонен будет заключить с ним союз. Я отвечал, что король питает к нему самые дружеские чувства и что предрассудки против Франции, господствовавшие некогда в нашем общественном мнении, почти исчезли; однако союзы вызываются обстоятельствами, в соответствии с которыми определяется потребность в них и польза от них. Союз предполагает тот или иной мотив, определенную цель. Император оспаривал необходимость такой предпосылки; одни державы относятся друг к другу дружественно, в отношениях между другими это имеет место в меньшей степени. Перед лицом неопределенного будущего необходимо дать своему доверию то или иное направление. Говоря о союзе, он отнюдь не имеет в виду какого-либо авантюрного проекта; он видит общность интересов Пруссии и Франции и находит в них элементы тесного и прочного согласия. Было бы большой ошибкой пытаться создавать события; заранее нельзя рассчитать ни их направления, ни их размаха, но в ожидании их можно подготовиться, предусмотрительно принять необходимые меры, чтобы противостоять им и извлечь из них пользу. Император продолжал развивать идею «дипломатического альянса», при котором входит в обычай взаимное доверие и стороны привыкают рассчитывать друг на друга в затруднительных обстоятельствах» [196]. При этом Наполеон намекал на то, что получил со стороны венского кабинета весьма заманчивые предложения о сотрудничестве. Естественно, Бисмарк не собирался заключать союз без смысла и цели, который связал бы прусскому правительству руки, не давая ничего серьезного взамен. Тем более он не собирался предоставлять Франции компенсации, на которые она рассчитывала. Поэтому в беседах с императором дипломат предпочитал говорить как можно меньше, внимательно слушая своего собеседника.
В конце июня Бисмарк отправился в Лондон на открывшуюся там Всемирную выставку. Это дало ему прекрасный повод для того, чтобы пообщаться с британскими политиками. В течение недели он встретился с главой правительства лордом Пальмерстоном, министром иностранных дел лордом Расселом и главой консервативной оппозиции Бенжамином Дизраэли. Из этих разговоров он вынес ощущение того, что английская политическая элита не заинтересована ни в активной прусской политике в германском вопросе, ни в появлении на континенте новой державы. Одновременно он был разочарован тем прохладным приемом, который ему оказали – казалось, прусского дипломата вообще никто не принимает особенно всерьез. Российский посол в Англии граф Бруннов писал в эти дни Горчакову: «Отстраненность, которую встретил господин фон Бисмарк в Лондоне, его поразила тем сильнее, что он полагал, что вскоре сменит графа Бернсторфа в Берлине. Он думал, английские министры придадут больше значения тому, чтобы завязать с ним личное знакомство. Разочарованный в своих ожиданиях, он был почти зол на них из-за их отношения» [197]. Это свидетельство тем более ценно для нас, что сам Бисмарк в своих донесениях королю намеренно сгущал краски по поводу отсутствия перспектив взаимодействия с Лондоном. Продиктовано это было чисто политическими соображениями – противники Бисмарка при прусском дворе были сторонниками тесного сотрудничества с Британией, и, докладывая в Берлин о симпатиях английских политических деятелей к прусским либералам, он набирал себе очки. Британские политики на страницах его донесений беспардонно вмешивались во внутренние дела Берлина, причем в наиболее неприятной Вильгельму форме. Лорд Пальмерстон, писал Бисмарк, плохо разбирается в государственном устройстве Пруссии, но уверен, что король должен сформировать министерство из числа деятелей парламентской оппозиции, как будто дело происходит в Англии [198].
Тем временем вопрос с назначением Бисмарка главой прусского правительства продолжал висеть в воздухе, чем сам он был весьма недоволен. Временное назначение затягивалось, и вставал вопрос о том, что делать дальше – приводить в исполнение свою угрозу рассматривать его как постоянное или дальше ждать у берегов Сены известий о переменчивой берлинской погоде. Бисмарк выбрал третий вариант – он запросил длительный отпуск, который мог бы позволить ему восстановить силы перед возможным назначением главой правительства. «Я действительно нуждаюсь в подкреплении сил горным и морским воздухом; если мне суждена каторжная работа, то необходимо запастись здоровьем, а Париж действует на меня пока что плохо, при той собачьей жизни бездомного холостяка, какую мне приходится вести», – писал он Роону 15 июля [199]. Помимо всего прочего, пребывание в Париже теряло на ближайшие недели всякий смысл, поскольку большая часть представителей политической элиты отправилась на курорты, и прусскому послу было элементарно не с кем контактировать. В том же письме Бисмарк проводил подробный анализ сложившейся ситуации и разворачивал целую программу действий прусского правительства, включая собственное назначение министром-президентом:
«Министерство будет твердо и спокойно возражать против каких-либо ограничений военного бюджета, но не доведет дела до кризиса, а предоставит палате возможность всесторонне обсудить бюджет. Это закончится, я думаю, к сентябрю. Затем бюджет, который, как я предполагаю, окажется неприемлемым для правительства, поступит в палату господ, но лишь при наличии уверенности, что изуродованный проект бюджета будет ею отвергнут. Тогда, а в противном случае – до обсуждения бюджета в палате господ, можно будет возвратить его для вторичного пересмотра в палату депутатов, сопроводив его королевским посланием, в котором будет дана деловая мотивировка отказа короля утвердить подобный закон о бюджете и будет предложено подвергнуть бюджет новому рассмотрению. Тогда или несколько ранее надо будет, пожалуй, отсрочить на месяц сессию ландтага. Чем больше затянется это дело, тем более потеряет палата в общественном мнении, так как, придираясь к сущим мелочам, она уже допустила ошибку и будет допускать ее и далее, и так как у нее нет ни одного оратора, который не нагонял бы тоски на публику. Если бы удалось добиться, чтобы она стала придираться к таким пустякам, как перманентность палаты господ, начала бы ради них войну и затянула бы разрешение серьезных вопросов, то это было бы большим счастьем. Палата утомится, будет надеяться на то, что правительство теряет силы. (…) Когда она совсем размякнет, почувствует, что надоела стране, и будет нетерпеливо ждать уступок со стороны правительства, чтобы выпутаться из двусмысленного положения, тогда, по-моему, наступит момент показать ей моим назначением, что не может быть и речи об отказе от борьбы, а лишь о продолжении ее со свежими силами. Появление нового батальона в боевом строю кабинета произведет тогда, быть может, такое впечатление, какого теперь не достичь; если же предварительно еще и пошумят немного на тему об октроировании и государственном перевороте, тогда моя старая репутация человека безрассудной жестокости пригодится мне как нельзя более, и люди подумают: «Вот оно, начинается», – и тогда все центровики и половинчатые охотно пойдут на переговоры. (…) Если спросят моего мнения, то я скажу, что меня следует подержать еще несколько месяцев за кулисами. Быть может, я говорю все это впустую, быть может, его величество никогда не решится назначить меня, ибо я не знаю, почему бы это произошло теперь, если не произошло шесть недель тому назад.
Удивляюсь я все же политической бездарности наших палат; ведь мы все же очень просвещенная страна, даже чересчур просвещенная, – это не подлежит сомнению. Другие, наверное, тоже не умнее, чем те, которые составляют цвет наших трехклассных выборов, но у них нет той ребяческой самоуверенности, с какой наши выставляют напоказ, как нечто образцовое, свои импотентные срамные части во всей их наготе. Откуда у нас, немцев, репутация людей застенчивых и скромных? Среди нас нет таких, кто не считал бы, что он во всем – от ведения войны до ловли блох у собак – разбирается лучше, нежели все обученные своему делу специалисты, вместе взятые, тогда как в других странах есть все же не мало людей, допускающих, что они понимают в некоторых вещах менее других, довольствуются этим и помалкивают» [200].
Произведенный Бисмарком анализ ситуации во многом был основан на опыте революции 1848–1849 годов. Тогда парламент, пошумев несколько месяцев, в конце концов лишился общественной поддержки и был спокойно разогнан. Тактика, предлагаемая Бисмарком, предполагала схожее развитие событий и основывалась на допущении, что время работает на правительство. Однако лидеры либералов тоже помнили уроки революции и сделали из них определенные выводы. В отличие от прусского Национального собрания, нижняя палата ландтага стремилась сохранить тесный контакт с обществом и добиваться его поддержки, что ей в значительной степени удалось.
Прения в палате, развернувшиеся с особой силой с 11 сентября, быстро обнажили истинную подоплеку конфликта, гораздо более глубокую, чем простой вопрос о численности армии и военных расходов. Кто обладает властью в стране – король или парламент? Кому должна быть верна армия – монарху или народу, является ли она «королевской» или «парламентской»? По мнению прогрессистов, военный вопрос являлся «пробным камнем» всей конституции, «в нем обнаруживается, является ли конституционный строй в Пруссии действительностью, или же конституция представляет собой лишь ширму для абсолютизма» [201]. Вопрос о военной реформе перерос свои рамки и стал принципиальной политической проблемой власти в королевстве, «военный конфликт» превратился в «конституционный». Как справедливо писал М. Штюрмер, конфликт «был борьбой не за увеличение армии, как его часто рассматривают, а за лояльность вооруженных сил и их внутриполитическую роль, за ответственность правительства и его шанс в случае конфликта реализовать свое превосходство над парламентом» [202].
16 сентября палата вычеркнула из бюджета расходы на реорганизацию армии. В правящих кругах усиливались колебания – Роон настаивал на уступках, король упирался и твердил об отречении. Неделю спустя палата депутатов на окончательном голосовании по вопросу постановила в дополнение к отказу от экстраординарных расходов сократить обычные расходы почти на 15 процентов.
Бисмарк в этот момент находился далеко от эпицентра событий. 25 июля он отпра вился в отпуск на юг Франции. Через Блуа, Бордо и Байонну он приехал на знаменитый курорт Биарриц, где сполна насладился заслуженным отдыхом. Ежедневно два морских купания, длительные прогулки по горам, минимум информации из мира политики – все это способствовало отдыху и тела, и души. «Я весь в солнце и морской соли. (…) Сегодня мы гул яли с 7 до 10 часов утра, по скалам и лугам, потом я в одиночестве до полудня карабкался по обнажившимся при отливе утесам, затем 3 часа лежал лениво на диване, читал и дремал. Около трех часов дня я в воде, из которой с удовольствием не вылезал бы вообще; я оставался там полчаса и потом чувствовал себя так, словно для полета мне не хватает только крыльев. После еды мы катались верхом, в лунном свете при отливе вдоль побережья, а затем я снова продолжил свой путь в одиночестве. Сейчас десять, я ложусь спать, встану в шесть и дважды выкупаюсь с утра. Как видишь, я говорю только о себе, как старый ипохондрик; но что еще рассказывать о происходящем здесь, кроме того, что воздух и вода словно бальзам», – писал он жене 11 августа [203]. С каждым днем он, по собственному признанию, чувствовал себя на год моложе.
Здесь же, в Биаррице, Бисмарк встретил супружескую чету Орловых. Муж, ветеран Крымской войны, российской дипломатический представитель в Швейцарии, был значительно старше своей жены, 24-летней Екатерины, урожденной Трубецкой. Русская графиня стала, видимо, последней серьезной влюбленностью Бисмарка за всю его жизнь. Красивая, живая и естественная, она напомнила ему Марию фон Тадден. «Рядом со мной прекраснейшая из женщин, которую ты бы очень полюбила, если б познакомилась с ней, – писал Бисмарк жене. – Оригинальная, веселая, умная и любезная, красивая и молодая» [204]. В письмах к сестре дипломат высказывался более прямо, говоря о том, что, «с тех пор как приехали Орловы, я живу с ними, как будто мы одни в мире, и в некоторой степени влюбился в хорошенькую принцессу. Ты знаешь, как у меня случается такое, без того, чтобы это повредило Иоганне» [205]. Судя по всему, Бисмарк вовсе не считал свою склонность чем-то предосудительным, поскольку никакой измены в прямом смысле слова не происходило. Иоганна смотрела на вещи несколько иначе, признавая в одном из писем друзьям, что, будь у нее хоть малая склонность к ревности, она была бы уже переполнена ею [206]. Насколько искренне это говорилось, неизвестно, учитывая, что госпожа фон Бисмарк была вполне склонна к сильным негативным эмоциям, просто умела при необходимости их подавлять. Однако, судя по всему, мимолетный роман нисколько не повлиял на отношения внутри семьи. К тому моменту, после долгих лет совместной жизни, роли были не только распределены, но и прочно закреплены: он был безусловным лидером, слово которого имело силу закона, а действия не обсуждались.
У самого Бисмарка влюбленность в Орлову не вызвала никакого внутреннего конфликта, никак не повлияла на его отношение к Иоганне. Благодаря русской графине он окунулся в мир беззаботной юности, мир, где не было политических игр и стратегических планов, а лишь красота природы и радости сегодняшнего дня. Екатерина Орлова стала для Бисмарка символом молодости, наслаждения жизнью, легкости и беспечного счастья. Для почти 50-летнего дипломата, который лишь на несколько недель вынырнул из бурлящего моря политики, эти ощущения были бесценны. Недаром он еще много лет спустя будет с ностальгией вспоминать, как о потерянном рае, о проведенном в Биаррице отпуске.
Вместе с Орловыми Бисмарк покинул Биарриц и отправился на Пиренеи, самовольно продлив свой отпуск – правда, поставив об этом в известность министерство иностранных дел. Внимательный читатель мог бы провести аналогию между этой поездкой и юношескими вояжами, которые в свое время стоили Бисмарку карьеры в Аахене. Действительно, путешествуя по южным районам Франции, он практически лишился возможности оперативно узнавать новости и получать корреспонденцию из Берлина. Однако внешним сходством дело и ограничивалось. В августе 1862 года у Бисмарка уже не было никаких сомнений относительно правильности избранного им магистрального пути. Он позволил себе небольшой отдых, короткое забытье перед решающим боем. При этом, по мнению Лотара Галла, Бисмарк тщательно рассчитывал момент, когда может понадобиться его участие, и практически не рисковал опоздать к решающим в своей жизни событиям. «Биарриц и Пиренеи помогли ему сменить обстановку, дали ему возможность расслабиться, позволили отвлечься от мучительных раздумий на единственную тему, но ничего более» [207].
Тем не менее письмо Роона, датированное 31 августа, он получил только 12 сентября. В ответном послании Бисмарк вновь жаловался на неопределенность своего положения: «Я должен воспользоваться случаем добиться ясности. Я ничего так не желаю, как остаться в Париже, но я должен знать, что переезжаю и устраиваюсь не на несколько недель или месяцев, – ведь мой дом поставлен на широкую ногу. (…) Если бы Его Величество сказал мне, что я буду назначен 1 ноября, или 1 января, или 1 апреля, – я знал бы, что делать. (…) При такой неопределенности я теряю всякий вкус к делам и буду вам от души благодарен за всякую оказанную вами дружескую услугу, которая покончит с этой неопределенностью. Если это не удастся в ближайшее же время, то придется примириться с существующими фактами, сказать себе, что я – посланник короля в Париже, поселиться там с 1 октября с чадами и домочадцами и устроиться окончательно. Коль скоро это совершится, Его Величество сможет уволить меня в отставку, но уже не принудить сразу же вновь переезжать куда-то; я предпочту уехать к себе в имение и буду тогда знать, где живу. В уединении я, с божьей помощью, восстановил свое здоровье и чувствую себя лучше, нежели когда-нибудь за последние 10 лет; но о том, что делается в нашем политическом мире, я не слыхал ни слова. (…) Я так доволен положением посланника Его Величества в Париже, что не просил бы ничего другого и желал бы только знать наверно, сохраню ли я этот пост по меньшей мере до 1875 года. Дайте мне эту или какую угодно другую уверенность, и я подрисую ангельские крылья к вашей фотографии» [208]. Идея Бисмарка вполне недвусмысленна: ясность, и как можно скорее! Совершенно очевидно, что слова об удовлетворенности дипломатическим постом в Париже нужны были только для того, чтобы оказать давление на собеседника; оставаться на этой должности до конца карьеры было бы для деятельного Бисмарка скорее наказанием. В любом случае, он немедленно прервал свое турне и отправился в Париж.
Именно там он получил 18 сентября от Роона телеграмму с условной фразой: «Промедление опасно. Спешите». На самом деле еще за два дня до этого послание с приглашением прибыть в прусскую столицу отправил Бернсторф, однако не вполне ясно, дошло ли оно до адресата. В любом случае это означало, что резерв должен выдвинуться как можно ближе к месту сражения – Бисмарку следовало отправиться в Берлин, и даже король, который еще 7 сентября отвергал кандидатуру «бешеного юнкера», дал на это свое разрешение. К тому моменту конфронтация дошла до крайней точки. Палата депутатов твердо настаивала на своем, правительство разрывалось в поисках компромисса, который удовлетворил бы обе стороны, а монарх, не настроенный уступать, подумывал об отречении. Вильгельм чувствовал себя покинутым всеми, даже министрами, которые 17 сентября практически в ультимативной форме заявили ему о необходимости идти на уступки, угрожая в противном случае коллективной отставкой. Он заявил о необходимости вызвать в Берлин своего старшего сына, кронпринца Фридриха Вильгельма, находившегося в Тюрингии, и заготовил текст отречения, на котором отсутствовали только дата и подпись. Неизвестно, насколько искренним было намерение короля; некоторые историки видят в нем только тактический ход, которому сам Вильгельм не придавал серьезного значения, намереваясь просто оказать давление на окружающих. В любом случае, именно в это время монарх решил обратиться к своему «последнему доводу» – назначить Бисмарка главой правительства.
Сопротивление этому решению, даже в королевской семье, было огромным. Придерживавшийся либеральных взглядов кронпринц записал в своем дневнике: «Его Величество хочет назначить Бисмарка-Шенхаузена!!! министром-президентом (…) Я почти не спал ночью от огорчения» [209]. Что касается Аугусты, то она развила невероятную активность, чтобы убедить супруга в гибельности назначения «бешеного юнкера» главой правительства. В устной и письменной форме она доказывала Вильгельму, что Бисмарк – беспринципный авантюрист с реакционными убеждениями, который является сторонником союза с Францией и Россией в ущерб общегерманскому делу. Приход Бисмарка к власти, по мнению Аугусты, приведет к крушению прусского государства. Возможно, Вильгельм прислушался бы к мнению супруги, которая в целом имела на него очень большое влияние. Однако проблема заключалась в том, что Аугуста была не в состоянии предложить ему альтернативу, которая устраивала бы короля. Заявление об отречении, лежавшее на столе у Вильгельма, сыграло роль великолепного инструмента давления и на жену, и на сына, которые по понятным причинам не хотели, чтобы оно было пущено в ход.
20 сентября Бисмарк прибыл в Берлин. «Совершенно случайно» оказавшийся в столице дипломат практически сразу был приглашен к кронпринцу, беседа с которым, однако, не получилась – обе стороны предпочитали не раскрывать своих карт. Правда, Вильгельм, который подозревал сына в стремлении занять престол, отреагировал довольно болезненно, сочтя, что Бисмарк рассматривает отречение как дело решенное и пытается втереться в доверие к кронпринцу. Роону стоило определенного труда переубедить его. Два дня спустя состоялась аудиенция у короля. Вильгельм, принявший Бисмарка в окрестностях Потсдама, в замке Бабельсберг, первым делом продемонстрировал ему пресловутое заявление об отречении, попутно заявив, что не хочет править по указке ландтага вопреки собственной воле. Дальнейшее сам Бисмарк описывает в своих воспоминаниях следующим образом:
«Я ответил, что его величеству уже с мая известно о моей готовности вступить в министерство; я уверен, что вместе со мною останется при нем и Роон, и не сомневаюсь, что нам удастся пополнить состав кабинета, если мой приход побудит других членов кабинета уйти в отставку. После некоторого размышления и разговоров король поставил передо мною вопрос, согласен ли я выступить в случае назначения меня министром в защиту реорганизации армии, и, когда я ответил утвердительно, задал второй вопрос – готов ли я пойти на это даже против большинства ландтага и его решений? Когда я снова ответил согласием, он наконец заявил: «В таком случае мой долг попытаться вместе с вами продолжать борьбу, не отрекаясь от престола». Уничтожил ли он лежавший на столе документ или сохранил на память, я не знаю.
Король предложил мне пройтись с ним по парку. Во время этой прогулки он дал мне прочесть программу на восьми больших страницах, исписанных убористым почерком. Она затрагивала все возможности тогдашней правительственной политики и останавливалась на деталях вроде реформы крейстагов. Оставляю открытым вопрос, служило ли уже это произведение основой для объяснений с моими предшественниками или оно должно было явиться мерой предосторожности против приписывавшейся мне консервативной прямолинейности. (…)
Мне удалось убедить его величество, что для него дело идет не о консерватизме или либерализме того или другого оттенка, а о том, быть ли королевской власти или парламентскому господству, и что последнее во что бы то ни стало следует предотвратить, хотя бы даже установив на некоторый период диктатуру. Я сказал: «Если при таком положении ваше величество повелите мне сделать что-либо с моей точки зрения неправильное, то я, правда, откровенно выскажу вам свое мнение, но, если вы все же будете стоять на своем, я предпочту погибнуть вместе с королем, нежели покинуть ваше величество в борьбе с парламентским господством». Это умонастроение было во мне в ту пору сильно и имело для меня решающее значение, так как я считал, что перед лицом национальных задач Пруссии голое отрицание и фраза тогдашней оппозиции пагубны в политическом отношении, и так как я питал к личности Вильгельма I столь глубокое чувство любви и преданности, что мысль погибнуть вместе с ним казалась мне, по тем обстоятельствам, вполне естественным и привлекательным завершением жизни.
Король разорвал программу и хотел бросить клочки с моста в сухой овраг парка, но я напомнил ему, что эти бумажки, исписанные всем известным почерком, могут попасть в весьма неподходящие руки. Он с этим согласился, сунул клочки в карман, чтобы потом предать их огню, и в тот же день назначил меня государственным министром и временно исполняющим обязанности председателя государственного министерства» [210].
Насколько верно это описание, судить сложно – других свидетелей той встречи не было. Однако вполне очевидно, что фразы о любви и преданности королю маскируют изящное решение весьма важной для Бисмарка задачи. Король поставил его в затруднительное положение, протянув уже готовую программу действий правительства. Если бы Бисмарк ее отверг, он продемонстрировал бы тем самым, что с самого начала собирается действовать наперекор монарху. Принять ее он тоже не мог, поскольку связал бы себе руки, даже не приступив еще к деятельности главы правительства. Единственным возможным решением было сделать так, чтобы монарх сам отказался от своей программы, и это ему блестяще удалось.
Мечта Бисмарка осуществилась. Он стал главой прусского правительства. Этот день Лотар Галл, оглядываясь на последствия прихода Бисмарка к власти, назвал «датой всемирно-исторического значения» [211]. Хотя это высказывание содержит известное преувеличение, с ним можно согласиться. Формальное назначение Бисмарка министром-президентом и министром иностранных дел состоялось 8 октября. К тому моменту он уже погрузился в пучину политических баталий.