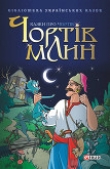Текст книги "Чердачный чорт"
Автор книги: Николай Богданов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
ДВА ОХОТНИКА
«Уж если насчет охоты, то Пеньки наши – первейшее на свете место: стоим в лесу-оврагах, зайцы в гумнах спят, волки по селу пробегают, под гармошку подвывают, а в Драном овраге целая ихняя республика. Охота у нас, как прямо в доисторические времена!»
Написал Тимошка, и особенно всем ребятам понравилось «в доисторические времена» – во, пущай знают городские, что и мы не лыком шиты – в «доисторические» и более никаких.
Это не первое письмо отправлено деревенскими пионерами городским, только на вопрос об охоте писали в первый раз, и от этого-то ответ на него пришел самый неожиданный. Вот уж второй год переписку с городским отрядом ведут, а такого ответа не ожидали. Живой городской пионер, в галстуке, боевой, самый настоящий.
Сто верст прошел на лыжах! Лыжи у него не как у пеньковских лесников – шириной с лопату, – а узкие, длинные, головки змеиные. Ехал он с пригорка, палками упирался, только снежок за ним вихрился.
Был пионер весь ладный, чистенький, все на нем аккуратное, шитое по нему, – ребята косились, казался он им каким-то барчуком. И когда на сборе отряда нахлынуло ребят полно и даже не пионеров, когда городской рассказал о жизни городских пионеров, об их работе и подготовке смены, то стало как-то еще обидней: там вон как, а мы-то – кроты темные сидим! И у нас, правда, отряд, да нечто это настоящее – одна слава.
И сидели ребята сосредоточенные, наморщив лбы, молчаливо поглядывая на пионеров. Только вертушка Настька восхищалась подарками, всплескивала руками и приговаривала:
– Теперь да! Вот научимся стенгаз делать, теперь заработаем! Карандаши-то раз-но-цветные!
* * *
Ночевал пионер у Тимошки. Вечером долго разглядывали вместе ружье – занятное, маленькое, а складом, как винтовка, и бьет одной пулькой.
– Специально белок бить – прямо в глаз: шкурку не портить, – говорит Дима.
Завтра по зорьке уговорились идти в Драный овраг. Мать обещала разбудить и испечь по лепешке на кислом молоке.
Легли оба на полатях. Полати были новые, пахли одуряюще осиной, и Диме не спалось. Ему не терпелось дождаться рассвета, встать на лыжи и забраться в эти таинственные леса, в сказочные Драные овраги, о которых он так долго мечтал. Надоело ему пукать в цель в стрелковом кружке, в скучных ворон на городских трубах. И представлялись Диме пушистые белки, красные лукавые лисы и пестрые комки смешных зайцев.
Больше Дима не думал ни о чем, слушал веселых сверчков и мечтал.
Не спалось и Тимошке – раздумался парень:
«Эк, ребята насурьезились – завистно стало на городских, оно, конечно, все у них под рукой, да еще больно он все здорово расписал: – то у нас, да се, да все идет, да хорошая смена, – надо бы ему полегче…»
Знает Тимошка, что и в деревне можно смену делать, да только мало кто понимает как, и одному взяться не в силах. Вот что-то насчет того, как землю обновлять, жизнь деревни перестраивать, – а с какого конца? Как в тумане. Надо этого Диму спросить – парень все знает.
– Дим, а Дим?..
– Ну? – неохотно отвечает Дима, размечтавшийся о прелестях охоты.
– Давай поговорим об жизни!?
– А в чем дело?
– Вот… многое тут непонятно, и болею я сердцем. Допустим…
– Э, ладно, долгая история… как бы охоту не проспать! – И Дима повернулся к стенке.
«Ну, пускай, – думает Тимошка, – я его завтра охотой ублаготворю, а тогда уж с него все возьму: всему пускай обучит, как и что».
И скоро друзья захрапели.
* * *
Ребят разбудили. В избе горела коптилка, и вкусно пахло жареным конопляным маслом. Во всех углах была темнота.
– Да еще рано? – удивился Дима.
– Какое рано, глянь, шесть верных, – сказала Тимошкина мать.
Дима глянул и увидал сквозь разузоренное окно тонкую розовую полоску над темно-синим лесом. Сердце его забилось, и он торопливо стал собираться.
Закусив лепешек, осмотрев весь свой припас, охотники встали на лыжи. Тимошка на свои, широкие и разлатые, а Дима на аккуратненькие свои.
– Палки-то оставь, – сказал Тимошка, – там ими только цепляться.
Ребята тронулись. За селом уж лиловели снега, а над церквушкой торчал, как нестаявшая ледяшка, месяц. По ровной полянке здорово шли Димины лыжи, он на ходу поигрывал ружьецом. За ним, поддерживая на спине старинное, взятое у лесника бухало, не поспевал и корячился на широких лесных лыжах Тимошка. Диму, глядя на него, брал смех.
– Ну, ну, крылышки бы тебе! – кричал он, когда Тимошка, желая за ним поспеть, заплетался, смешно раскрылив шубу.
Вот лес, теперь уж совсем рассвело, и полная заря делала снежную бахрому на деревьях воздушной и розовой. Кругом была торжественная тишина. Затая дыхание, Дима входил в лес. А Тимошка отирал пот и пыхтел, как дома за обедом.
С первых же шагов Дима увидел следы белок, зайцев и лис и еще какие-то, и массу птичьих, но самих обитателей – как не бывало. Снег в лесу был пухлый и глубокий, лыжи его тонули, утыкались в деревья, лезли как на зло в кучи хвороста, и Дима стал разочаровываться.
Кругом лес, лес, овраги, снега и ни одного живого существа. Тимошка шагал по кустам, кувыркался в овраги, залезал на деревья – сам хотел запрыгать белкой, лишь бы доставить гостю удовольствие.
Он совсем упрел. На вопрос Димы, где же первобытная охота, лишь разевал рот и разводил руками.
* * *
Когда в своем рвении выпугнуть зверя Тимошка врюхался в ручей, он вдруг услыхал выстрел и отчаянный крик Димы на весь лес:
– Убил, убил!
Тимошка выдрался и через сучки, через ельник понесся к Диме.
– Чего убил, где?
– Да вот, тетерева.
Дима потрясал хохлатой птицей с ярким оранжевым оперением.
– Да это лесная воронка, – смутился Тимошка.
– А где же тетерева-то?
– А вон.
И увидели оба охотника, как вспугнутые выстрелом перелетали с мелколесья в глубь леса длиннохвостые синие тетерева.
– Ах, ты!
– Постой!
Тетерева опустились где-то за оврагом, и двое сторожевых сели на высокие вершины деревьев.
– Только бы подкрасться, – сказал Дима.
– И-и, где, – Тимошка и рукой махнул, – нечто к ним подойдешь теперь.
Но в Диме горел охотничий задор.
И вот началось подкрадывание. Дима и шел и пытался ложиться на лыжи, но проклятые садились глубоко и лезли обязательно на пенек или в куст. Наконец Диме показалось, что можно стрелять.
Тетерев сидел совсем близко, вытягивая на него длинную лиловую шею. Видны были даже красноватые, с белым пушком, мочки его ушей. Дима прицелился и трахнул.
Тетерев поглядел в его сторону и, показалось Диме, покачал укоризненно головой! Дима сделал еще десяток шагов, прицелился верней и снова выстрелил.
Тетерев – ни с места.
– Что такое?
– Да он где, знаешь? За полверсты!
Когда ребята смерили расстояние, то действительно оно было с полверсты: утренний прозрачный воздух обманывал глаз.
Долго еще кружились охотники, разевали рты на перелетающих вдали тетеревов. Тимошка пробовал забегать вперед, пугать их на Диму, но ничего не выходило.
В Драном овраге Тимошка скинул полушубок, – совсем запарился бегаючи, но белок тоже не оказалось.
* * *
Когда охотники совсем отчаялись и Дима не знал, как бы ему еще ругнуть Тимошку, чтоб отлегло от сердца, Тимошка вдруг увидел белку. Зверок сидел на невысокой липе и, строя уморительные рожи, что-то грыз.
Тимошка присел и затаился, как пес на стойке, указывая Диме рукой.
– Где, где? – шептал снова загоревшийся задором охотник. Наконец увидел и он.

Раздался выстрел. Зверок махнул пушистым хвостом и исчез. Теперь очередь ругаться настала Тимошке.
– Эх, ты-ы! А еще на меня накинулся, сам-то хорош, по воронам тебе…
Вдруг снова Тимошка заметил белку. И снова Дима промазал. Тимошка захлебывался от удовольствия: можно было всласть отругаться.
– Вот чорт, – оправдывался Дима, – ведь я в прыгающую цель бывало раз сто подряд в стрелковом кружке влеплял.
Через минуту еще отыскалась белка. Промах. Натерпевшийся Тимошка был в большем восторге, чем нежели бы Дима попал.
– Да ты сам-то стрельни.
– Мне нельзя: моя бухала на волков – белок в клочки разрывает!
В четвертый раз белка опять махнула пушистым хвостом, и раздался на весь лес радостный рев молодого охотника: она упала в снег к его ногам. Капелька крови заблестела на ее пушистом розовом носике. Дима прыгал и потрясал белкой, а Тимошка видел новых и новых скачущих по чернолесью.
– Вот она беличья республика!
После первого удачного выстрела наладились и другие, охотники в азарте гонялись за зверками и скоро увешались ими кругом.
– Довольно, – опомнился вдруг Тимошка, – а то всех побьем – на развод не будет, пускай останутся, детей разведут, а то в лесу скучно будет.
– Ладно, – Дима согласился и, довольный, перебирая в руках пушистые, застывающие тельца зверков, повернул лыжи обратно. С крутого овражка, чтоб показать Тимошке форс, он нырнул вниз. Лыжи взвились, как птицы. Тимошка не успел восхититься, как услышал треск и крик. Когда он заглянул в овраг, Дима стоял у торчавших из-под снега пеньков и вытаскивал обломки лыж.
* * *
– Как же нам быть?
– Как знаешь, – нахмурился Тимошка, – без лыж выбраться трудненько: с первых же шагов ввалишься по пояс, а до села нам десятка полтора верст.
– Чорт меня возьми! Взял бы я телемарки, те бы не сломались, а эти финки в лесу ни к чему…
– Да, теперь смекай выбираться, а то сумерки подойдут… жуть тогда в лесу…
Ребята сидели и гадали, а солнце уже закатилось за кроны деревьев, и на снег пали тени.
– Вот что, я поскорей пойду, – предложил Тимошка, – а ты жди: вернусь с лесником…
Дима оглянулся на примолкший лес…
– Нет, Тимош, я быстрей хожу, да я и одет легче, дай я пойду, а ты дождись.
«Ты лыжи-то сломал, ты и сиди», хотел ответить Тимошка, но вспомнил, что Дима гость от городских, ну-ка что случись – тогда конфуз всей деревне…
– Ну, иди, – сказал вдруг побледневший Тимошка и добавил: – человек ты нужный, а как я – все мы такие.
– Да что ты, разве что?! Я мигом слетаю!
Дима надел лыжи и заторопился.
– Держи оврагом, а там наш след будет, по нему и валяй, – крикнул вдогонку Тимошка.
Отъехавший Дима вдруг остановился, помялся и подал салют: «Будь готов!» Услыхал Тимошка и ответил ему серьезно и строго: «Всегда готов!»
* * *
После ухода Димы Тимошке стало жутко и тоскливо. Молчаливый лес, нависшие снега да пустое небо. Он попытался понемногу пробираться вперед. Но каждый раз рюхал все глубже. Тогда он бросил:
– На дерево что ль залезть? – Залез на дерево. Глядя на заходящее солнце, стал петь, растягивая слова, по-деревенски:
Солнце всходит и захо-одит,
А в лесу кругом темно-о…
Не пропел он и полчаса, как стал леденеть. Надо идти. А лес внизу мрачнеет, подернутый сумерками, и начинают мерещиться тени.
Сердце Тимошки сжалось, и, стискивая зубы, он слез и опять стал, рюхая, продвигаться вперед. Иногда удавалось стать на сучок, пройти по бревну, по хворосту. Но иногда страшно хотелось лечь прямо в снег и попытаться задремать до прихода людей.

Но Тимошка знал, что это смерть, и крепился. Он радовался, что не оставил Диму: наверняка бы замерз.
«Только бы поскорей вертался, теперь он наохотился, теперь в отряде будем действовать!» – думает Тимошка и пробирается вперед, то рюхая по пояс в снег, то отыскивая сучки и бревнышки. И опять отчаянно хотелось лечь и не двигаться.
А в лесу совсем сгустились сумерки, и где-то далеко, как пьяные мужики, заголосили сипло, не в лад свывающиеся к ночи волки.
* * *
Дима приплелся в село совсем поздно. Непривычные широкие лыжи, да еще без палок, так умучили его, что он едва дотащился. Сил хватило лишь сказать кое-как про оставшегося Тимошку в Драном овраге, а дальше он, потеряв все чувства и мысли, как приткнулся где-то на лавке, так и заснул.
Тимошкина мать бегала по селу от лесников к охотникам, всех перебрала. Никому неохота было идти ночью.
– Вот когда рассветет, пойдем обход делать, поищем, – пообещали лесники.
Когда проснулся Дима, ему показалось, что всю эту нехорошую историю он увидел во сне. Но нет, это была явь. Пришли лесники и заявили, что Тимошку они не нашли.
Завопила Тимошкина мать.
Прибежал кое-кто из пионеров, покосились на Диму, побежали в милицию настоящие поиски собрать. Пришла Тимошкина бабушка, тоже завопила, пришла немного погодя двоюродная тетка и голосистей всех завела вопление.
Ужас и тоска взяли Диму. Напало на него такое малодушие, что он собрал свои пожитки и удрал в соседнее село, верст за семь, где у него тетя учительница. Там с ним случился жар, он бредил. Тетка не знала, что с ним делать.
Прошло дня два, и вдруг на третий в Пеньки приехал лесник из дальнего кордона. Он-то и привез завернутое в тулуп Тимошкино «тело». Это погибшее тело едва выкарабкалось из тулупа, запрыгало на одной ноге, ухнуло, свистнуло и, узнав, что Дима удрал, ругнулось.
– Нет, брат, шалишь, я его достану, я ему охоту уважил, теперь он пусть меня уважит!
И в тот же день перед окном школы, где тосковал Дима, появилась фигура на раскоряках-лыжах.
– Ты откуда? – выбежал Дима на мороз.
– Волку за хвост уцепился, он и вытащил.
– Врешь!
– То-то что вру, догадался я из холщовой сумки да из сучков вроде здоровых лаптей сплести, так что они не провалились. Кое-как на дорогу набрел, а там к леснику на дальний кордон, он меня и привез… Ну, жути я натерпелся!
Дима с восхищением смотрел на улыбающегося Тимошку. Прошли его и бред и жар.
В пеньковском отряде, что при школе, работал он на Тимошкину охоту. И стенгаз показал как делать. И как маршировать обучил. И спектакль затеяли на выписку книг, и еще много кой-чего. Страсть к охоте много заслонила в нем талантов, и теперь они показались вовсю.
Ходил он и за белками, только лыжи достал покрепче, охотницкие.
Все каникулы провел Дима в отряде и, уезжая, пообещал притянуть отряд на лето поселиться здесь лагерем.
Слова его сбылись. Стоял в Пеньках лагерь.
Веселое пролетело лето. И теперь пеньковские пионеры в уезде самые боевые.
ПРОПАВШИЙ КЛОК
Беспризорник Клок, скукожившись, как заяц, скакал по переулкам, заглядывал за углы, не идет ли милиционер, нет ли дворника? Оглянувшись, он драл со столбов афиши и скакал дальше, дуя на скрюченные лапы.
Его шайка ночует в арке у Китай-городской стены и спасается от осеннего холода тем, что у входа в арку раскладывает костер.
Пламя поднимается до самых сводов, как заслон от холода, и спать шайке лучше, чем у пылающей печки. Но много топлива жрет огонь, доставать топливо трудненько, приходится добывать его на стройках, около угольных и дровяных складов с большим риском.
Постелью ребятам служит афишная бумага: в нее если завернуться ловко, холода не пропускает, каждый перед вечером уж запасается охапкой афиш.
Дежурного сажают смотреть за огнем. Загаснет костер – так в шею накостыляют, своих не узнаешь!
Дежурный сегодня Клок, ребята спят, копошатся в бумаге, как мыши, им и горя мало, а Клок проводит ночь, полную страха: вдруг не хватит дров?
Утро наступило холодное и ясное. Город еще не просыпался. Выметенные дворниками улицы были чистые и пустые. Где-то проехал извозчик, и цоканье копыт его лошади отозвалось в пустых улицах топотом целого кавалерийского эскадрона.
Все побелело кругом, и огонь стал белый и тощий. Клок подбросил последнюю охапку щепы, положил сырую доску и побежал добыть хоть немного дров, чтобы протянуть до солнца. Заскакал Клок в начало Тверской, где есть большая стройка.
Вчера Клок за весь день съел лишь яблоко, вышибленное из рук торговки, да кто-то из своих поделился с ним черствым огрызком булки. В животе у Клока была тоска. Утренний холод так и забирался под его лохмотья, и Клок чувствовал себя несчастным. Никому он не нужен в этой каменной, холодной пустыне.
Громадина домов стояла равнодушно и молчаливо. Утром потекут из них ручейки людей, сольются вместе и шумными реками затопят улицы.
Город оживет, и до поздней ночи будут в нем толкотня, суета, бесконечное движение. А теперь в окнах чернеет пустота, в иных задернуты занавески, и дремлют громадные дома.
«Эх, тепло наверно там, за этими занавесками!» Брало Клока зло: он мерзнет, и никому нет дела. Хотелось Клоку крикнуть, запустить в окно камнем, иль кого-нибудь укусить…
Бывало, что насильно даже тащили Клока в тепло – приемники для беспризорных, но он там не уживался, при первой возможности убегал. Считал он, как и многие беспризорные, что в приемнике – в приюте, только зря киснуть. Давали бы сразу дело какое – тогда бы так, а то скука, и предпочитал Клок бродяжить.
Неизбежно бывали для него неудачные дни, когда и холодно, и голодно, и злость берет, и кажется тогда Клоку, что кем-то он обижен.
В беспризорники попал он обыкновенно.
Отец – брянский мужик, земли мало, плотницкие ремесла в революцию пали. Голод. Поехали вместе с сыном Ванюшкой за хлебом. Захворал отец – помер. Не знал Ванюшка, куда ехать, не знал ни губернии, ни уезда, знал одну деревню Липовку. А время было такое, что другим было не до него.
Живуч человек, с голоду Ванюшка не помер, стал мотаться по путям и дорогам, по железным станциям, и вот теперь четырнадцатый год ему, где бы пахал, сеял, в доме за большака, за хозяина был бы, а он скачет по улицам, никому ненужный, ободранный, попрошайка и вор, и зовут его не по-людски – Клок.
Клокастый уж он очень, ни у кого таких вихров нет, как у него.
В тоскливом настроении все скакал и скакал Клок по бесчисленным улицам.
И вдруг среди тишины непробудившегося города он услышал гул и звон. Где-то перестукивали тысячи звенящих молоточков, ухали большие молотки, перетяпывали звонкие топоры, и визжали пилы.
Все это покрывал какой-то равномерный гул, разливавшийся по переулкам. С забившимся сердцем забежал Клок за угол и остановился.
На прежнем разрушенном пустыре, на который давно он не заглядывал, к самому небу взгромоздилась стройка, опоясанная дебрями лесов. Запрокидывалась голова у Клока взглянуть на вершину. Розовела вершина. Свежетесанные сосновые бревна горели смолистым янтарем на взошедшем где-то за домами солнце.
И по всем лесам, по балкам, перерубам копошились люди. Сидели плотники и посверкивали топорами, которые замечательно звенели в утренней тишине.
Увидел Клок и музыкантов-молоточников, сидели рабочие и тесали, шлифовали каменные глыбы. Где-то трамбовал молот.
Гу-гу, гу… – дрожала при ударах земля.
А веселый плотник, затерявшийся где-то в лесах, распевал голосисто на разные лады:
Шел я верхом, эх, шел я низом…
У Матани дом с карнизом.
И, покрывая все, ровно и мощно гудели моторы грузовиков, привезшие лес, цемент и гранит.
Заслушался Клок, загляделся.
Наверх тащили необхватные бревна. Качаясь на страшной высоте, казались они тоненькими спичками. Кое-где в темных углах стройки горели, качаясь, электрические луны.
Стоял Клок и не мог глаз оторвать, и брала его зависть – забраться на эту стройку, обегать все леса, покачаться на тонкой стропиле на высоте и попробовать молотком камень. Стоял он, стиснув зубы, все время помня, что он оторвяжный, не человек, а оборванец, и к стройке его близко не подпустят. Стоит и охраняет стройку человек с ружьем.
Опустил голову Клок, покосился на стройку еще раз и хотел ускакать, но тут он вспомнил о щепках, наваленных кругом. И направился боком, скоком поближе к стройке. Обежал часового, пробрался, где народу поменьше, и ухватил большую сосновую щепу.
– Ты куда?!

Клок поднял голову и уронил от неожиданности щепу. Перед ним на строящемся углу лесов сидел человек с топором, человек до того знакомый, что вот, кажись, вчера это было… Липовка, изба ихняя, дубовый стол, и вместе за этим столом кашу с ним ели… В голове пронеслись детство, отец, брат плотник, дед плотник, артель плотницкая и в ней подручный-побегушка Трофим…
– Трофим, – крикнул и захлебнулся Клок, – Трофим, да ведь это я, Ванюшка!
– Что, какой Ванюшка? – Трофим воткнул топор и отер рукавом пот.
«Не узнает, не узнает», – заколотилось сердце Ванюшки, и закричал он, что есть мочи, хватаясь за грудь:
– Ваш я, Липовский, Гаврилов сын… Гаврил-то, отец мой, помер, а я вот он!
Трофим развел руками:
– Ишь ты!
Еще несколько времени поговорили они через забор, один с мостовой, другой со стройки, и потом Трофим сказал:
– Не пропадать же тебе… чай-ко, порода плотницкая.
Трофим провел Ванюшку на стройку. Плотники приняли его бегуном и подручным, содрали с него скверные лохматы, кто дал деревенские домотканые портки, кто – рубаху, а Трофим накинул пахнувший хлебом и родной хатой армяк. Ванюшка никому не сказал, что его звали по-собачьему Клок, он – Иван, сын Гаврилов, Сучков.
Костер, разведенный в арке, догорел. Чуть чадила сырая доска. Куча беспризорников сжалась и вся дрожала от холода. Казалось корчатся отвратительные и страшные кучи голых костей и тряпья. Наконец один из шайки проснулся, протер гнойные больные глаза и выругался.
Потом стал вытаскивать из кучи спящих, он расталкивал их, пинал ногами. Иззябшие, злые, беспризорники огрызались на него и бежали в переулки за топливом.
– Засыпался, что ли, этот Клок! Вот зараза, ну, попадись он мне, вот ужо придет! – ругался издрогший вожак шайки.
Но Клок так и не пришел.
И кто скажет, что Иван Гаврилов Сучков, несущийся стремглав по закоулкам лесов то с зазубренным топором, то со сломанным долотом, а то с чайником для артели, есть Клок?
Верно. Засыпался Клок и едва ли когда отыщется. Пропал, затерялся в лесах огромной стройки.