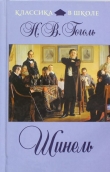Текст книги "Том 2. Миргород"
Автор книги: Николай Гоголь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
„О, спасибо вам, волы!“ кричали запорожцы: „служили всё походную службу, а теперь и военную сослужили!“ И ударили с новыми силами на неприятеля. Много тогда перебили врагов. Многие показали себя: Метелиця, Шило, оба Пысаренки, Вовтузенко, и не мало было всяких других. Увидели ляхи, что плохо, наконец, приходит, выкинули хоругвь и закричали отворять городские ворота. Со скрыпом отворились обитые железом ворота и приняли толпившихся, как овец в овчарню, изнуренных и покрытых пылью всадников. Многие из запорожцев погнались было за ними, но Остап своих уманцев остановил, сказавши: „Подальше, подальше, паны братья, от стен! Не годится близко подходить к ним.“ И правду сказал, потому что со стен грянули и посыпали всем, чем ни попало, и многим досталось. В это время подъехал кошевой и похвалил Остапа, сказавши: „Вот и новый атаман, а ведет войско так, как бы и старый!“ Оглянулся старый Бульба поглядеть, какой там новый атаман, и увидел, что впереди всех уманцев сидел на коне Остап, и шапка заломлена набекрень, и атаманская палица в руке. „Вишь, ты какой!“ сказал он, глядя на него; и обрадовался старый, и стал благодарить всех уманцев за честь, оказанную сыну.
Козаки вновь отступили, готовясь итти к таборам, а на городском валу вновь показались ляхи, уже с изорванными епанчами. Запеклася кровь на многих дорогих кафтанах, и пылью покрылися красивые медные шапки.
„Что, перевязали?“ кричали им снизу запорожцы. „Вот я вас!“ кричал всё так же сверху толстый полковник, показывая веревку; и всё еще не переставали грозить запыленные, изнуренные воины и перекинулись с обеих сторон все бывшие позадорнее бойкими словами.
Наконец разошлись все. Кто расположился отдыхать, истомившись от боя; кто присыпал землей свои раны и драл на перевязки платки и дорогие одежды, снятые с убитого неприятеля. Другие же, которые были посвежее, стали прибирать тела и отдавать им последнюю почесть. Палашами и копьями копали могилы; шапками, полами выносили землю; сложили честно козацкие тела и засыпали их свежею землею, чтобы не досталось воронам и хищным орлам выклевывать им очи. А ляшские тела, увязавши как попало, десятками к хвостам диких коней, пустили их по всему полю и долго потом гнались за ними и хлестали их по бокам. Летели бешеные кони по бороздам, буграм, через рвы и протоки, и бились о землю покрытые кровью и прахом ляшские трупы.
Потом сели кругами все курени вечерять и долго говорили о делах и подвигах, доставшихся в удел каждому, на вечный рассказ пришельцам и потомству. Долго не ложились они. А долее всех не ложился старый Тарас, всё размышляя, что бы значило, что Андрия не было между вражьих воев. Посовестился ли Иуда выйти противу своих, или обманул жид, и попался он, просто, в неволю? Но тут же вспомнил он, что не в меру было наклончиво сердце Андрия на женские речи, почувствовал скорбь и заклялся сильно в душе против полячки, причаровавшей его сына. И выполнил бы он свою клятву: не поглядел бы на ее красоту, вытащил бы ее за густую, пышную косу, поволок бы ее за собою по всему полю, между всех козаков. Избились бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью, ее чудные груди и плечи, блеском равные нетающим снегам, покрывающим горные вершины. Разнес бы по частям он ее пышное прекрасное тело. Но не ведал Бульба того, что готовит бог человеку завтра, и стал позабываться сном и наконец заснул. А козаки всё еще говорили промеж собой, и всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во все концы, трезвая, не смыкавшая очей стража.
VIII.
Еще солнце не дошло до половины неба, как все запорожцы собрались в круги. Из Сечи пришла весть, что татары, во время отлучки козаков, ограбили в ней всё, вырыли скарб, который втайне держали козаки под землею, избили и забрали в плен всех, которые оставались, и со всеми забранными стадами и табунами направили путь прямо к Перекопу. Один только козак, Максим Голодуха, вырвался дорогою из татарских рук, заколол мирзу, отвязал у него мешок с цехинами и на татарском коне, в татарской одежде полтора дни и две ночи уходил от погони, загнал на смерть коня, пересел дорогою на другого, загнал и того, и уже на третьем приехал в запорожский табор, разведав на дороге, что запорожцы были под Дубном. Только и успел объявить он, что случилось такое зло; но, отчего оно случилось, курнули ли оставшиеся запорожцы по козацкому обычаю и пьяными отдались в плен, и как узнали татары место, где был зарыт войсковой скарб, того ничего не сказал он. Сильно истомился козак, распух весь, лицо пожгло и опалило ему ветром; упал он тут же и заснул крепким сном.
В подобных случаях водилось у запорожцев гнаться в ту ж минуту за похитителями, стараясь настигнуть их на дороге, потому что пленные как раз могли очутиться на базарах Малой Азии, в Смирне, на Критском острову, и бог знает, в каких местах не показались бы чубатые запорожские головы. Вот отчего собрались запорожцы. Все до единого стояли они в шапках, потому что пришли не с тем, чтобы слушать по начальству атаманский приказ, но совещаться как ровные между собою. „Давай совет прежде старшие!“ закричали в толпе. „Давай совет кошевой!“ говорили другие. И кошевой снял шапку, уж не так, как начальник, а как товарищ, благодарил всех козаков за честь и сказал: „Много между нами есть старших и советом умнейших, но, коли меня почтили, то мой совет: не терять, товарищи, времени и гнаться за татарином. Ибо вы сами знаете, что за человек татарин. Он не станет с награбленным добром ожидать нашего прихода, а мигом размытарит его, так что и следов не найдешь. Так мой совет: итти. Мы здесь уже погуляли. Ляхи знают, что такое козаки; за веру, сколько было по силам, отмстили; корысти же с голодного города не много. Итак, мой совет – итти.“
„Итти!“ раздалось голосно в запорожских куренях. Но Тарасу Бульбе не пришлись по душе такие слова, и навесил он еще ниже на очи свои хмурные, исчерна-белые брови, подобные кустам, повыраставшим по высокому темени горы, которых верхушки вплоть занес иглистый северный иней.
„Нет, не прав совет твой, кошевой!“ сказал он: „Ты не так говоришь. Ты позабыл, видно, что в плену остаются наши, захваченные ляхами? Ты хочешь, видно, чтоб мы не уважили первого, святого закона товарищества, оставили бы собратьев своих на то, чтобы с них с живых содрали кожу или, исчетвертовав на части козацкое их тело, развозили бы их по городам и селам, как сделали они доселе с гетьманом и лучшими русскими витязями на Украйне. Разве мало они поругались и без того над святынею? Что ж мы такое? спрашиваю я всех вас. Что ж за козак тот, который кинул в беде товарища, кинул его, как собаку, пропасть на чужбине? Коли уж на то пошло, что всякий ни во что ставит козацкую честь, позволив себе плюнуть в седые усы свои и попрекнуть себя обидным словом, так не укорит же никто меня. Один остаюсь!“
Поколебались все стоявшие запорожцы.
„А разве ты позабыл, бравый полковник“, сказал тогда кошевой: „что у татар в руках тоже наши товарищи, что если мы теперь их не выручим, то жизнь их будет продана на вечное невольничество язычникам, что̀ хуже всякой лютой смерти? Позабыл разве, что у них теперь вся казна наша, добытая христианскою кровью?“
Задумались все козаки и не знали, что сказать. Никому не хотелось из них заслужить обидную славу. Тогда вышел вперед всех старейший годами во всем запорожском войске Касьян Бовдюг. В чести был он от всех козаков; два раза уже был избираем кошевым и на войнах тоже был сильно добрый козак, но уже давно состарелся и не бывал ни в каких походах; не любил тоже и советов давать никому, а любил старый вояка лежать на боку у козацких кругов, слушая рассказы про всякие бывалые случаи и козацкие походы. Никогда не вмешивался он в их речи, а всё только слушал да прижимал пальцем золу из своей коротенькой трубки, которой не выпускал изо рта, и долго сидел он потом, прижмурив слегка очи, и не знали козаки, спал ли он или всё еще слушал. Все походы оставался он дома, но сей раз разобрало старого. Махнул рукою по-козацки и сказал: „А не куды пошло! Пойду и я: может, в чем-нибудь буду пригоден козачеству!“ Все козаки притихли, когда выступил он теперь перед собрание, ибо давно не слышали от него никакого слова. Всякий хотел знать, что скажет Бовдюг. „Пришла очередь и мне сказать слово, паны братья!“ так он начал: „Послушайте, дети, старого. Мудро сказал кошевой; и, как голова козацкого войска, обязанный приберегать его и печись о войсковом скарбе, мудрее ничего он не мог сказать. Вот что! Это пусть будет первая моя речь! А теперь послушайте, что скажет моя другая речь. А вот что скажет моя другая речь: большую правду сказал и Тарас-полковник, – дай боже ему побольше веку, и чтоб таких полковников было побольше на Украйне! Первый долг и первая честь козака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я на веку, не слышал я, паны братья, чтобы козак покинул где или продал как-нибудь своего товарища. И те, и другие нам товарищи; меньше их или больше, – всё равно, все товарищи, все нам дороги. Так вот какая моя речь: те, которым милы захваченные татарами, пусть отправляются за татарами, а которым милы полоненные ляхами, и не хочется оставлять правого дела, пусть остаются. Кошевой по долгу пойдет с одною половиною за татарами, а другая половина выберет себе наказного атамана. А наказным атаманом, коли хотите послушать белой головы, не пригоже быть никому другому, как только одному Тарасу Бульбе. Нет из нас никого равного ему в доблести.“
Так сказал Бовдюг и затих; и обрадовались все козаки, что навел их таким образом на ум старый. Все вскинули вверх шапки и закричали: „Спасибо тебе, батько! Молчал, молчал, долго молчал, да вот, наконец, и сказал. Недаром говорил, когда собирался в поход, что будешь пригоден козачеству: так и сделалось.“
„Что, согласны вы на то?“ спросил кошевой.
„Все согласны!“ закричали козаки.
„Стало-быть, раде конец?“
„Конец раде!“ кричали козаки.
„Слушайте ж теперь войскового приказа, дети!“ сказал кошевой, выступил вперед и надел шапку, а все запорожцы, сколько их ни было, сняли свои шапки и остались с непокрытыми головами, утупив очи в землю, как бывало всегда между козаками, когда собирался что говорить старший. „Теперь отделяйтесь, паны братья! Кто хочет итти, ступай на правую сторону; кто остается, отходи на левую! Куды бо̀льшая часть куреня переходит, туды и атаман; коли меньшая часть переходит, приставай к другим куреням.“
И все стали переходить, кто на правую, кто на левую сторону. Которого куреня бо̀льшая часть переходила, туда и куренной атаман переходил; которого малая часть, та приставала к другим куреням; и вышло без малого не поровну на всякой стороне. Захотели остаться: весь почти Незамайновский курень, бо̀льшая половина Поповичевского куреня, весь Уманский курень, весь Каневский курень, бо̀льшая половина Стебликивскаго куреня, бо̀льшая половина Тымошевского куреня. Все остальные вызвались итти в догон за татарами. Много было на обеих сторонах дюжих и храбрых козаков. Между теми, которые решились итти вслед за татарами, был Череватый, добрый старый козак, Покотыполе, Лемиш, Прокопович Хома; Демид Попович тоже перешел туда, потому что был сильно завзятого нрава козак – не мог долго высидеть на месте; с ляхами попробовал уже он дела, хотелось попробовать еще с татарами. Куренные были: Ностюган, Покрышка, Невылычкий, и много еще других славных и храбрых козаков захотело попробовать меча и могучего плеча в схватке с татарином. Не мало было также сильно и сильно добрых козаков между теми, которые захотели остаться: куренные Демытрович, Кукубенко, Вертыхвист, Балабан, Бульбенко Остап. Потом много было еще других именитых и дюжих козаков: Вовтузенко, Черевыченко, Степан Гуска, Охрим Гуска, Мыкола Густый, Задорожний, Метелиця, Иван Закрутыгуба, Мосий Шило, Дёгтяренко, Сыдоренко, Пысаренко, потом другой Пысаренко, потом еще Пысаренко, и много было других добрых козаков. Все были хожалые, езжалые: ходили по анатольским берегам, по крымским солончакам и степям, по всем речкам большим и малым, которые впадали в Днепр, по всем заходам и днепровским островам; бывали в молдавской, волошской, в турецкой земле; изъездили всё Черное море двухрульными козацкими челнами; нападали в пятьдесят челнов в ряд на богатейшие и превысокие корабли, перетопили не мало турецких галер и много-много выстреляли пороху на своем веку. Не раз драли на онучи дорогие паволоки и оксамиты. Не раз череши у штанных очкуров набивали всё чистыми цехинами. А сколько всякий из них пропил и прогулял добра, ставшего бы другому на всю жизнь, того и счесть нельзя. Всё спустили по-козацки, угощая весь мир и нанимая музыку, чтобы всё веселилось, что ни есть на свете. Еще и теперь у редкого из них не было закопано добра: кружек, серебряных ковшей и запястьев, под камышами на днепровских островах, чтобы не довелось татарину найти его, если бы, в случае несчастья, удалось ему напасть врасплох на Сечь; но трудно было бы татарину найти его, потому что и сам хозяин уже стал забывать, в котором месте закопал его. Такие-то были козаки, захотевшие остаться и отмстить ляхам за верных товарищей и Христову веру! Старый козак Бовдюг захотел также остаться с ними, сказавши: „Теперь не такие мои лета, чтобы гоняться за татарами, а тут есть место, где опочить доброю козацкою смертью. Давно уже просил я у бога, чтобы, если придется кончать жизнь, то чтобы кончить ее на войне за святое и христианское дело. Так оно и случилось. Славнейшей кончины уже не будет в другом месте для старого козака.“
Когда отделились все и стали на две стороны в два ряда куренями, кошевой прошел промеж рядов и сказал: „А что, панове братове, довольны одна сторона другою?“
„Все довольны, батько!“ отвечали козаки.
„Ну, так поцелуйтесь же и дайте друг другу прощанье, ибо, бог знает, приведется ли в жизни еще увидеться. Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете: сами знаете, что велит козацкая честь.“
И все козаки, сколько их ни было, перецеловались между собою. Начали первые атаманы и, поведши рукою седые усы свои, поцеловались навкрест и потом взялись за руки и крепко держали руки. Хотел один другого спросить: „Что, пане брате, увидимся или не увидимся?“ да и не спросили, замолчали, – и загадались обе седые головы. А козаки все до одного прощались, зная, что много будет работы тем и другим; но не повершили, однако ж, тотчас разлучиться, а повершили дождаться темной ночной поры, чтобы не дать неприятелю увидеть убыль в козацком войске. Потом все отправились по куреням обедать. После обеда все, которым предстояла дорога, легли отдыхать и спали крепко и долгим сном, как будто чуя, что, может, последний сон доведется им вкусить на такой свободе. Спали до самого заходу солнечного; а как зашло солнце, и немного стемнело, стали мазать телеги. Снарядясь, пустили вперед возы, а сами, пошапковавшись еще раз с товарищами, тихо пошли вслед за возами. Конница чинно, без покрика и посвиста на лошадей, слегка затопотела вслед за пешими, и скоро стало их не видно в темноте. Глухо отдавалась только конская топь да скрып иного колеса, которое еще не расходилось или не было хорошо подмазано за ночною темнотою.
Долго еще остававшиеся товарищи махали им издали руками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воротились по своим местам, когда увидели при высветивших ясно звездах, что половины телег уже не было на месте, что многих, многих нет, невесело стало у всякого на сердце, и все задумались против воли, утупивши в землю гульливые свои головы.
Тарас видел, как смутны стали козацкие ряды, и как уныние, неприличное храброму, стало тихо обнимать козацкие головы, но молчал: он хотел дать время всему, чтобы пообыклись они и к унынью, наведенному прощаньем с товарищами, а между тем в тишине готовился разом и вдруг разбудить их всех, гикнувши по-козацки, чтобы вновь и с большею силою, чем прежде, воротилась бодрость каждому в душу, на что способна одна только славянская порода, широкая, могучая порода перед другими, что море перед мелководными реками. Коли время бурно, всё превращается оно в рев и гром, бугря и подымая валы, как не поднять их бессильным рекам; коли же безветренно и тихо, яснее всех рек расстилает оно свою неоглядную склянную поверхность, вечную негу очей.
И повелел Тарас распаковать своим слугам один из возов, стоявший особняком. Больше и крепче всех других он был в козацком обозе; двойною крепкою шиною были обтянуты дебелые колеса его; грузно был он навьючен, укрыт попонами, крепкими воловьими кожами и увязан туго засмоленными веревками. В возу были всё баклаги и боченки старого доброго вина, которое долго лежало у Тараса в погребах. Взял он его про запас, на торжественный случай, чтобы, если случится великая минута, и будет всем предстоять дело, достойное на передачу потомкам, то чтобы всякому, до единого, козаку досталось выпить заповедного вина, чтобы в великую минуту великое бы и чувство овладело человеком. Услышав полковничий приказ, слуги бросились к возам, палашами перерезывали крепкие веревки, снимали толстые воловьи кожи и попоны и стаскивали с воза баклаги и боченки.
„А берите все“, сказал Бульба: „все, сколько ни есть, берите, что у кого есть: ковш, или черпак, которым поит коня, или рукавицу, или шапку, а коли что, то и просто подставляй обе горсти.“
И козаки все, сколько ни было, брали, у кого был ковш, у кого черпак, которым поил коня, у кого рукавица, у кого шапка, а кто подставлял и так обе горсти. Всем им слуги Тарасовы, расхаживая промеж рядами, наливали из баклаг и боченков. Но не приказал Тарас пить, пока не даст знаку, чтобы выпить им всем разом. Видно было, что он хотел что-то сказать. Знал Тарас, что, как ни сильно само по себе старое доброе вино, и как ни способно оно укрепить дух человека, но если к нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крепче будет сила и вина и духа.
„Я угощаю вас, паны братья“, так сказал Бульба: „не в честь того, что вы сделали меня своим атаманом, как ни велика подобная честь, не в честь также прощанья с нашими товарищами: нет, в другое время прилично то и другое; не такая теперь перед нами минута. Перед нами дела великого поту, великой козацкой доблести! Итак, выпьем, товарищи, разом выпьем поперед всего за святую православную веру: чтобы пришло, наконец, такое время, чтобы по всему свету разошлась и везде была бы одна святая вера, и все, сколько ни есть бусурманов, все бы сделались христианами! Да за одним уже разом выпьем и за Сечь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурманству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы, один одного лучше, один одного краше. Да уже вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, которые не постыдили товарищества и не выдали своих. Так за веру, пане братове, за веру!“
„За веру!“ загомонели все, стоявшие в ближних рядах, густыми голосами.
„За веру!“ подхватили дальние, и всё, что ни было, и старое и молодое, выпило за веру.
„За Сичь!“ сказал Тарас и высоко поднял над головою руку.
„За Сичь!“ отдалося густо в передних рядах. „За Сичь!“ сказали тихо старые, моргнувши седым усом; и, встрепенувшись, как молодые соколы, повторили молодые: „За Сичь!“ И слышало далече поле, как поминали козаки свою Сичь.
„Теперь последний глоток, товарищи, за славу и всех христиан, какие живут на свете!“
И все козаки, до последнего в поле, выпили последний глоток в ковшах за славу и всех христиан, какие ни есть на свете. И долго еще повторялось по всем рядам промеж всеми куренями: „За всех христиан, какие ни есть на свете!“
Уже пусто было в ковшах, а всё еще стояли козаки, поднявши руки. Хоть весело глядели очи их всех, просиявшие вином, но сильно загадались они. Не о корысти и военном прибытке теперь думали они, не о том, кому посчастливится набрать червонцев, дорогого оружья, шитых кафтанов и черкесских коней; но загадалися они – как орлы, севшие на вершинах обрывистых, высоких гор, с которых далеко видно расстилающееся беспредельно море, усыпанное, как мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонам чуть видными тонкими поморьями, с прибережными, как мошки, городами и склонившимися, как мелкая травка, лесами. Как орлы озирали они вокруг себя очами всё поле и чернеющую вдали судьбу свою. Будет, будет всё поле с облогами и дорогами покрыто торчащими их белыми костями, щедро обмывшись козацкою их кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями. Далече раскинутся чубатые головы с перекрученными и запекшимися в крови чубами и запущенными книзу усами. Будут, налетев, орлы выдирать и выдергивать из них козацкие очи. Но добро великое в таком широко и вольно разметавшемся смертном ночлеге! Не погибнет ни одно великодушное дело и не пропадет, как малая порошинка с ружейного дула, козацкая слава. Будет, будет бандурист, с седою по грудь бородою, а может, еще полный зрелого мужества, но белоголовый старец, вещий духом, и скажет он про них свое густое, могучее слово. И пойдет дыбом по всему свету о них слава, и все, что ни народится потом, заговорит о них. Ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной меди, в которую много повергнул мастер дорогого чистого серебра, чтобы далече по городам, лачугам, палатам и весям разносился красный звон, сзывая равно всех на святую молитву.
IX.
В городе не узнал никто, что половина запорожцев выступила в погоню за татарами. С магистратской башни приметили только часовые, что потянулась часть возов за лес; но думали, что козаки готовились сделать засаду; то же думал и французский инженер. А между тем слова кошевого не прошли даром, и в городе оказался недостаток в съестных припасах. По обычаю прошедших веков войска не разочли, сколько им было нужно. Попробовали сделать вылазку, но половина смельчаков была тут же перебита козаками, а половина прогнана в город ни с чем. Жиды, однако же, воспользовались вылазкою и пронюхали всё: куда и зачем отправились запорожцы и с какими военачальниками, и какие именно курени, и сколько их числом, и сколько было оставшихся на месте, и что они думают делать, – словом, чрез несколько уже минут в городе всё узнали. Полковники ободрились и готовились дать сражение. Тарас уже видел то по движенью и шуму в городе и расторопно хлопотал, строил, раздавал приказы и наказы, уставил в три таборы курени, обнесши их возами в виде крепостей, – род битвы, в которой бывали непобедимы запорожцы; двум куреням повелел забраться в засаду; убил часть поля острыми кольями, изломанным оружием, обломками копьев, чтобы при случае нагнать туда неприятельскую конницу. И когда всё было сделано, как нужно, сказал речь козакам, не для того, чтобы ободрить и освежить их, – знал, что и без того крепки они духом, – а, просто, самому хотелось высказать всё, что было на сердце.
„Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Всё взяли бусурманы, всё пропало. Только остались мы сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая так же, как и мы, земля наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь, и там люди! также божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, – видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не те! Нет, братцы, так любить, как русская душа, – любить не то, чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в тебе, а…“ сказал Тарас, и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: „Нет, так любить никто не может! Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их! Перенимают, чорт знает, какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а поскудная милость польского магната, который желтым чоботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, – так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!“
Так говорил атаман и, когда кончил речь, всё еще потрясал посеребрившеюся в козацких делах головою. Всех, кто ни стоял, разобрала сильно такая речь, дошед далеко, до самого сердца. Самые старейшие в рядах стали неподвижны, потупив седые головы в землю; слеза тихо накатывалася в старых очах; медленно отирали они ее рукавом. И потом все, как будто сговорившись, махнули в одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнил им старый Тарас знакомого и лучшего, что бывает на сердце у человека, умудренного горем, трудом, удалью и всяким невзгодьем жизни, или хотя и не познавшего их, но много почуявшего молодою жемчужною душою на вечную радость старцам-родителям, родившим его.
А из города уже выступало неприятельское войско, выгремливая в литавры и трубы, и, подбоченившись, выезжали паны, окруженные несметными слугами. Толстый полковник отдавал приказы. И стали наступать они тесно на козацкие таборы, грозя, нацеливаясь пищалями, сверкая очами и блеща медными доспехами. Как только увидели козаки, что подошли они на ружейный выстрел, все разом грянули в семипядные пищали и, не перерывая, всё палили они из пищалей. Далеко понеслось громкое хлопанье по всем окрестным полям и нивам, сливаясь в беспрерывный гул; дымом затянуло всё поле, а запорожцы всё палили, не переводя духу: задние только заряжали да передавали передним, наводя изумление на неприятеля, не могшего понять, как стреляли козаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великим дымом, обнявшим то и другое воинство, не видно было, как то одного, то другого не ставало в рядах; но чувствовали ляхи, что густо летели пули, и жарко становилось дело; и, когда попятились назад, чтобы посторониться от дыма и оглядеться, то многих не досчитались в рядах своих. А у козаков, может-быть, другой-третий был убит на всю сотню. И всё продолжали палить козаки из пищалей, ни на минуту не давая промежутка. Сам иноземный инженер подивился такой, никогда им не виданной тактике, сказавши тут же, при всех: „Вот бравые молодцы-запорожцы! Вот как нужно биться и другим в других землях!“ И дал совет поворотить тут же на табор пушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунные пушки; дрогнула, далеко загуливши, земля, и вдвое больше затянуло дымом всё поле. Почуяли запах пороха среди площадей и улиц в дальних и крайних городах. Но нацелившие взяли слишком высоко: раскаленные ядра выгнули слишком высокую дугу. Страшно завизжав по воздуху, перелетели они через головы всего табора и углубились далеко в землю, взорвав и взметнув высоко на воздух черную землю. Ухватил себя за волосы французский инженер при виде такого неискусства, и сам принялся наводить пушки, не глядя на то, что жарили и сыпали пулями беспрерывно козаки.
Тарас видел еще издали, что беда будет всему Незамайновскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнул зычно: „Выбирайтесь скорей из-за возов, и садись всякий на коня!“ Но не поспели бы сделать то и другое козаки, если бы Остап не ударил в самую середину; выбил фитили у шести пушкарей, у четырех только не мог выбить. Отогнали его назад ляхи. А тем временем иноземный капитан сам взял в руку фитиль, чтобы выпалить из величайшей пушки, какой никто из козаков не видывал дотоле. Страшно глядела она широкою пастью, и тысяча смертей глядело оттуда. И как грянула она, а за нею следом три другие, четырекратно потрясши глухо-ответную землю, – много нанесли они горя! Не по одному козаку взрыдает старая мать, ударяя себя костистыми руками в дряхлые перси. Не одна останется вдова в Глухове, Немирове, Чернигове и других городах. Будет, сердечная, выбегать всякий день на базар, хватаясь за всех проходящих, распознавая каждого из них в очи, нет ли между их одного, милейшего всех. Но много пройдет через город всякого войска, и вечно не будет между ними одного, милейшего всех.
Так, как будто и не бывало половины Незамайновского куреня! Как градом выбивает вдруг всю ниву, где, что полновесный червонец, красовался всякий колос, так их выбило и положило.
Как же вскинулись козаки! Как схватились все! Как закипел куренной атаман Кукубенко, увидевши, что лучшей половины куреня его нет! Разом вбился он с остальными своими незамайновцами в самую середину. В гневе иссек в капусту первого попавшегося, многих конников сбил с коней, доставши копьем и конника и коня, пробрался к пушкарям и уже отбил одну пушку. А уж там, видит, хлопочет уманский куренной атаман, и Степан Гуска уже отбивает главную пушку. Оставил он тех козаков и поворотил с своими в другую неприятельскую гущу. Так, где прошли незамайновцы, – так там и улица, где поворотились – так уж там и переулок! Так и видно, как редели ряды, и снопами валились ляхи! А у самых возов Вовтузенко, а спереди Черевиченко, а у дальних возов Дёгтяренко, а за ним куренной атаман Вертыхвист. Двух уже шляхтичей поднял на копье Дегтяренко, да напал, наконец, на неподатливого третьего. Увертлив и крепок был лях, пышной сбруей украшен и пятьдесят одних слуг привел с собою. Погнул он крепко Дегтяренка, сбил его на землю и уже, замахнувшись на него саблей, кричал: „Нет из вас, собак-козаков, ни одного, кто бы посмел противустать мне!“
„А вот есть же!“ сказал и выступил вперед Мосий Шило. Сильный был он козак, не раз атаманствовал на море и много натерпелся всяких бед. Схватили их турки у самого Трапезонта и всех забрали невольниками на галеры, взяли их по рукам и ногам в железные цепи, не давали по целым неделям пшена и поили противной морской водою. Всё выносили и вытерпели бедные невольники, лишь бы не переменять православной веры. Не вытерпел атаман Мосий Шило, истоптал ногами святой закон, скверною чалмой обвил грешную голову, вошел в доверенность к паше, стал ключником на корабле и старшим над всеми невольниками. Много опечалились оттого бедные невольники, ибо знали, что если свой продаст веру и пристанет к угнетителям, то тяжелей и горше быть под его рукой, чем под всяким другим нехристом. Так и сбылось. Всех посадил Мосий Шило в новые цепи по три в ряд, прикрутил им до самых белых костей жестокие веревки; всех перебил по шеям, угощая подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себе такого слугу, стали пировать и, позабыв закон свой, все перепились, он принес все шестьдесят четыре ключа и роздал невольникам, чтобы отмыкали себя, бросали бы цепи и кайданы в море, а брали бы на место того сабли да рубили турков. Много тогда набрали козаки добычи и воротились со славою в отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосия Шила. Выбрали бы его в кошевые, да был совсем чудной козак. Иной раз повершал такое дело, какого мудрейшему не придумать, а в другой, просто, дурь одолевала козака. Пропил он и прогулял всё, всем задолжал на Сечи и, в прибавку к тому, прокрался, как уличный вор: ночью утащил из чужого куреня всю козацкую сбрую и заложил шинкарю. За такое позорное дело привязали его на базаре к столпу и положили возле дубину, чтобы всякий, по мере сил своих, отвесил ему по удару. Но не нашлось такого из всех запорожцев, кто бы поднял на него дубину, помня прежние его заслуги. Таков был козак Мосий Шило.