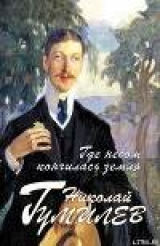
Текст книги "Где небом кончилась земля : Биография. Стихи. Воспоминания"
Автор книги: Николай Гумилев
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Гиппопотам с огромным брюхом
Живет в яванских тростниках,
Где в каждой яме стонут глухо
Чудовища, как в страшных снах.
Свистит боа, скользя над кручей,
Тигр угрожающе рычит,
И буйвол фыркает могучий,
А он пасется или спит.
Ни стрел, ни острых ассагаев —
Он не боится ничего,
И пули меткие сипаев
Скользят по панцирю его.
И я в родне гиппопотама:
Одет в броню моих святынь,
Иду торжественно и прямо
Без страха посреди пустынь.
Открытие Америки
Песнь перваяПеснь вторая
Свежим ветром снова сердце пьяно,
Тайный голос шепчет: «Все покинь!»
Перед дверью над кустом бурьяна
Небосклон безоблачен и синь,
В каждой луже запах океана,
В каждом камне веянье пустынь.
Мы с тобою, Муза, быстроноги,
Любим ивы вдоль степной дороги,
Мерный скрип колес и вдалеке
Белый парус на большой реке.
Этот мир, такой святой и строгий,
Что нет места в нем пустой тоске.
Ах, в одном божественном движенье
Косным нам дано преображенье,
В нем и мы – не только отраженье,
В нем живым становится, кто жил…
О, пути земные, сетью жил,
Розой вен вас Бог расположил!
И струится, и поет по венам
Радостно бушующая кровь;
Нет конца обетам и изменам,
Нет конца веселым переменам,
И отсталых подгоняют вновь
Плетью боли Голод и Любовь.
Дикий зверь бежит из пущей в пущи,
Краб ползет на берег при луне,
И блуждает ястреб в вышине, —
Голодом и Страстью всемогущей
Все больны, – летящий и бегущий,
Плавающий в черной глубине.
Веселы, нежданны и кровавы
Радости, печали и забавы
Дикой и пленительной земли;
Но всего прекрасней жажда славы,
Для нее родятся короли,
В океанах ходят корабли.
Что же, Муза, нам с тобою мало,
Хоть нежны мы, быть всегда вдвоем!
Скорбь о высшем в голосе твоем:
Хочешь, мы с тобою уплывем
В страны нарда, золота, коралла
В первой каравелле Адмирала?
Видишь? город… веянье знамен…
Светит солнце, яркое, как в детстве,
С колоколен раздается звон,
Провозвестник радости, не бедствий,
И над портом, словно тяжкий стон,
Слышен гул восторга и приветствий.
Где ж Колумб? Прохожий, укажи! —
«В келье разбирает чертежи
С нашим старым приором Хуаном;
В этих прежних картах столько лжи,
А шутить не должно с океаном
Даже самым смелым капитанам».
Сыплется в узорное окно
Золото и пурпур повечерий,
Словно в зачарованной пещере,
Сон и явь сливаются в одно,
Время тихо, как веретено
Феи-сказки дедовских поверий.
В дорогой кольчуге Христофор,
Старый приор в праздничном убранстве,
А за ними поднимает взор
Та, чей дух – крылатый метеор,
Та, чей мир в святом непостоянстве,
Чье названье – Муза Дальних Странствий.
Странны и горды обрывки фраз:
«Путь на юг? Там был уже Диас!»…
– Да, но кто слыхал его рассказ?.. —
«…У страны Великого Могола
Острова»… – Но где же? Море голо.
Путь на юг… – «Сеньор! А Марко Поло?»
Вот взвился над старой башней флаг,
Постучали в дверь – условный знак, —
Но друзья не слышат. В жарком споре —
Что для них отлив, растущий в море!..
Столько не разобрано бумаг,
Столько не досказано историй!
Лишь когда в сады спустилась мгла,
Стало тихо и прохладно стало,
Муза тайный долг свой угадала,
Подошла и властно адмирала,
Как ребенка, к славе увела
От его рабочего стола.
Песнь третья
Двадцать дней, как плыли каравеллы,
Встречных волн проламывая грудь;
Двадцать дней, как компасные стрелы
Вместо карт указывали путь
И как самый бодрый, самый смелый
Без тревожных снов не мог заснуть.
И никто на корабле, бегущем
К дивным странам, заповедным кущам,
Не дерзал подумать о грядущем;
В мыслях было пусто и темно;
Хмуро измеряли лотом дно,
Парусов чинили полотно.
Астрологи в вечер их отплытья
Высчитали звездные событья,
Их слова гласили: «Все обман».
Ветер слева вспенил океан,
И пугали ужасом наитья
Темные пророчества гитан.
И напрасно с кафедры прелаты
Столько обещали им наград,
Обещали рыцарские латы,
Царства обещали вместо платы,
И про золотой индийский сад
Столько станц гремело и баллад…
Все прошло, как сон! А в настоящем —
Смутное предчувствие беды,
Вместо славы тяжкие труды
И под вечер – призраком горящим,
Злобно ждущим и жестоко мстящим —
Солнце в бездне огненной воды.
Хозе помешался и сначала
С топором пошел на адмирала,
А потом забился в дальний трюм
И рыдал… Команда не внимала,
И несчастный помутневший ум
Был один во власти страшных дум.
По ночам садились на канаты
И шептались – а хотелось выть:
«Если долго вслед за солнцем плыть,
То беды кровавой не избыть:
Солнце в бездне моется проклятой,
Солнцу ненавистен соглядатай!»
Но Колумб забыл бунтовщиков,
Он молчит о лени их и пьянстве;
Целый день на мостике готов,
Как влюбленный, грезить о пространстве;
В шуме волн он слышит сладкий зов,
Уверенья Музы Дальних Странствий.
И пред ним смирялись моряки:
Так над кручей злобные быки
Топчутся, их гонит пастырь горный,
В их сердцах отчаянье тоски,
В их мозгу гнездится ужас черный,
Взор свиреп… и все ж они покорны!
Но не в город и не под копье
Смуглым и жестоким пикадорам
Адмирал холодным гонит взором
Стадо оробелое свое,
А туда, в иное бытие,
К новым, лучшим травам и озерам.
Если светел мудрый астролог,
Увидал безвестную комету;
Если, новый отыскав цветок,
Мальчик под собой не чует ног;
Если выше счастья нет поэту,
Чем придать нежданный блеск сонету;
Если как подарок нам дана
Мыслей неоткрытых глубина,
Своего не знающая дна,
Старше солнц и вечно молодая…
Если смертный видит отсвет рая,
Только неустанно открывая, —
То Колумб светлее, чем жених
На пороге радостей ночных,
Чудо он духовным видит оком,
Целый мир, неведомый пророкам,
Что залег в пучинах голубых,
Там, где запад сходится с востоком.
Эти воды Богом прокляты!
Этим страшным рифам нет названья!
Но навстречу жадного мечтанья
Уж плывут, плывут, как обещанья,
В море ветви, травы и цветы,
В небе птицы странной красоты.
– Берег, берег!.. – И чинивший знамя
Замер, прикусив зубами нить,
А державший голову руками
Сразу не посмел их отпустить.
Вольный ветер веял парусами,
Каравеллы продолжали плыть.
Кто он был, тот первый, светлоокий,
Что, завидев с палубы высокой
В диком море остров одинокий,
Закричал, как коршуны кричат?
Старый кормщик, рыцарь иль пират,
Ныне он Колумбу – младший брат!
Что один исчислил по таблицам,
Чертежам и выцветшим страницам,
Ночью угадал по вещим снам, —
То увидел в яркий полдень сам
Тот, другой, подобный зорким птицам,
Только птицам, Муза, им и нам.
Словно дети, прыгают матросы,
Я так счастлив… нет, я не могу…
Вон журавль смешной и длинноносый
Полетел на белые утесы,
В синем небе описав дугу,
Вот и берег… мы на берегу.
Престарелый, в полном облаченье,
Патер совершил богослуженье,
Он молил: «О Боже, не покинь
Грешных нас…» – кругом звучало пенье,
Медленная, медная латынь
Породнилась с шумами пустынь.
И казалось, эти же поляны
Нам не раз мерещились в бреду…
Так же на змеистые лианы
С криками взбегали обезьяны;
Цвел волчец; как грешники в аду,
Звонко верещали какаду…
Так же сладко лился в наши груди
Аромат невиданных цветов,
Каждый шаг был так же странно нов,
Те же выходили из кустов,
Улыбаясь и крича о чуде,
Красные, как медь, нагие люди.
Ах! не грезил с нами лишь один,
Лишь один хранил в душе тревогу,
Хоть сперва, склонясь, как паладин
Набожный, и он молился Богу,
Хоть теперь целует прах долин,
Стебли трав и пыльную дорогу.
Как у всех матросов, грудь нага,
В левом ухе медная серьга
И на смуглой шее нить коралла,
Но уста (их тайна так строга),
Взор, где мысль гореть не перестала,
Выдали нам, Муза, адмирала.
Он печален, этот человек,
По морю прошедший как по суше,
Словно шашки, двигающий души
От родных селений, мирных нег
К диким устьям безымянных рек…
Что он шепчет!.. Муза, слушай, слушай!
«Мой высокий подвиг я свершил,
Но томится дух, как в темном склепе.
О Великий Боже, Боже Сил,
Если я награду заслужил,
Вместо славы и великолепий,
Дай позор мне, Вышний, дай мне цепи!
Крепкий мех так горд своим вином,
Но когда вина не стало в нем,
Пусть хозяин бросит жалкий ком!
Раковина я, но без жемчужин,
Я поток, который был запружен, —
Спущенный, теперь уже не нужен».
Да! Пробудит в черни площадной
Только смех бессмысленно-тупой,
Злость в монахах, ненависть в дворянстве
Гений, обвиненный в шарлатанстве!
Как любовник для игры иной,
Он покинут Музой Дальних Странствий…
Я молчал, закрыв глаза плащом.
Как струна, натянутая туго,
Сердце билось быстро и упруго,
Как сквозь сон я слышал, что подруга
Мне шепнула: «Не скорби о том,
Кто Колумбом назван… Отойдем!»
Очень точно сказал С. Маковский: «Эти стихи (вошедшие в сборник «Чужое небо») написаны вскоре после возвращения Гумилева из африканского путешествия. Помню, он был одержим впечатлениями от Сахары и подтропического леса и с мальчишеской гордостью показывал свои «трофеи» – вывезенные из «колдовской» страны Абиссинии слоновые клыки, пятнистые шкуры гепардов и картины-иконы на кустарных тканях, напоминающие большеголовые романские примитивы. Только и говорил об опасных охотах, о чернокожих колдунах и о созвездиях южного неба – там, в Африке, доисторической родине человечества, что висит «исполинской грушей» «на дереве древнем Евразии…»
Но рецензии на новый сборник были куда более сдержанными, нежели на «Жемчуга». Похвала В.Я. Брюсова, который отдал в обзоре, посвященном ни много, ни мало, пятидесяти новым сборникам стихов, страничку «Чужому небу», вряд ли и похвала, скорее это замаскированный выпад. Рецензент заметил, что третья книга стихов (так обозначено автором) в действительности – четвертая, напоминая Гумилеву о сборнике, им старательно забываемом. Далее следует констатация: «По-прежнему холодные, но всегда продуманные стихи Н. Гумилева оставляют впечатление работ художника одаренного, любящего свое искусство, знакомого со всеми тайнами его техники. Н. Гумилев не учитель, не проповедник; значение его стихов гораздо больше в том, как он говорит, нежели в том, что он говорит». Вывод уничижительный: «Гумилев пишет и будет писать прекрасные стихи: не будем спрашивать с него больше, чем он может нам дать…»
Это была месть за то, что Гумилев не только заявил о смерти символизма, но и создал новую литературную школу, которую сам возглавил. Потому В.Я. Брюсов и отмечает, что Гумилев не учитель и не проповедник, следовательно – кого и чему он может научить, что в силах проповедовать? В.Я. Брюсов был настолько недоволен этим восстанием молодых литераторов, что посвятил акмеизму отдельную статью, доказывая – способным поэтам А. Ахматовой, С. Городецкому, Н. Гумилеву надо бросить вредные фантазии и заниматься писанием стихов, это у них хорошо получается.
Уже без каких-либо обиняков как неудачу расценил «Чужое небо» Б. Садовской. Сравнение, использованное им для наглядности, выразительно – бриллианты Тэта неотличимы от настоящих, но все же это стекляшки, и не более того. То же и со стихами Гумилева: «И недаром книга г. Гумилева называется «Чужое небо» в ней все чужое, все заимствованное, мертворожденное, высосанное из пальца. Чего только не придумывает г. Гумилев, чтобы походить на поэта! Спазмами сочинительства он думает искупить роковое отсутствие вдохновения и таланта». Примеры, взятые рецензентом из стихов Гумилева, приводить не стоит, надо лишь заметить, что слабых строк, а то и вовсе несуразностей в сборнике хватает. Однако оценка зависит от того, что хочет отыскать ценитель, на чем сосредоточивает свое внимание. Б. Садовской открыто необъективен. Зато отзыв М. Кузмина – почти лестный.

Лев в пустыне. Неизвестный абиссинский художник. нач. XX в.
Полемика вокруг стихов Гумилева, полярность оценок означали, что Гумилев стал в литературном мире вполне реальной величиной, с которой надо либо считаться, либо бороться, правильнее – и то, и другое.
Когда сборник «Чужое небо» увидел свет, Гумилев и А. Ахматова были в Италии. Однако так вышло – ехали они заграницу вместе, а оказались в разных городах. Гумилев жил без жены во Флоренции.
Флоренция
О сердце, ты неблагодарно!
Тебе – и розовый миндаль,
И горы, вставшие над Арно,
И запах трав, и в блеске даль.
Но, тайновидец дней минувших,
Твой взор мучительно следит
Ряды в бездонном потонувших,
Тебе завещанных обид.
Тебе нужны слова иные,
Иная, страшная пора.
…Вот грозно встала Синьория,
И перед нею два костра.
Один, как шкура леопарда,
Разнообразен, вечно нов.
Там гибнет «Леда» Леонардо
Средь благовоний и шелков.
Другой, зловещий и тяжелый,
Как подобравшийся дракон,
Шипит: «Вотще Савонаролой
Мой дом державный потрясен».
Они ликуют, эти звери,
А между них, потупя взгляд,
Изгнанник бледный, Алигьери
Стопой неспешной сходит в Ад.
А. Ахматова жила без мужа в Риме.
Рим
Волчица с пастью кровавой
На белом, белом столбе,
Тебе, увенчанной славой,
По праву привет тебе.
С тобой младенцы, два брата,
К сосцам стремятся припасть.
Они не люди, волчата,
У них звериная масть.
Не правда ль, ты их любила,
Как маленьких, встарь, когда,
Рыча от бранного пыла,
Сжигали они города.
Когда же в царство покоя
Они умчались, как вздох,
Ты, долго и страшно воя,
Могилу рыла для трех.
Волчица, твой город тот же
У той же быстрой реки.
Что мрамор высоких лоджий,
Колонн его завитки,
И лик Мадонн вдохновенный,
И храм святого Петра,
Покуда здесь неизменно
Зияет твоя нора,
Покуда жесткие травы
Растут из дряхлых камней
И смотрит месяц кровавый
Железных римских ночей?!
И город цезарей дивных,
Святых и великих пап,
Он крепок следом призывных,
Косматых звериных лап.
Жизненные пути их все более расходились, хотя до окончательного расставания было пока далеко. Признаем, что поведение Гумилева зачастую предосудительно, так к близкому человеку не относятся. «Отстаивая свою «свободу», он на целый день уезжал из Царского, где-то пропадал до поздней ночи и даже не утаивал своих «побед»… Ахматова страдала глубоко. В ее стихах, тогда написанных, но появившихся в печати несколько позже (вошли в сборники «Вечер» и «Четки»), звучит и боль от ее заброшенности, и ревнивое томление по мужу…» – свидетельство мемуариста, увы, достойно доверия.
Вернувшись из заграницы, Гумилев отправился в Слепнево, ему необходимо было работать. После возвращения из Слепнева в августе пришлось поселиться в меблированных комнатах «Белград» в Петербурге. Дом в Царском Селе летом сдавался дачникам.
А. Ахматовой до родов оставались считанные дни. С ее слов потом записывает то, как развивались события, П. Лукницкий: «АА и Николай Степанович находились тогда в Ц[арском] С[еле]. АА проснулась очень рано, почувствовала толчки. Подождала немного. Еще толчки. Тогда АА заплела косы и разбудила Николая Степановича: «Кажется, надо ехать в Петербург». С вокзала в родильный дом шли пешком, потому что Николай Степанович так растерялся, что забыл, что можно взять извозчика или сесть в трамвай. В 10 ч. утра были уже в родильном доме на Васильевском острове.
А вечером Николай Степанович пропал. Пропал на всю ночь. На следующий день все приходят к АА с поздравлениями. АА узнает, что Николай Степанович дома не ночевал. Потом наконец приходит и Николай Степанович, с «лжесвидетелем». Поздравляет. Очень смущен».
Между тем С. Маковский приводит подробности уж совсем отвратительные: «Тяжелые роды прошли ночью в одной из петербургских клиник. Был ли доволен Гумилев этим «прибавлением семейства»? От его троюродного брата Д.В. Кузьмина-Караваева (в священстве отца Дмитрия) я слышал довольно жуткий рассказ об этой ночи. Будто бы Гумилев, настаивая на своем презрении к «брачным узам», кутил до утра с троюродным братом, шатаясь по разным веселым учреждениям, ни разу не справился о жене по телефону, пил в обществе каких-то девиц. По словам отца Дмитрия, все это имело вид неумно-самолюбивой позы, было желанием не быть «как все»…»
Мальчика, родившегося 18 сентября 1912 года в родильном приюте императрицы Александры Федоровны, расположенном на 18-й линии Васильевского острова, назвать решили Львом. Это свидетельствует, в частности, и о том, что родовую фамилию поэт все же, несмотря на некоторую неприязнь к этому факту, воспринимал с ударением на первом слоге, а «Гумилев» с ударением на слоге последнем так и оставалось псевдонимом (в противном случае, имя, выбранное для сына, могло бы представляться в высшей степени странным, почти насмешкой, рифмованной дразнилкой, тогда как при ударении на первом слоге появлялось благородное «эхо», но не рифма).
Наверное, уместно здесь вспомнить разговор, который состоялся между Гумилевым и В. Срезневской, подругой А. Ахматовой: «Я помню, раз мы шли по набережной Невы с Колей и мирно беседовали о чувствах мужчин и женщин, и он сказал: «Я знаю только одно, что настоящий мужчина, – полигамист, а настоящая женщина моногамична». – «А вы такую женщину знаете?» – спросила я. «Пожалуй, нет. Но думаю, что она есть», – смеясь ответил он. Я вспомнила Ахматову, но, зная, что это больно, промолчала.
У Ахматовой большая и сложная жизнь сердца… Но Николай Степанович, отец ее единственного ребенка, занимает в жизни ее сердца скромное место. Странно, непонятно, может быть, и необычно, но это так».
В. Срезневская оправдывает и Гумилева, и, конечно, А. Ахматову. И если поведение этой супружеской пары можно назвать странным, а можно – вполне обычным, то оправдание это, без всякого сомнения, анекдотично.
В том же 1912 году Гумилев начал вновь посещать университет. Юриспруденция была оставлена, теперь Гумилев ходит на семинары В.Ф. Шишмарева и Д.К. Петрова, преподававших на историко-филологическом факультете.
«Кружок романо-германистов», которым руководил профессор Д.К. Петров, был создан по почину Гумилева и занимались там изучением старофранцузской поэзии. «Кружком изучения поэтов», возникшим, опять-таки, гумилевскими стараниями, руководил профессор И.И. Толстой. На одном из занятий кружка Гумилев сделал доклад о творчестве Т. Готье, высоко им ценимого. Гумилев изучает латинский и английский языки. И супружеская чета даже сняла другую комнату, чтобы до университета было ближе.
С октября месяца начинает выходить журнал «Гиперборей», издателем которого стал поэт М. Лозинский, а вдохновителем и фактическим руководителем – Гумилев. Журнал представлял «Цех поэтов».
Но и «Цех поэтов», и сам Гумилев, и акмеизм воспринимались вовсе не однозначно. Например, А. Ахматова, ссылаясь на мнение критика и поэта Н. Недоброво, мнение крайне отрицательное, во многом была с ним солидарна: «Недоброво: акмеизм – это личные черты творчества Николая Степановича. Чем отличаются стихи акмеистов от стихов, скажем, начала XIX века? Какой же это акмеизм? Реакция на символизм просто потому, что символизм под руку попадался. Николай Степанович – если вчитаться – символист. Мандельштам: его поэзия – темная, непонятная для публики, византийская, при чем же здесь акмеизм? Ахматова: те же черты, которые дают ей Эйхенбаум и другие, – эмоциональность, экономия слов, насыщенность, интонация – разве все это было теорией Николая Степановича? Это есть у каждого поэта XIX века, и при чем же здесь акмеизм? С. Городецкий: во-первых, очень плохой поэт, во-вторых, он был сначала мистическим анархистом, потом – теории Вяч. Иванова, потом – акмеист, потом «Лукоморье» и «патриотические» стихи, а теперь – коммунист. У него своей индивидуальности нет. В 1913 – 1914 годах уже нам было странно, что Городецкий – синдик «Цеха», как-то странно… В «Цехе» все были равноправны, спорили. Не было такого «начальства». Гумилева или кого-нибудь. Мало вышло? Уже Гумилева, Мандельштама – достаточно. В «Цехе» 25 человек – значит, 1 на 10 вышел, а у Случевского было человек 40 – и никого. А из «Звучащей раковины» или 3-го «Цеха» разве вышел кто-нибудь?»
Но Гумилева интересуют не только литература и литераторы. Среди тех, с кем он много и охотно общается в этот период, ученые В. Шилейко (впоследствии второй муж А. Ахматовой) и В. Срезневский. А беседа с врачом русского отряда Красного креста А. Кохановским, прибывшим из Африки (он посетил Гумилева), вновь напомнила о том, о чем, собственно, он и не забывал – об этом далеком и манящем континенте.
Гумилев начал готовиться к новой поездке, об этом имеется короткая запись в его «африканском дневнике»: «Приготовления к путешествию заняли месяц упорного труда. Надо было достать палатку, ружья, седла, вьюки, удостоверения, рекомендательные письма и пр. и пр.
Я так измучился, что накануне отъезда весь день лежал в жару».

Заседание «Цеха поэтов»: Н. Клюев, М. Лозинский, А. Ахматова, М. Зенкевич. Рисунок С. Городецкого, 1913 г.
На сей раз Гумилев ехал в Африку, имея командировку от Музея антропологии и этнографии. Впрочем, денег было ассигновано совсем немного, и Гумилеву пришлось добавлять из скудных своих средств. Первоначальный маршрут, все из-за той же нехватки денег, был заменен на другой. Вместе с Н. Сверчковым, или Колей-младшим, племянником, Гумилев отправляется в Одессу, откуда 10 апреля путешественники вышли на пароходе. Путь их лежал в Джибути. Это был уже не просто порыв, это было осмысленное и долго чаемое действие.
В начале очерка «Африканская охота» дано описание Африки, как представлялась она путешественникам и как запечатлена художниками: «На старинных виньетках часто изображали Африку в виде молодой девушки, прекрасной, несмотря на грубую простоту ее форм, и всегда, всегда окруженной дикими зверями. Над ее головой раскачиваются обезьяны, за ее спиной слоны помахивают хоботами, лев лижет ее ноги, рядом на согретом солнцем утесе нежится пантера».
По мнению Гумилева, образ этот абсолютно схож с тем, что видит побывавший в Африке, и решительно отличается от того, что может себе представить европеец, мирно устроившийся у себя дома (знания его, следует добавить, почерпнуты исключительно из колониальных романов, жанра как занимательного, так и слишком искусственного, где чаемое выдается за действительное, а и верно действительное остается вне поля зрения).
«Борьба человека с природой», по выражению Гумилева (насколько созвучна эта посылка с утверждениями всякого рода покорителей природы советской эпохи и насколько не схожи выводы, сделанные в том и другом случае), итак, борьба отнюдь не кончилась, и африканские просторы, на которых властвуют звери, а вовсе не люди, самое веское тому подтверждение. «И в то же время, – добавляет он, – нельзя сказать, что Африка не гостеприимна, – ее леса равно открыты для белых, как и для черных, к ее водопоям по молчаливому соглашению человек подходит раньше зверя. Но она ждет именно гостей и никогда не признает их хозяевами».
Впрочем, трудно назвать хозяйским то отношение, с которым относились к живому тогдашние (о нынешних и не говорю) охотники. Достаточно прочитать описание ловли акулы из того же «африканского дневника». Дело происходило в Джедде: «Пока агент компании приготовлял разные бумаги, старший помощник капитана решил заняться ловлей акулы. Громадный крюк с десятью фунтами гнилого мяса, привязанный к крепкому канату, служил удочкой, поплавок изображало бревно. Три с лишком часа длилось напряженное ожидание.
То акул совсем не было видно, то они проплыли так далеко, что их лоцманы не могли заметить приманки.
Акула очень близорука, и ее всегда сопровождают две хорошенькие небольшие рыбки, которые и наводят ее на добычу. Наконец в воде появилась темная тень сажени в полторы длиною, и поплавок, завертевшись несколько раз, нырнул в воду. Мы дернули за веревку, но вытащили лишь крючок. Акула только кусала приманку, но не проглотила ее. Теперь, видимо огорченная исчезновеньем аппетитно пахнущего мяса, она плавала кругами почти на поверхности и всплескивала хвостом по воде. Сконфуженные лоцманы носились туда и сюда. Мы поспешили забросить крючок обратно. Акула бросилась к нему, уже не стесняясь. Канат сразу натянулся, угрожая лопнуть, потом ослаб, и над водой показалась круглая лоснящаяся голова с маленькими злыми глазами. Десять матросов с усильями тащили канат. Акула бешено вертелась, и слышно было, как она ударяла хвостом о борт корабля. Помощник капитана, перегнувшись через борт, разом выпустил в нее пять пуль из револьвера. Она вздрогнула и немного стихла. Пять черных дыр показались на ее голове и беловатых губах. Еще усилье, и ее подтянули к самому борту. Кто-то тронул ее за голову, и она щелкнула зубами. Видно было, что она еще совсем свежа и собирается с силами для решительной битвы. Тогда, привязав нож к длинной палке, помощник капитана сильным и ловким ударом вонзил его ей в грудь и, натужившись, довел разрез до хвоста. Полилась вода, смешанная с кровью, розовая селезенка аршина в два величиною, губчатая печень и кишки вывалились и закачались в воде, как странной формы медузы. Акула сразу сделалась легче, и ее без труда вытащили на палубу. Корабельный кок, вооружившись топором, стал рубить ей голову. Кто-то вытащил сердце и бросил его на пол. Оно пульсировало, двигалось то туда, то сюда лягушечьими прыжками. В воздухе стоял запах крови».

Н. Сверчков. Фотография, 1914—1915 гг.
Все для того, чтобы отрубить у акулы челюсти, из которых потом вываривают зубы, а тушу сбросить обратно за борт. А бедная рыбка лоцман все выпрыгивала и выпрыгивала из воды, не находя акулу, с которой она плавала неразлучно.
В сцене этой запрятаны, зашифрованы и Первая мировая война, с неосознанными, тупыми массами солдат, истребляющими друг друга на фронте, и даже Вторая мировая, с Майданеком и Освенцимом. Потребовалось целых две войны, чтобы люди если и не стали умнее, то задумались о том, что есть человечность. Однако – все это потом. Пока на дворе 1913 год.
Описывать путешествие нет возможности, поскольку сейчас «африканский дневник», долгое время считавшийся пропавшим, опубликован, лучше самому заглянуть в него и узнать, как переправлялись через реку Уаби, битком набитую крокодилами, как пытались искать золото, как изнемогали от лихорадки.
Кроме материалов по культуре и фольклору, кроме различных экспонатов, сданных потом в Музей этнографии, Гумилев привез стихи. Они могут заменить пространные описания и научные отчеты.








