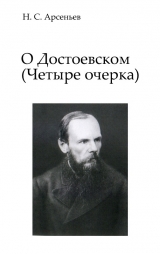
Текст книги "О Достоевском: Четыре очерка"
Автор книги: Николай Арсеньев
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
III. Достоевский и молодежь
1
«Я – неисправимый идеалист, я ищу святынь. Я люблю их, мое сердце их жаждет, потому что я так создан, что не могу жить без святынь» – так пишет в «Дневнике Писателя» Достоевский. И прибавляет далее : «Но всё же я хотел бы святынь хоть капельку посвятее, не то – стоит ли им поклоняться» [49]49
В заключительной главе февральского выпуска 1876 года.
[Закрыть]).
Эти слова характеризуют многое в миросозерцании и духовном облике Достоевского и, в частности, его отношение к молодежи, т. е. прежде всего, конечно, к русской современной ему молодежи.
Это свидетельство его о себе прежде всего еще раз подтверждает, еще раз раскрывает нам некоторую основную черту его духовной жизни: не эмоциональность только, а гораздо большее, более глубокое и более творческое – горение внутренним огнем, которое сопровождает его в течение всей его жизни. Но это духовное горение соединяется у него с почти юношеским темпераментом. Этот угрюмый, угловатый, часто такой – казалось бы – замкнутый человек обладает именно почти юношеским темпераментом с юношеской отзывчивостью к жизни. Это не только духовное горение. Это – несмотря на года, на болезнь, на житейскую вседневную трепку, на тяжелейшие испытания жизни – пламя вдруг вспыхивающего юношеского порыва, юношеской динамики, и вместе с тем горение творческого гения, соединенные с горением духовным. Поэтому ему так приятны настроения молодости – творческое брожение, искание и непосредственность и сила эмоциональной реакции. Поэтому физически довольно рано постаревший Достоевский так иногда юн душой и так может понимать молодежь. Не понимать только, он ее любит и поэтому считает себя обязанным давать ей свое лучшее, т. е. не льстить ей, а говорить ей правду.
Он сам горит духом, он понимает горячую готовность служения и жертвенность у молодежи, более того, даже их сумбурные эмоциональные противоречия и преувеличенные искания, и их желание (у многих) найти святыню, идеал и поклониться ему. Но он хотел бы, чтобы их святыня была несколько святее. Он приветствует – или готов приветствовать – и ценит и любит их порыв (но только если он чист и не исполнен духа лжи и внутренней подмены), но он внимательно, правдиво, углубленно–критически относится к их идеалам. Он критикует их идеалы, он бичует их идеалы, если считает их духовным суррогатом, ложным и разрушительным, духовной ложью, обманом.
Вот – основная схема отношений Достоевского к молодежи, любя ее искренний порыв, его психологическую чистоту и горячность (если он таков), он бесстрашно борется против лжи этих идеалов если они ложны – из любви к истине, из сознания своего призвания служить истине и любви к той же молодежи.
2
У нас много примеров как Достоевский любил молодежь, любил с ней бывать, с ней общаться и встречаться (поскольку это не мешало его работе), а также и того, как молодежь влеклась к нему, влеклась невольно даже к тому, чтобы слушать его суровые обличительные, но исполненные часто такой внутренней доброты и участия, речи.
Динамизм молодежи и динамимз Достоевского внутренне перекликались. Мы имеем ряд трогательных воспоминаний изображающих как Достоевский любил быть с молодыми, любил не только беседовать или спорить с ними, но и входить в их веселье, организовывать их веселье. Об этом напр: рассказывает в своих воспоминаниях его племянница М. А. Иванова (1848–1929), особенно о лоте 1866 г., которое Достоевский провел вместо с семьей Ивановых на даче в Люблине, когда он писал пятую часть «Преступления и Наказания».
«Дни и вечера – пишет она – Достоевский проводил с молодежью. Хотя ему было сорок пять лет, он чрезвычайно просто держался с молодой компанией, был первым затейником всяких развлечений и проказ. После ужина было самое веселое время. Играли и гуляли часов до двух – трех ночи, ходили в Кузьминки, в Царицыно. К компании Ивановых присоединялись знакомые дачники, жившие в Люблине по соседству. Во всех играх и прогулках первое место принадлежало Федору Михайловичу. Иногда бывало, что во время игр он оставлял присутствующих и уходил к себе на дачу записать что либо для своей работы. 3 таких случаях он просил минут через десять прийти за ним. Но когда за ним приходили, то заставали его так увлеченным работой, что он сердился на пришедших и прогонял их. Через некоторое время он возвращался сам, веселый и опять готовый к продолжению игры. Рассказывать о своей работе он очень не любил» [50]50
Воспоминания М. И. Ивановой вышли в журнале «Новый Мир», 1926, ном. 3, стр. 138–144.
Срв. Ф. М. Достоевский в Воспоминаниях Современников, Москва. 1964. том 1, стр. 363. 364.
[Закрыть]).
В таком же духе повествует о том же периоде жизни Достоевского Н. фон Фохт, тогда молодой студент Константиновского Межевого Института [51]51
«Ф. М. Достоевский очень любил молодежь и почти всё свое свободное время от занятий он всецело отдавал этой молодежи, руководя всеми ее развлечениями» (Н. фон Фохт : Из биографии Ф. М. Достоевского. Исторический Вестник. 1901. ном. 12. стр. 1023–1033). Перепечатано в «Ф. М. Достоевский в Воспоминаниях Современников». Москва. 1964, том 1, особенно стр. 379. 376.
[Закрыть]).»
Но особенно врезывались в память молодежи и плодотворными бывали ответы Достоевского ни их духовные искания и борения, его попытки помочь им разобраться в обуревавших их проблемах, подать им руку помощи, поддержать их в их исканиях Правды и Добра.
«Я знаю», пишет его сотрудник писатель А. П. Милюков (1817–1897). – как однажды пришел к нему незнакомый студент, не в видах получения какого нибудь покровительства. а только с желанием открыть свои религиозные и нравственные сомнения симпатичному человеку, и после довольно продолжительной беседы с ним вышел в слезах, ободренный и обновленный душевно. И кажется это не единственный случай в таком роде. Можно ли было так действовать на молодежь без горячей любви к ней» [52]52
Там же. том I, стр. 326.
[Закрыть])
И мы видим это из ряда писем Достоевского к молодежи, Но особенно сильно – до поразительности – это схвачено и передано нам одной молодой девушкой, студенткой, работавшей корректором в типографии Траншеля. где Достоевский печатал в 1873–74 год свой «Дневник Писателя»). О. Починковекой (она же Тимофеева, 1850–1931). [53]53
В. В. Тимофеева (она же О. Починковская) «Год Работы с Великим Писателем» (Исторический Вестник, февраль 1904 г., стр. 458–549). Также в книге «Ф. М. Достоевский в Воспоминаниях Современников», т. II, Издательство Художественная Литература стр. 122–185.
[Закрыть]). Написан ею этот замечательный очерк позднее, но на основании – как она сама указывает – записей сделанных ею под непосредственным впечатлением бесед с Достоевским. Его речи глубоко запали ей в душу и потрясли ее и – более того – повлияли глубоко на всю ее духовную жизнь. Она так обобщает (в начале своего очерка) это воздействие Достоевского на молодежь : он так «пронизал нам душу любовною жалостью, состраданием ко всему страдающему, что нам стало тесно в семье и всё больное, забитое и приниженное стало нам близко и родственно как свое» [54]54
Ф. М. Достоевский в Воспоминаниях Современников, том II. стр. 127.
[Закрыть]). Характерные слова, которыми она описывает тогдашние искания молодежи, сходной с ней по настроениям и не находившей себе руководителя:
«Мы искали тогда – ив книгах и в людях, вообще на чужбине, вне нас самих – самого лучшего «лагеря» — не призрачного, не фальшивого и не противного сердцу, такого, где правда была бы не на словах, а на деле, где справедливость царила бы всюду, всегда и для всех. Но такого лагеря не существовало нигде. Или мы не знали его» [55]55
Там же, т. II. стр. 130.
[Закрыть]).
И вот Достоевский ответил на эти духовные искания. Тимофеева–Починковская описывает впечатление, которое раз произвело на нее внезапно преобразившееся во время одной такой беседы лицо Достоевского:
«Я бессознательно, не отрываясь, смотрела на это лицо, как будто передо мной внезапно открылась «живая картина» с загадочным содержанием, когда жадно торопишься уловить ее смысл, зная, что еще один миг. и вся эта редкая красота исчезнет, как вспыхнувшая зарница. Такого лица я больше никогда не видала у Достоевского. Но в эти мгновения лицо его больше сказало мне о нем. чем все его статьи и романы. Это было лицо великого человека, историческое лицо.
Я ощутила тогда всем своим существом, что это был человек необычайной духовной силы, неизмеримой глубины и величия, действительно гений, которому не надо слов, чтобы видеть и знать. Он всё угадывал и всё понимал каким–то особым чутьем. И эти догадки мои о нем много раз оправдывались впоследствии.
Я не чувствовала малейшего утомления и придя домой в три часа, села записывать только что пережитые впечатления, Точно в них заключалось какое–то удивительное сокровище, которое надо было сберечь на всю жизнь. Но мне казалось тогда, что эти впечатления со временем вырастут во что–то большое и важное, что будет нужно и мне и другим» [56]56
Там же, т. II, стр. 132–133.
[Закрыть]).
А вот впечатления от публичного чтения им главы из «Братьев Карамазовых» на залу переполненную главным образом молодежью студенческого возраста:
«Он читал главу из «Братьев Карамазовых» – «Рассказ по секрету», но для многих, в том числе и меня, это было чем–то вроде откровения всех судеб… Это была мистерия под заглавием «Страшный суд, или Жизнь и смерть»… Это было анатомическое вскрытие больного гангреною тела, – вскрытие язв и недугов нашей притупленной совести, нашей нездоровой, гнилой, всё еще крепостнической жизни… Пласт за пластом, язва за язвой… гной, смрад… томительный жар агонии., предсмертные судороги… И освежаюшие, целительные улыбки… и кроткие, боль утоляющие слова – сильного, здорового существа, у одра умирающего. Это был разговор старой и новой России, разговор братьев Карамазовых – Дмитрия и Алеши.
Мне слышались под звуки этого чтения две фразы, всё объяснявшие мне и в Достоевском и в нас самих. Мне представлялось. как будто слушатели, бывшие в зале, сначала не понимали, что он читал им, и перешептывались между собою. :
– Маниак!… Юродивый!… Странный…
А голос Достоевского с напряженным и страстным волнением покрывал этот шепот…
– Пусть странно! пусть хоть в юродстве! Но пусть не умирает великая мысль:
И этот проникновенный, страстный голос до глубины потрясал мое сердце… Не я одна, – весь зал был взволнован, Я помню, как нервно вздрагивал и вздыхал сидевший подле меня незнакомый мне молодой человек, как он краснел и бледнел, судорожно встряхивая головой и сжимая пальцы, как бы с трудом удерживая их от невольных рукоплесканий. И наконец загремели эти рукоплескания…
Все хлопали, все были взволнованы. Эти внезапные рукоплескания, не вовремя прервавшие чтение, как будто разбудили Достоевского. Он вздрогнул и с минуту неподвижно оставался на месте, не отрывая глаз от рукописи. Но рукоплескания становились всё громче, всё продолжительнее. Тогда он поднялся, как бы с трудом освобождаясь от сладкого сна, и, сделав общий поклон, опять стал читать, И опять послышался таинственный разговор на странную, совсем не «современную», даже «ненормальную» тему…
Один говорил с ядовитой и страстной иронией. А другой отвечал ему с такой же страстной, исступленной лаской : «Я не мстить хочу! Я простить хочу!»
Мы слушали это с возраставшим волнением и с трепетом сердца тоже хотели «простить». И вдруг всё в нас чудодейственно изменилось : мы вдруг почувствовали, что не только не надо нам «погодить», но именно нельзя медлить ни на минуту…
Или – «чертова ахинея» и укусы тарантула, или «возьми свой крест и иди за мной!». Или «блаженны алчущие и жаждущие правды» и тогда «не убей», «не укради», «не пожелай».„ Или – ходи по трупам задавленных и рви кусок из чужого рта, езди верхом на других и плюй на всяческие заветы! А середины не существует и живое не ждет.
…Он кончил, этот «ненормальный», «жестокий талант измучив нас своей мукой, —и гром рукоплесканий опять полетел ему вслед, как бы в благодарность за то, что он вывел нас всех из «нормы», что идеалы его стали вдруг нашими идеалами, и мы думали его думами, верили его верой и желали его желаниями…
И если это настроение было только минутным для одних его слушателей, – для других оно явилось переворотом на целую жизнь и послужило могущественным толчком к живительной работе самосознания, неиссякаемым источником веры в божественное происхождение человека и в великие судьбы его всемирной истории. И эти слушатели имели право назвать Достоевского своим великим учителем, как это было написано на одном из его надгробных венков» [57]57
Там же, т. II, стр. 182–183.
[Закрыть]).
Так, хотя бы временно – чувствовало гораздо больше людей чем думали тогдашние литературные критики, чем многие думают и теперь. Об этом свидетельствуют восторженные встречи, устраивавшиеся ему молодежью при бесчисленных выступлениях его на публичных литературных собраниях с чтением вслух отрывков из своих произведений (особенно – в последние два года – из «Братьев Карамазовых»). Сам Достоевский, в одном из писем 1880 года, говорит, что не знает, что уже читать вслух: всё особенно подходящее для чтения вслух он уже перечитал. Особенно огромное впечатление производило чтение им вслух легенды о Великом Инквизиторе и главы «Pro и Contra». И мы также в достаточной степени знаем невероятно потрясающее впечатление произведенное его Пушкинской речью и чтением им на другой день в том же зале Благородного Собрания в Москве Пушкинского «Пророка». Мне рассказывал об этом один из присутствовавших при этом – тогда он был гимназистом 6–го класса, 15 лет.
Последнюю строфу «Пророка» Достоевский прочитал с ударением на слово «пророк» и «Моей». А слово «Жги» он бросил в толпу с невероятно неожиданной силой : это был как удар бича.
Но дело не в эмоциональных потрясениях. Жизнь нужно отдать в служение Правде, и не в минутных порывах, а в неуклонном жизненном служении. Это он внушает Тимофеевой:
«Вы будьте всегда (такой)! – внушительно строго сказал он. – Стремитесь всегда к самому высшему идеалу! Разжигайте это стремление в себе, как костер! Чтобы всегда пылал душевный огонь, никогда чтобы не погасал!… Никогда!
– И какая это дивная, хотя и трагическая задача – говорить это людям! – с жаром продолжал он, прикрывая на минуту глаза рукою. – Дивная и трагическая, потому что мучений тут очень много… Много мучений, но зато – сколько величия! Ни с чем не сравнимого… То есть решительно ни с чем! Ни с одним благополучием в мире сравнить нельзя!» [59]59
Достоевский в воспоминаниях современников, т. II, стр. 149–150.
[Закрыть]).
Это был призыв пророка. Так он понимал свое призвание и несовершенства и погрешности и недостатки («это кающийся» – сказали про него Оптинские старцы в 1879 г.), но, несмотря на всю эту примесь напр, личного самолюбия, на все личные несовершенства он отдавал свою жизнь на служение Высшей Правде и на проповеди о сострадании, не только о нашем, но и о Высшем Сострадании, Вошедшем в лир. И с этим он шел к молодежи.
3
И отсюда двойственность его отношения к молодежи. Он ее критикует и… любит. Она отталкивается от него, иногда ненавидит его и опять таки идет к нему. Здесь есть некое столкновение двух сил, и сюда в эти отношения к молодежи входит духовная борьба во имя Высшей Правды против сил зла и ненависти, характерная для его духовной жизни.
С большой отчетливостью выступает это горячее, любящее и потому и критикующее, потому и зовущее к Высшей Цели отношение к молодому поколению в письме его к Московским студентам от 18 апреля 1878 г. в ответ на письмо к нему [60]60
Подписанное шестью студентами Московского Университета : Ф. Самариным, Н. Д. Долгоруковым, П. Милюковым, Д. Некрасовым и двумя братьями Д. и С. Свербеевыми.
[Закрыть]). В этом письме он ясно излагает свою основную позицию. Он любит русскую молодежь, любит горячо и именно потому, что он ценит ее порыв и часто чистоту ее идеализма, он считает себя обязанным говорить ей правду:
«Никогда еще не было у нас. в нашей русской жизни, такой эпохи, когда–бы молодежь (как–бы предчувствуя, что вся Россия стоит на какой–то окончательной точке, колеблясь над бездной) в большинстве своем огромном была более, как теперь. искреннею, более чистой сердцем, более жаждущею истины и правды, более готовою пожертвовать всем, даже жизнью за правду и за слово правды. Подлинно великая надежда России! Я это давно уже чувствую, и давно уже стал писать об этом».
Но молодежь ищет не там, где нужно.
«И вдруг, что же выходит?» – продолжает Достоевский. «Это слово правды, которого жаждет молодежь, она ищет Бог знает где в удивительных местах».
«Никогда молодежь наша не была искреннее и честнее (что не малый факт, а удивительный, великий, исторический). Но в том беда, что молодежь несет на себе ложь всех двух веков нашей истории. Разрыв с средой должен быть гораздо сильнее, чем, например, разрыв по социалистическому учению будущего общества с теперешним. Сильнее, ибо. чтобы пойти к народу и остаться с ним, надо прежде всего разучиться презирать его, а это почти невозможно нашему верхнему слою общества в отношениях его с народом. Во–вторых, надо, например, уверовать и в Бога, а это уже окончательно для нашего европеизма невозможно» [61]61
Ф. М. Достоевский. Письма. Том IV, Москва. 1959. стр. 17 и 19.
[Закрыть]).
Здесь звучит несколько односторонняя славянофильская нотка, но в других местах Достоевский ярко свидетельствует, что и народ часто дик и безобразен и недостоин, но, по Достоевскому, народ и в грехах своих и в грязи своей знает, что есть святыня, хотя он и недостоин ее, и обращается к ней из глубины падений и из глубины покаяния своего. И в этом – его спасение [62]62
См. об этом напр, в «Беседах» старца Зосимы или в знаменитом очерке «Влас» в «Дневнике Писателя» за 1873 г.
[Закрыть]). Но молодежь отвергает святыню. Надолго ли? Навсегда ли? Достоевский верит, что она вернется к Тому, Кто есть спасаюшая Святыня для народа. К тому, что бесспорно свято и чисто и освящает жизнь своим присутствием, своим вхождением в жизнь мира («И Слово плоть бысть»), своим безмерным снисхождением в страждущей и состраждущей любви Своей. И этой Правде – не отвлеченной. а жизненной и реальной правде призвана служить и эта молодежь, столь жадно и искренно – и часто столь ошибочно, неверно, столь искаженно – ищущая Правды. Ибо Достоевский – мы знаем – не идеализирует однобоко эту молодежь. Он ярко рисует напр, крикливую, ограниченную, демагогически–революционную тупость (а иногда и внутреннюю пустоту и мелкую злобу) ряда ее представителей – так напр, в «Идиоте в «Бесах». В «Подростке» эта бурно кипящая в своих идеях и чувствах молодежь изображена более привлекательно. Достоевский видел обе стороны дела: и атмосферу злобной одержимости («Бесы»!) и, с другой стороны, чистоту и искренность исканий у многих и многих. И честная п искренняя молодежь поняла эту частную и суровую и духовно будяшую любовь к ней Достоевского, когда массами эта неспокойно бурливая молодежь шла за его гробом и провожала его до могилы, или когда приветствовала его так бурно и восторженно после его Пушкинской речи. Он кинул им суровые слова упрека и призыва и горячей будящей любви, и многие, многие – хотя бы полусознательно – откликнулись ему.
В Первом Послании Апостола Иоанна читаем:
«Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от Начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас и вы победили лукавого»… (2, 12–14).
Все возрасты согласно Апостолу призваны к общению с Богом и к познанию Его… и служению Ему. Но как–то особенно в его словах подчеркивается духовный динамизм, духовная активность юношей в борьбе за Правду против лукавого. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны и Слово Божие пребывает в вас и вы победили лукавого». Достоевский почувствовал, что в этом – духовное призвание молодежи и это дало ему силу со страстной любовью обличать ее и звать ее к служению любви. Его деятельность последние годы его жизни была в значительной степени призывом.
Достоевский может быть пророчески предчувствовал призвание и роль молодежи уверовавшей в Бога [63]63
См. об этом приведенное выше место из письма его к Московским студентам.
[Закрыть]) в грядущем духовном восстановлении России.
Миссионерская роль Достоевского среди молодежи оказалась гораздо более значительной, чем полагали (или еще полагают [64]64
Определенные отклики русской молодежи на проповедь Достоевского встречаются со всей силой именно в наши дни – эпоху величайших духовных (и внешних) кризисов и борений. Так в №1 (янв. 1971) журнала «Вече», выходящего В Москве «Самиздатом», следующим образом определяются направление и цели журнала: «…повернуться лицом к Родине… возродить и сберечь национальную культуру, моральный и умственный капитал предков… продолжить путеводную линию славянофилов и Достоевского»… (см. «Грани» №80 1971. стр. 108. курсив мой). Думаю, что призыв Достоевского, как некое духовное «бродило», как будящий голос религиозной совести, найдет все более отзвуков в молодежи, как России, так и всего мира.
[Закрыть]) многие, и я думаю, что она продолжается и теперь.
IV. О религиозном опыте Достоевского
1
Есть отдельные великие мыслители, художники, искатели и носители и свидетели жизни Духа, которые через длинную цепь веков близки нам и говорят нам о самом главном: о Божественной Действительности, как смысле этой нашей жизни. К ним принадлежит, напр. Данте с его восприятием красоты и любви земной, как только начальной ступени к Красоте и Любви Превосходящей, – или. напр., Паскаль с его ужасом перед безответной, молчаливо зияющей пропастью беспредельного мира («молчание этих бесконечных пространств меня ужасает») и свидетельством о просветлении жизни прорывом Божественного («Feu… Dieu сГAbraham, crlsaac et de Jacob et non des savants et des philosophes… Sentiments de joie, paix… Pleurs. pleurs de joie…»).
И еще ряд других пророков и свидетелей, подобных им. К этому числу принадлежит и Достоевский. Поэтому он и близок нам теперь, сейчас, через 150 лет после дня своего рождения – может быть, даже ближе, именно теперь нам, чем тогда своим современникам. Не потому, что мы особенно «созрели», а потому, что времена созрели и потому, что свидетельство его и пророчество проявилось в сзоей значительности и силе именно теперь – в «горниле» испытаний, пережитых Россией и миром после Достоевского. Времена стали мрачнее, страшнее; вспышки света тем ярче.
У Достоевского два основных свидетельства: о смысле мира и жизни – в раскрывшейся тайне бесконечного снисхождения, более того —самоотдания Любви Божией, и о смысле страдания. Второе непосредственно связано с первым.
Достоевский все снова и снова созерцает эту тайну и свидетельствует о ней, каждый раз переживая ее всей глубиной своей души, всем страданием и вопрошанием своим, перед которым вдруг, все снова и снова раскрывается ответ: Встреча с Богом. С любящим, страдающим, побеждающим в Своем страдании и силе Своего воскресения – прощающим Богом. В этом, ведь, – конечный смысл «Легенды о Великом Инквизиторе», которая сама ведь увенчивает знаменитый диалог «Pro и Contra» между двумя братьями о Боге.
Встреча с Богом, объединение с Ним, захваченность, покоренность Его любовью, Его захватившей меня, раскрывшейся мне, покорившей меня Превозмогающей Действительностью – вот ответ, вот – смысл жизни и бытия вообше, вот – ответ на страшный вопрос о страдании. На него не может ответить обещание будущих благ: «слишком дорогой билет». Но Он, покоряющий меня, и Сам страдающий – до глубины, до невообразимой глубины – может раскрыться мне именно в Своем страдании, в Своем крайнем, смиренном, «отдающем Себя» и имеющим власть простить меня и захватить душу мою, любящем страдании, и победить меня Своею Любовью, и .исполнить меня Своей Любовью. Вот тут – преодоление и страдания и смерти, уже теперь, в этой внутренней встрече моей с Ним раскрывается мне победная, смиренная, умиляющая и покоряющая сила Его, Божественная Действительность Его и победа Его над смертью. Это пережил Алеша в этом ключевом камне или венце всего творения Достоевского, в его главе о Кане Галилейской. Алеша, заснузший на коленях в келлии почившего старца Зосимы под монотонное чтение Евангелия над его гробом, вдруг видит себя перенесенным на брак в Кане Галилейской. Он слышит голос живого и преображенного, стоящего рядом с ним, старца Зосимы:
«Веселимся, – продолжает сухонький старичок, – пьем вино новое, вино радости новой, великой; видишь, сколько гостей? Вот и жених и невеста, вот и премудрый Архитриклин, вино новое пробует. Чего дивишься на меня? Я луковку подал» вот и я здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке… Что наши дела? И ты, тихий, и ты, кроткий мой мальчик, и ты сегодня луковку сумел подать алчущей. Начинай, милый, начинай, кроткий, дело свое! … А видишь ли Солнце наше, видишь ли ты Его?
– Боюсь… не смею глядеть… – прошептал Алеша.
– Не бойся Его. Страшен величием пред нами, ужасен высотою Своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился п веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на зеки веков. Вон и вино несут новое, видишь, сосуды несут…»
Вино Вечной Жизни!
Такой же отблеск встречи с Господом и Спасителем схвачен Достоевским в конце знаменитого сна Версилова в «Подростке». Версилов описывает свои странствия по Европе и видит, как она все более и более отходит от своей христианской традиции, от своей веры, от сзоих духовных ценностей, вытекающих из зеры в Бога. Идет воинствующий поход на веру в Бога. И сердце его сжимается от боли в знаменитом его зешем сне, который он рассказывает своему сыну – «подростку» в минуту душевных излияний. Кончилась борьба после «комьев грязи и свистков». Наступило затишье и люди остались одни. Великая прежняя идея остазила их, тот «великий источник сил, до сих пор питавший и грезший их»… II они вдруг почузствовали, что они остались о д н и . что они осиротели. И эта любовь их. которая была устремлена на То Высшее, что давало смысл зсей жизни, зсему бытию, устремилась теперь на зсе окружающее – «на природу, на мир, на людей, на каждую былинку». И особенно Друг на друга. С нежной любовью они спешат прижать друга друга к сердцу, послужить друг другу, с нежностью обнять друг друга, зная, что все проходит без зоззрата, и они сами и их любовь. «Ибо исчезла великая идея бессмертия», любовь к Тому, «Который и был Бессмертие».
«О. они торопились бы любить, чтобы затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть…»
(Часть II, глава 7–ая).
Как это похоже на современное американское «богословие» о преодолении исчезнувшей веры в Бога «Death of God» Hamilton’a, и других. Кстати, богословие, расцветшее 5 лет тому назад и уже отцветшее [65]65
См. об этом мою статью “Религиозный кризис” в майской книжке журнала “Возрождение" за 1970 г.
[Закрыть]).
Но у Версилова его вещий сон тут не кончается. Сам он называет себя русским европейцем, «деистом», но какой он «деист»! Он – один из многочисленных аспектов того, что является духовной сущностью самого Достоевского. Перед нами страстный, слабый, грешный человек, свой взор с ревнивой любовью устремляющий к единому Источнику силы и восстановления – Христу, Божественному Дарователю победы над смертью.
«… Замечательно, что я всегда кончал картинку мою видением, как у Гейне, «Христа на Балтийском море». Я не мог обойтись без Него, не мог не вообразить Его. наконец, посреди осиротевших людей. Он приходил к ним простирал к ним руки и говорил: «Как могли вы забыть Бога?» И тут как бы пелена упала со всех глаз и раздавался великий восторженный гимн нового и последнего воскресения…»
Это созерцание Христа – центр духовной жизни и духовной силы и любви и веры Достоевского. Как в перво–христианском благовестии, как у апостола Павла: «Мы же проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же спасаемых – Христа, Божпю Силу и Божию Премудрость». (1 Кор., 1,23). В этом – вся суть, все содержание христианства вообще.
2
В этом – суть и для Достоевского. Об этом говорит и его усиленная молитва умиленного, напряженного созерцания [66]66
См. Воспоминания его второй жены Анны Григорьевны, рожд. Сниткиной.
[Закрыть]), и его «ревнивая любовь» к образу Христа в самые различные периоды жизни, с колебанием в ударениях, толкованиях, оттенках, но неизменная, напряженная захватившая его любовь, как к Тому, Кто является его опорой и основанием и источником силы и осмыслителем мира и жизни.
Даже в эпоху еще полу–позитивистического, казалось бы, миросозерцания – первые годы после освобождения его из каторги – он так чувствует. И с какой силой чувствует! Вспомним его знаменитое, полное, казалось бы, парадоксальности, письмо к жене декабриста Фонвизина (пославшей ему Евангелие в самом начале заключения его в острог; он четыре года держал его под подушкой на своих нарах). Это письмо начато им через несколько дней после освобождения из «Мертвого Дома».
«…Скажу Вам, что в такие минуты жаждешь, как «трава иссохшая», веры, и находишь ее, собственно потому, что в несчастии яснеет истина. Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю, и нахожу, что другими любим, и в такие то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее. разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но – с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». (№ 61. февр. 1854 г.).
Мы видим, что письмо полно отзвуков борений, мучительных сомнений, что этот человек болеет, мучится этими проблемами. что для него это – вопрос жизни. И иногда он получает на это в душе свой ответ. Но и этот ответ не спокойное догматическое исповедание. Он – больше, он – выражение страстной, себя не вполне даже сознающей, выраженной в форме часто практических оценок, и вместе с тем огромной, утверждающей себя наперекор всем «разумностям» людским, любящей, ревниво любящей, покоряющей веры. Огромной и сильной веры, полускрытой в мнимо–агностических (т. е. как будто отказывающихся от окончательного ответа) выражениях.
Нет, ответ дан. И выбор – несмотря на все сомнения – сделан. Ибо это – не вывод мысли, а контакт с Реальностью, Которая выше и больше меня. Так чувствовал Достоевский, и все больше, с прохождением лет, по мере роста своего опыта духовного. Это он выразил между прочим в своих замечательных «Материалах к Бесам», изданных впервые в 1929 году под редакцией профессора Комаровича в Германии, в издательстве Piefrer’a – и при том на немецком языке, с согласия Советской власти (ибо по–русски большевики тогда еще не позволили их издать). С тех пор, и особенно после превосходной книги Мочульского, эти записи Достоевского часто цитировались, но сила и четкость их формулировки так велики, что нельзя о них не вспомнить.
«Дело в настоятельном вопросе: можно ли веровать, быть цивилизованным, т. е. европейцем, т. е. веровать безусловно в божественность Сына Божия Иисуса Христа? (ибо вся вера только в этом и состоит)».
И далее: «Источник жизни и спасения от отчаяния всех людей и условие для бытия всего мира заключается в трех словах: «Слово плоть бысть», и в вере в эти слова» [67]67
Бесы. Изд. YMCA–PRESS. стр. 787.
[Закрыть]).
Мы знаем, как богаты и письма, и интимные записи Достоевского, и черновые наброски («материалы») к его произведениям и замыслам и «Братьев Карамазовых» и «Бесов» и «Идиота», а образ Зосимы и образ Макара Ивановича (в «Подростке») и образ князя Мышкина (в «Идиоте»), и отчасти уже повествование «Записок из Мертвого Дома» – полу–скрытого (или более явного) христоцентризма. Ответ на предчувствуемую, предугаданную безобразную русскую революцию, воспринимаемую, как вселение «бесов» в тело и душу русского народа, дается только в слове силы Того, Кто «легион» бесов изгнал из бесноватого в земле Гадаринской.







